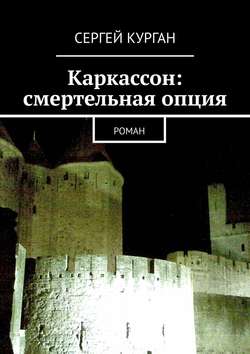Читать книгу Каркассон: смертельная опция. Роман - Сергей Курган - Страница 3
ГЛАВА 2: ШВЕЙЦАРСКИЕ КАНИКУЛЫ
ОглавлениеПронзенный стрелой, лев лежал на боку, сложив свои некогда могучие, но теперь бессильные лапы. Он умирал. Всё его тело напряглось в пароксизме мучительной боли, а лицо (язык не поворачивался назвать это мордой) выдавало такие страдания, что сжималось сердце.
Теперь, когда Аня видела памятник собственными глазами, у нее уже не возникало вопросов о том, почему Серж так настойчиво рекомендовал его посмотреть.
– Найдите возможность заехать в Люцерн, – говорил он. – Город и вообще стоит того. Но памятник нужно посмотреть обязательно. Когда увидите, поймете почему. – Он прав, как всегда, – подумала Аня. – Такое действительно надо видеть. Это изваяние настолько трогало душу, что оторвать взгляд от него было нелегко.
– Да, – произнес Макс, глядя на скульптуру, – это сильно. Это ж надо было суметь – такое изваять. Такое ощущение, что он не из мрамора, а из мяса и костей.
– А это уже не мрамор, – не отрывая глаз от изваяния умирающего льва, задумчиво проговорила Аня.
«Умирающий лев» – памятник швейцарским гвардейцам в Люцерне. Скульптор: Бертель Торвальдсен
– То есть? – удивился Макс, посмотрев на нее. – Ты о чем?
– Это был мрамор, когда-то, – ответила она, – а теперь он стал одушевленным. Ты разве не чувствуешь?
– А, вот ты про что… Это конечно. Ясно теперь, почему твой Серж советовал его посмотреть.
– Почему «мой»? – Аня почувствовала раздражение: Макс опять начинал ее «грузить».
– Ну хорошо, хорошо, не твой, – пошел он на попятную. – Не твой, не мой. Ничей. Всё, оставили тему.
– Оставили, – с облегчением произнесла Аня.
Она не могла не заметить, что Макс изменился: занудство не пропало, но как-то… смягчилось что ли? Он явно старался избегать «выяснений» и всего такого.
– Я только хотел сказать, что они знали, к кому обратиться, эти швейцарцы, – добавил он.
– В смысле, кому заказать памятник?
– Ну да. Ты говорила, что это какая-то знаменитость, так?
– Да, – Аня кивнула. – Это Торвальдсен.
В действительности Серж назвал его «величайшим скульптором своего времени», и Аня хотела было уже сослаться на него, но прикусила язык: чтобы не провоцировать Макса.
Бертель Торвальдсен (1768 – 1844)
– Торвальдсен? – переспросил Макс. – Он что, швед?
– Нет, датчанин. Точнее, даже не датчанин, а исландец. По происхождению.
– Исландия – страна гейзеров, ледников, викингов и селедки, – хихикнул Макс.
– Почему селедки? – удивилась Аня.
– Ты что, никогда не ела исландскую сельдь? И не слыхала про нее?
– Ты знаешь, я не имею привычки читать этикетки. Мне как-то всё равно, откуда что. Селедка и селедка.
– Ну ты даешь! – Макс смотрел на нее с иронией. – И это говорит человек, который вот-вот станет специалистом по международной экономике.
Аня вспомнила, как оказалась в очень похожем положении в разговоре с Сержем: она была не в курсе, что бренд «Бентли» принадлежит концерну «Фольксваген». И Серж тогда, просветив ее на этот счет, заметил, что «человеку, планирующему заниматься международной экономикой, эта информация не повредит». И тоже взглянул на нее иронически. Правда, взгляд Макса был другим: хоть Макс и старался придать ему оттенок этакого утонченного сарказма, всё равно он оставался каким-то… бесхитростным. Взгляд Сержа был совсем иным: за ним читалось столько планов и подтекстов, там была такая глубина и такая усталость! Многовековая усталость… Аня поежилась, словно на нее повеяло холодом.
А насчет международной экономики…
– Знаешь, – ответила она Максу, – профессия – это одно, а просто повседневная жизнь – это другое. И не надо это всё смешивать в одну кучу. И что у мужиков за манера, учить жить? В конце, концов, я не на работе, у меня каникулы.
Так оно и было: долгожданные каникулы наконец-то наступили. Практика в Dumont International Inc. – холдинге Сержа, которую Аня недавно прошла в головном офисе в Женеве, была действительно интересной: «Дюмон» был по-настоящему инновативной компанией и находился на переднем крае современных технологий. Так что скучать не приходилось: работа была увлекательной. Но ее было много, и утомление, накапливаясь, всё более давало о себе знать. Отдых был насущно необходим.
Провести каникулы они с Максом решили на этот раз в Швейцарии – Аня давно об этом мечтала. И вот, только она почувствовала, что начала «отходить» от работы и всей этой суеты вокруг нее, как Макс тут как тут со своими ценными замечаниями…
– Могу я расслабиться? – добавила она.
– Можешь – можешь! – поспешил заверить Макс. – Всё – молчу. Побоку мировую экономику! Так что этот исландец, как его?
– Торвальдсен. Бертель Торвальдсен.
– Замечательно! И что он?
Раздражение Ани пошло на убыль. Она успокоилась и миролюбиво продолжила:
– Короче, его отец родился в Исландии и был резчиком по дереву.
– Наследственное, значит.
– Да, пожалуй. А Исландия тогда принадлежала датчанам. И его отец перебрался в Данию, в Копенгаген. И тогда стал Торвальдсеном.
– А до этого как же? Жил без фамилии, что ли?
– Вот именно – без фамилии.
– Не понял. Это как?
– А вот так: у исландцев, как правило, фамилий нет.
– А что вместо них?
– Вместо них – отчества.
– Забойно! – удивился Макс. – Это типа «Петрович», «Михалыч», что ли? «Сан Саныч»?
– Представь себе, да, – рассмеялась Аня – настроение опять поднялось. – В Исландии народу мало, они и так обходятся. Ну, скажем, если мужик, то «сон», то есть сын. Например «Германссон» – значит, сын Германа.
– «Германыч», – веселился Макс. Все-таки умеет он создать… как это сказать? Комфортность в общении.
– Именно, – ответила Аня. – А если женщина, то «доттир».
– Ну, это ясно: дочь.
– Да. И его отец тоже: был Торвальдссон.
– То есть, Торвальдом звали деда этого самого скульптора, так?
– Ну да, выходит так. В общем, его отец сделал это фамилией, и так, чтобы это звучало по-датски: Торвальдсен. А сам Бертель Торвальдсен родился уже в Копенгагене. Учился там, но после учебы уехал в Рим. И прожил там сорок лет!
– Оба-на! Так он уже, скорее, итальянец. И что им всем так дался этот Рим? И вообще, Италия? Медом там, что ли, намазано?
– О, любимое выражение Максика! – произнесла Аня не без едкости. – Медом нигде не намазано. Просто Италия, особенно Рим – это античная классика, основа европейской культуры. Плюс Возрождение. Увидеть всё это своими глазами и прочувствовать считалось обязательным для художника или скульптора. Поэтому все, у кого была такая возможность, путешествовали по Италии. А многие и жили там подолгу, в том числе и русские.
– Ну, это-то понятно: климат там получше, чем в Вологодской губернии.
Аня вздохнула: ну что с ним сделаешь? Непременно всё превратит в хохму с эдаким легким налетом цинизма. А может, он так защищается от агрессии? Я ведь на него малость «наехала».
– Ну и климат тоже, – сказала она примирительно. – Что тут такого? Но не это главное. Торвальдсен, между прочим, считал день своего приезда в Рим своим настоящим днем рождения.
– Вот даже как. И что он ваял?
– Статуи, Макс. Статуи. Что еще может делать скульптор?
– Да? Очень интересно! – Макс сделал большие глаза.
– Он ваял, – ответила Аня, – а ты валяешь. Дурака.
– Вот такой я шут гороховый, паяц. То есть, виноват, паяццо. Паяццо живет в палаццо, – продолжал выдрючиваться Макс.
– Насчет паяца – это точно. Не без этого.
– И он, наверное, высекал богов и героев, да?
– Представь себе, да. И пользовался в свое время всеобщим признанием.
– Заказы так и сыпались со всех сторон…
– Сыпались. Но… Ты же знаешь, есть художники или писатели, которых высоко ценили при жизни, но охаяли после смерти. Так случилось с Торвальдсеном. Его упрекали в холодности и бездушности.
– Холодности?! Кого? Они что, мухоморов переели, что ли? Да они вот этот памятник видели?!
– Не знаю. Но что с них взять? Это же искусствоведы.
– Им закон не писан?
– Им не писан. Они сами считают себя законодателями вкуса.
Макс раздраженно хмыкнул.
– А бывает наоборот, – вздохнула Аня, – при жизни ни во что не ставили, зато после смерти подняли на пьедестал…
– Кому нужно такое признание? – перебил Макс.
В свое время Аня сама задала точно такой же, как ей казалось, чисто риторический вопрос Сержу. Серж, однако, не счел его риторическим – он посмотрел на Аню со своей бесподобной иронией и ответил неожиданно:
– Вы даже не подозреваете, Анечка, – сказал он, – насколько ваш вопрос, как это по-русски? А! – В точку. Вы думали, что задаете риторический вопрос, а на самом деле вы задали вопрос по существу и абсолютно точно его сформулировали. Именно – кому это нужно?
– Что вы имеете в виду? – спросила она.
– То и имею: именно, что это кому-то нужно! Мне попалось как-то стихотворение вашего русского поэта Маяковского, в котором были такие слова: «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Очень сюда подходит! Так кому нужно зажигать «звезды», которые уже отгорели? Зажигать, а затем раздувать этот огонь до несусветных размеров? Как говорят на современном сленге, «распиаривать»?
– Так кому же?
– Не понимаете? Да тому, кто при жизни какого-нибудь бедолаги-художника, прозябавшего в нищете, скупил его картины по-дешевке, или вообще заполучил ни за что. Ну, может, в обмен на обед или на кров в какой-нибудь вшивой мансарде. И этот бедняга-художник был ему еще и признателен. Считал его своим благодетелем. А тот говорил ему что-нибудь вроде: «Твои картины, конечно, никто, кроме меня, не купит. Они не пойдут. Их продать – дело безнадежное. Но мне они кажутся ничего себе так: я повешу одну или две… В прихожей… Нет, в столовой. Пожалуй, я возьму… мм – вот эту. И еще – … Да, вон ту, красненькую. По-моему, она получилась неплохо. Что-то в ней такое есть.» И нищий художник готов ему руки целовать. «– А эти возьму впридачу, ладно?» А когда бедняга умрет, тогда… Ну, Аня, право же! Вы же занимаетесь экономикой!
– Тогда он, пользуясь своими деловыми связями, устраивает покойнику промоушен, понимаю. Пиарит его. Цены на картины умершего художника взлетают до небес, а у него…
– Совершенно верно! Только нужно оговориться, что «пиарит» он творчество покойного не своими, так сказать, устами и пером.
– А нанимает других.
– Ну зачем так грубо! То есть, конечно, кого-то и просто нанимает, да. Но он использует и более тонкие методы: действует через известных специалистов, авторитетов, так называемых «искусствоведов». По-моему, называть себя этим словом – это слишком большая претензия. «В искусствоведческих кругах»… Ох уж мне эти круги. Знаете, Аня, я в данный момент жалею, что слишком хорошо воспитан, для того чтобы точно охарактеризовать этих господ.
Выражение глаз Сержа, когда он говорил про «искусствоведов», надо было видеть! В нем смешались презрение, издевка, непередаваемый сарказм и откровенная неприязнь.
– А заодно, – продолжил он, – и через всяких знаменитостей. Их он, конечно, не нанимает – это слишком прямолинейно и может оскорбить этих амбициозных персон. С ними вообще работать тяжело – с их непомерно преувеличенным самомнением. Поэтому с ними нужно дейстовать аккуратно, тонко. В общем, морока, конечно. Но что тут сделаешь? Бизнес! Их нередко приходится покупать не впрямую и порой даже не непосредственно за деньги, а за некие услуги, содействие или рекламу. И в любом случае, с ними надо всё время цацкаться: не забывать потакать их болезненно раздутому самолюбию, восхищаться ими, демонстрировать знаки преклонения и тому подобное. И всё это, помимо прочего, стоит денег. Но это окупается.
– Ну да. Понимаю. Имя умершего художника оказывется «на слуху». Все начинают о нем говорить. А сам этот человек вроде бы и ни при чем. Это как будто исходит не от него, так? Просто вдруг, совершенно случайно, он обнаруживает, что у него…
– Вот именно! Вы умница, Анечка. У него – ну надо же! – «завалялось» целое собрание картин непризнанного при жизни гения.
– При жизни никто в нем гения не разглядел. А теперь все «прозрели» и видят это…
– Абсолютно верно! Так было, например, и с Модильяни, и с ван Гогом. Все разом узрели: ну гений! Чисто гений! И смотрите, какая прелесть: во-первых, чистому гению уже ничего не нужно платить, так как он мирно почил на кладбище. А во-вторых, этот же бизнесмен от искусства, помимо того, что становится обладателем, мягко говоря, очень больших денег, еще и оказывается благодетелем человечества: ну как же! Ведь он сохранил для нас бессмертные творения несчастного Гения! Да еще и, чуть ли не единственный, поддерживал и подкармливал нищего Гения при жизни. Из чистого альтруизма, разумеется. И его имя фигурирует в книгах и учебниках рядом с именем спасаемого им непризнанного современниками, но великого Художника. Никто не видел в его творениях ничего гениального, а он углядел! В общем, кругом профит!
Аня глубоко вдохнула и отбросила со лба прядь непослушных волос. Ей стало грустно.
– Кому нужно такое признание, спрашиваешь? – произнесла она, глядя на Макса. – Значит, кому-то нужно. – Она отвернулась и добавила: – Пошли, Макс, посмотрим остальное.
Они вышли к Фирвальдштеттскому озеру, на берегах которого, у подножья горы Пилатус, удивительно живописно расположился Люцерн. Вид города, у воды, в окружении гор, был в самом деле очень красив. Редко в какой стране можно встретить столько великолепных ландшафтов, как в Швейцарии: сочетание глубокой синевы воды многочисленных озер, богатой зелени лесов, лугов и виноградников, дикой черноты скал и ослепительной белизны ледников порождает несравненный по силе воздействия эффект.
Вид Люцерна: река Ройсс, водонапорная башня и мост Капелльбрюке, а спава видна башня Ратуши.
– Ну и названьице у этого озера! – воскликнул Макс. – Язык сломаешь. Vierwaldstaetter See: «озеро четырех лесов». Или как это понимать?
– Это значит: «Озеро четырех лесных кантонов», – ответила Аня рассеянно, всё еще не «вынырнув» из своих грустных размышлений. – Швейцария – это ведь федерация 26 кантонов.
– А здесь их, значит, четыре?
– Да, здесь зародилась Швейцария еще в 13 веке. Три первоначальных кантона образовали в 1291 году «Вечный союз» для борьбы против Габсбургов, к которому потом присоединились остальные. И первым присоединился Люцерн: три плюс один – стало четыре. Отсюда и название.
– Ты – просто ходячая энциклопедия, – заметил Макс, с улыбкой глядя на Аню. – Всё-то ты знаешь: с тобой уж на чем-на чем, но на экскурсоводах точно можно сэкономить.
– Ну вот, видишь! Наше совместное предприятие может оказаться рентабельным.
– Непременно окажется! – заверил в ответ Макс, продолжая улыбаться.
Он обвел взглядом пейзаж.
– Значит, говоришь, в 1291 году? – произнес он.
– Да, 1 августа.
Макс расхохотался.
– В полпятого вечера, – с трудом проговорил он сквозь смех.
Аня рассмеялась тоже, и они какое-то время хохотали дуэтом, не в силах остановиться.
– А вообще, – спросил Макс, досмеиваясь, – откуда такая точность?
– А это не точно – это предание.
– Что – предание? Весь этот союз?
– Нет, союз не предание, просто дата легендарная. Так считается: надо же когда-то годовщину отмечать, правильно?
– И они отмечают ее 1 августа?
– Да – это национальный праздник.
– Из каких источников такая осведомленность? Из интернета?
– В основном, да – из Википедии: я специально почитала перед поездкой. Ну и потом, я ведь три месяца прожила в Женеве.
– Понятно. А это что за диво такое? – спросил Макс, показывая на длинный крытый деревянный мост, змеящийся от одного берега озера до другого и в одном месте соприкасающийся с башней, возвышающейся посреди воды.
– А, это и есть главные достопримечательности Люцерна, его символы – старинная водонапорная башня и мост Капелльбрюкке. Кстати, самый старый крытый деревянный мост не то в мире, не то в Европе, точно не помню.
– Ай-ай-ай! – Макс скорчил досадливую мину. – Какой вопиющий пробел в образовании! «Точно не помню» – безобразие! И в каком году его построили, конечно, тоже не помнишь. Что делается…
– Ты, наверное будешь смеяться, но год я помню. Его очень легко запомнить: 1333.
– И сдали его в эксплуатацию 1 августа – в честь праздника, в четверг, в 15:00. Акт сдачи прилагается.
– Ага, – ответила Аня, подхватывая тон, – в четверг – сразу после дождичка.
И оба разразились хохотом. Аня смеялась беззаботно, с легким сердцем, ощущая себя почему-то удивительно комфортно и непринужденно. Эти швейцарские каникулы определенно удались!
И в этот момент ожил Анин мобильник. Аня досадливо поморщилась.
– Кто же это может быть? – с раздражением подумала она. – Я ведь всех предупредила, чтобы нас с Максом не дергали без крайней необходимости. Неужели что-то случилось?
Она выхватила аппарат из сумочки и взглянула на табло, на котором высветилось: S. Dumont. Вот как!
– Кто это? – спросил Макс: на лице у него было написано любопытство, смешанное с обеспокоенностью.
– Серж. За три года он звонит мне только во второй раз, – ответила Аня и нажала на кнопку соединения.
– Я здесь. Здравствуйте, Серж, – проговорила она.
– Здравствуйте, Аня.
Хорошо знакомый бархатный баритон Сержа звучал на этот раз как-то глухо. В нем чувствовалось напряжение. Это было заметно даже по такой короткой фразе.
– Вы в данный момент чем-то заняты, или мы можем говорить прямо сейчас? – спросил он.
– Я ничем не занята, Серж. У меня ведь каникулы.
– Да-да, каникулы, – произнес он печально. – Я знаю. Не могу не сказать: заслуженные каникулы. И я надеюсь, что вы успели хотя бы немного отдохнуть, потому что я хочу попросить вас прервать ваш отдых и заняться одним неотложным делом, с которым лучше всего можете справиться именно вы. … Вы меня слушаете?
– Да, Серж. Я слушаю.
– Поверьте мне, Анечка, что это абсолютно необходимо – иначе я ни за что не стал бы вас дергать. И, к тому же, это срочно.
– Да, Серж, я поняла.
– Значит, каникулы закончились, – грустно подумала Аня. Но тут же она почувствовала, как в ней загорается знакомое пьянящее предвкушение чего-то необычайного, из ряда вон выходящего. Уж кто-кто, а Серж по пустякам ее беспокоить не стал бы. Чудеса продолжаются?
– Помните, – добавил он, – как на презентации в Лувре я вам сказал, что теперь могу рассчитывать на вас в важных вопросах?
– Конечно, помню, Серж. Я готова, если нужно…
– Но что? – спросил он, моментально уловив в ее тоне сомнение. – Вы не одна, так?
– Да.
– Вы с Максом?
– Да, и…
– Это очень хорошо! – перебил Серж. – Я на это и рассчитывал. Макса берите с собой, если, конечно, он не против.
– Я не против, – вставил Макс и, выразительно глядя на Аню, пояснил: – Ты включила громкую связь.
Надо же! А она и не заметила.
– Отлично! Здравствуйте, Макс. Рад с вами познакомиться. Значит, вы слышали весь разговор. Тем лучше.
– Здравствуйте, господин Дюмон.
– Хм.. Вы где сейчас?
– В Люцерне, – ответил Макс. – На этом знаменитом мосту, ну, самом древнем в мире. Как там…
– Капелльбрюкке, – отозвался Серж, – понятно. Только он был самым древним деревянным мостом не в мире, а в Европе. Самый древний деревянный мост в мире находится в Японии.
– А почему «был»?
– Потому что тот, на котором вы стоите – это реконструкция. Подлинный мост сгорел в 1993 году.
– Вот как! – Макс лыбился, глядя на Аню.
– Да, – продолжил Серж, – Но к делу. То, что вы в Швейцарии, это очень хорошо. Я прошу вас прибыть ко мне, срочно. Желательно сегодня же.
– К вам, это куда, Серж? – спросила Аня: она уже перенастроилась на новые обстоятельства, отбросив сожаления о прерванных каникулах.
– Ко мне домой, в Невшатель, – ответил он. – И не трудитесь искать подходящий транспорт – я пришлю за вами… Аня, вы как переносите вертолет?
– Опаньки! – прокомментировал Макс.
– Не знаю, Серж, – ответила она, – я ни разу не пробовала. Вы пришлете за нами вертолет?
– Да, на таком расстоянии это оптимальный вариант. Будем надеяться, вы перенесете полет нормально. На машине долго, а время дорого.
– Понятно, – вздохнула Аня.
– Итак, вы на мосту: ближе к какой стороне?
– К той, где Центр Конгрессов.
– Отлично! Так, сейчас…13:25, – Серж, очевидно, глянул на свои часы – те самые, с бриллиантами… – Ровно через 10 минут к этому концу моста подъедет микроавтобус с логотипом «Дюмон». Он отвезет вас в ваш отель, а оттуда – на вертолетную площадку. Вы всё поняли?
– Да, Серж. Всё понятно.
– Хорошо. Я жду вас.
И он отключился.
– Ну что, Макс? – сказала Аня. – Осталось 10 минут каникул. Чем займемся?
– Будем целоваться, – ответил Макс.– На фоне Альп. Потом, старичками, будем вспоминать, шамкая губами: – А помнис, как мы селовалис в Люсерне? На погорелом мосту?
– Нахал! Кто это будет шамкать?
– Ладно, никто.
– Правильно! Никто не бу…