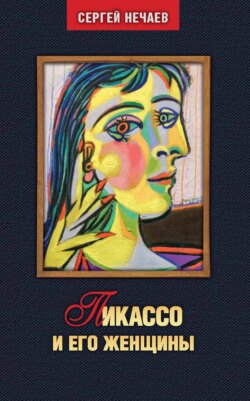Читать книгу Пикассо и его женщины - Сергей Нечаев - Страница 4
Глава первая
Знакомство в Риме
ОглавлениеОльга Хохлова и Пабло Пикассо познакомились в Риме ранней весной 1917 года. Конечно, время для начала любви это было не самое подходящее. Уже почти три года шла Первая мировая война, где-то рвались снаряды и тысячами гибли люди.
Чтобы было понятно, 3 августа 1914 года Германия объявила Франции войну, обвинив ее в «нарушении бельгийского нейтралитета». На следующий день, перейдя бельгийскую границу, германская армия двинулась вперед и через две недели вышла к французской границе.
Потом, в войну, одна за другой стали втягиваться другие страны. А 14–24 августа англо-французские войска потерпели тяжелое поражение в Арденнах, потеряв около 250 тысяч человек, и немцы широким фронтом вторглись на территорию Франции. Испуганное правительство бежало в Бордо. Но для быстрого завершения операции по окружению Парижа у германского командования просто не хватило сил. Немецкие войска, пройдя с боями сотни километров, сильно вымотались и стали жертвой контрудара французской группировки, сосредоточенной для обороны столицы. Так началась знаменитая битва на Марне, в которой союзникам удалось переломить ход военных действий и отбросить противника на 50–100 километров назад.
Однако уже в 1916 году Германия решила нанести новый удар на Западе, чтобы окончательно вывести Францию из войны. В результате началось Верденское наступление, продолжавшееся около десяти месяцев. Эта самая крупная и продолжительная операция Первой мировой войны стоила противоборствующим сторонам огромных жертв – до одного миллиона человек. В верденской «мясорубке» было «перемолото» до 120 дивизий, в том числе 69 французских и 50 немецких.
Падение Верденских укреплений приводило к нарушению системы французской обороны и открывало немцам прямой путь на Париж…
* * *
В подобных обстоятельствах в Париже стало совсем неуютно, тревожно, просто опасно.
Французский писатель Жан-Поль Креспель, специалист по артистической жизни Монмартра и Монпарнаса, рассказывает:
«Начало военных действий между Францией и Германией стало неожиданным финалом первого акта большого монпарнасского шоу – занавес опустился. Как и во всей Франции, здесь тоже замерла жизнь. <…> В домах уехавших на фронт художников расположились семьи беженцев с севера, со своими невзгодами. В течение четырех лет улицы оставались опустевшими, еще более зловещими по ночам из-за фиолетового света фонарей, затемненных для того, чтобы цеппелины и “таубы”[1] не могли по ним ориентироваться…
Население, особенно старики и дети, находилось в крайней нужде, тем более что службы социальной помощи только зарождались, и многие стыдились туда обращаться. Семьи рабочих, ремесленников, мелких торговцев и служащих страдали от голода, но еще больше – от холода. Словно лишений и скорби по ушедшим было недостаточно, военные зимы выдались на редкость суровыми и холодными. Уголь превратился в такую же роскошь, как бриллианты, и перед специально созданными пунктами распределения выстраивались нескончаемые очереди.
Люди стояли часами на ветру, под дождем, чтобы увезти на какой-нибудь тачке или тележке пятьдесят кило отвратительных брикетов из угольной пыли, торфа или соломы. Париж получал немного угля из Англии и Севенн, но его передавали в госпитали, государственные учреждения, школы и наиболее нуждавшиеся солдатские семьи. <…> В своих мастерских с тоненькими перегородками и плохо заделанными окнами, которые и в нормальное-то время плохо прогревались, монпарнасцы просто погибали от холода. Чтобы отогреть руки и продолжать держать кисть или резец, художники сжигали скомканные рисунки».
Многие друзья Пикассо ушли на фронт: Жорж Брак, Андре Дерен, Морис де Вламинк… Даже поэт Гийом Аполлинер (Вильгельм Костровицкий), который не подлежал мобилизации, «добровольцем явился на пункт городской» и стал одним из «новобранцев, утративших имя». Он встретил войну с восторгом, стремясь доказать, что является не польским эмигрантом, а настоящим французом. Все были уверены в том, что в такой момент отсиживаться дома – это недостойно мужчины.
Жан-Поль Креспель продолжает свой рассказ:
«В течение двух дней, предшествовавших началу военных действий, монпарнасские улицы походили на развороченный муравейник. Люди, словно обезумев, метались во всех направлениях.
Уже утром 30 июля стало ясно, что конфликт неизбежен. Перед продуктовыми магазинами образовались огромные очереди. Повинуясь древнему инстинкту, люди торопились сделать запасы: ходили слухи, что в лавках не будет продуктов. <…> Точно так же осаждали банки и сберегательные кассы, срочно изымая вклады.
Волнение достигло апогея в субботу, 1 августа, когда на стенах государственных учреждений появились первые объявления о всеобщей мобилизации. <…> Разом опустели все мастерские и дома, толпа художников прихлынула к перекрестку Вавен, словно кровь к сердцу. <…> Писатели и поэты давали себе отчет в трагизме наступающих событий. Кроме какого-нибудь Рене Дализа, насмешливо восклицавшего: “Больше всего я опасаюсь сквозняков…” (он будет разорван снарядом. – Ж.-П.К.), многие предчувствовали надвигающийся кошмар. Старая женщина, за несколько су читавшая по линиям руки судьбы посетителей, отказывалась говорить уезжавшим то, что видела на их ладонях…
2 августа психоз продолжал нарастать. Париж лихорадило, стояла изнурительная жара. Оправдывая пророчества тех, кто накануне грабил склады, в магазинах опустили жалюзи. Огромное скопление народа на улицах создавало впечатление, что в ту ночь никто не спал. Социальные барьеры рухнули, незнакомые люди запросто заговаривали друг с другом; все смешались в едином безудержном порыве. На бульваре Монпарнас толпа неистово приветствовала 11-й и 12-й полки кирасиров из Военной школы, 23-й колониальный полк из Лурсинской казармы и 102-й линейный – из казармы Бабилон. С оркестром во главе и развернутыми знаменами они маршировали к Восточному вокзалу, сопровождаемые огромной толпой мужчин и женщин, кричащих одно и то же: «На Берлин!» Безумно возбужденные женщины целовали солдат и осыпали их цветами. Стараясь не отставать, они шли за солдатами широким шагом, уродливо-комичные в своих зауженных юбках».
Илья Эренбург, живший в отеле «Ницца», вспоминал, как в ту ночь толпы людей нескончаемым потоком проходили под его окнами по бульвару Монпарнас. А утром хозяин гостиницы попрощался с постояльцами, в большинстве иностранцами: он отправлялся на фронт. Запинаясь от волнения, он наказал жене не требовать плату за жилье с иностранцев до тех пор, пока не кончится война. Правда, все поголовно пребывали в уверенности, что это – дело нескольких дней…
С первых дней мобилизации многие иностранные художники откликнулись на призыв Блеза Сандрара[2] и Ричотто Канудо[3] вступать в ряды французской армии. У Дома Инвалидов очередь добровольцев растянулась по эспланаде. В ней стояло много монпарнасских художников – русских, польских, итальянских, скандинавских…
Возвращаясь к этим лихорадочным дням, Роже Уайльд, не только их свидетель, но и непосредственный участник, рассказывал:
«В “Ротонде” оставался лишь всякий сброд. Все остальные ушли на фронт или в добровольцы… Помнится, был один красивый юноша, норвежский художник Иван Лунберг. Он тоже завербовался в первый иностранный полк и оставался в нем до конца войны. Когда, незадолго до перемирия, его убили, он по-прежнему не знал французского языка. Очевидно, Лунберг не был исключением.
Опровергая написанное другими, отмечу следующее: на вербовочные пункты действительно пришло очень много добровольцев, но не всех их сразу взяли; большинству пришлось ждать призыва, и иногда по нескольку месяцев».
Среди художников оказались и такие, кого приемная комиссия не пропустила из-за слабого здоровья. Например, мексиканца Диего Риверу, работавшего в Париже с 1909 года, отвергли по причине варикозного расширения вен, а Мане-Каца (Иммануила Лейзеровича Каца), учившегося в Парижской школе изящных искусств, – из-за слишком маленького роста. Итальянца Амедео Модильяни, вопреки его желанию, тоже не взяли на военную службу – из-за немощности, что глубоко его оскорбило. Жан-Поль Креспель пишет о нем так:
«Он любил хвастать своей силой. А военный врач, едва взглянув на него, заключил, обращаясь к членам комиссии: “Нет, через восемь дней этот окажется в госпитале… Видимо, вам надо полечиться, приятель”, – бросил он художнику полуиронически-полусочувственно. Вернувшись на Монпарнас, Модильяни глушил разочарование, напиваясь до беспамятства».
А вот его рассказ о поведении Пикассо:
«Пикассо принадлежал к числу тех редких иностранцев, кто не пошел записываться в армию. Возможно, он вовсе и не думал об этом. Как испанец, он имел право придерживаться нейтралитета, не считая себя затронутым конфликтом. Начало войны он провел на Монпарнасе, только по вечерам выходя из своей мастерской на улице Шелшер, где его тогдашняя подруга Ева надрывалась от душераздирающего кашля, и направлялся в “Ротонду” повидать Диего Риверу и Сельсо Лагара[4]. С другими художниками он не общался, так как презирал людей богемы, болтливых и слабовольных».
Каждый вечер те, кто остался в Париже, собирались в кафе «Ротонда» на Монпарнасе, чтобы обменяться новостями или вполголоса обсудить последнюю сводку. При этом Пикассо открыто говорил, что не желает воевать за Францию, и его позиция раздражала очень многих. Понимая это, он погрузился в глубокую депрессию. А потом, видя, что выхода из сложившегося положения нет, он решил уехать в Италию.
Позднее он изменит свое отношение к своей новой Родине. Недавно в Музее полиции в Париже были выставлены документы, обнаруженные в архивах Министерства внутренних дел Франции, из которых явствует, что в 40-х годах ХХ века правительство страны отказало Пикассо в предоставлении французского гражданства.
Пикассо часто говорил, что «хочет умереть испанцем», хотя после Гражданской войны так и не вернулся на родину, дав себе клятву, что его нога туда не ступит, пока у власти находится диктатор генерал Франко. После 1939 года он решил в полной мере разделить судьбу Франции, которая вскоре вступила в войну с фашистской Германией. Но в просьбе о предоставлении гражданства ему было отказано. Как оказалось, французская полиция с самого приезда Пикассо из Испании вела за ним слежку, и в одном из первых донесений о нем утверждалось, что он видный анархист. С тех пор Пикассо был включен в список опасных смутьянов. Именно по этой причине в полицейском заключении было сказано, что Пикассо «должен рассматриваться как очень подозрительный человек с точки зрения национальных интересов Франции», а посему ему и не выдали французский паспорт. Короче говоря, французская полиция признала Пикассо неблагонадежным. Более того, было отмечено, что когда началась Первая мировая война, он ничего не сделал для Франции. И, надо сказать, это – чистая правда. Он даже не попытался что-либо сделать.
Чтобы покончить с этим деликатным вопросом, отметим, что после этого Пикассо уже никогда не пытался получить французское гражданство. Вероятно, он был так оскорблен отказом, что решил не обращаться к французскому правительству повторно.
Много позже, когда президент Франции Жорж Помпиду задумал наградить Пикассо высшей наградой Франции – Большим крестом ордена Почетного легиона, художник отказался на том основании, что, будучи гражданином Испании, он не может принять эту регалию.
Но это все будет потом, а пока же Пикассо отправился в Рим. Он приехал туда 17 февраля 1917 года, даже не представляя себе, что это путешествие, во-первых, станет поворотом в его творчестве, а во-вторых, положит конец его богемному существованию.
* * *
Формальным предлогом для отъезда Пикассо в Италию стало приглашение Сергея Павловича Дягилева.
Этот человек родился в 1872 году в Новгородской губернии, в семье кадрового военного, потомственного дворянина и кавалергарда. Он учился музыке у Н.А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории, а потом, окончив университет, начал карьеру деятеля искусства, организатора и мецената. В одной из его биографий написано:
«Он был не певец, не музыкант, не танцовщик – он был гениальный администратор, продюсер, тот, кто крутит шарманку. Объяснить свое “амплуа” он однажды попытался королю Испании. Тому очень нравился русский балет. Он заглянул за кулисы и спросил Дягилева:
– А что вы делаете в труппе? Вы не дирижируете, не танцуете, не играете на фортепиано – тогда что же?
– Ваше величество, – ответил Дягилев, – я, как вы. Я ничего не делаю, но я незаменим».
Да, сейчас его, скорее всего, назвали бы продюсером, а в 1899 году князь С.М. Волконский, ставший директором Императорских театров, назначил его чиновником по особым поручениям и доверил ему редактирование «Ежегодника Императорских театров». В сезон-1900/1901 князь Волконский возложил на Дягилева постановку балета «Сильвия» французского композитора Лео Делиба. Того самого балета, о котором П.И. Чайковский писал так:
«Я слышал балет “Сильвия” Лео Делиба, именно слышал, потому что это первый балет, в котором музыка составляет не только главный, но и единственный интерес. Что за прелесть, что за изящество, что за богатство мелодическое, ритмическое и гармоническое!»
Конечно же, Дягилев с пылом взялся за порученное ему дело, но постановка по какой-то причине сорвалась, и разразился страшный скандал, закончившийся для Дягилева увольнением. Без всякого сомнения, это неожиданное фиаско повлияло на решение Дягилева перенести свою деятельность за границу. В результате с 1906 года он начал организовывать ежегодные зарубежные выступления артистов из России, получившие название «Русские сезоны». Это были и сезоны русской оперы, и оперно-балетные выступления. В частности, для гастролей балета Дягилев приглашал самых знаменитых артистов, в том числе Анну Павлову, Вацлава Нижинского, Тамару Карсавину и других.
В 1911 году Дягилев организовал свою балетную труппу, которая получила название «Русский балет Дягилева». Труппа начала выступления в 1913 году. По словам его ближайшего сподвижника Сергея Лифаря (позднее – руководителя балета парижской Гранд-Опера), «ему нужна была вся Европа и весь мир».
* * *
В Риме Дягилев, которого Сергей Лифарь называл снобом и эстетом, занимался балетом «Парад» на музыку Эрика Сати в постановке Леонида Мясина.
К тому времени Ольга Хохлова уже почти пять лет находилась в его знаменитой труппе. Почему-то считается, что танцовщицей она была старательной и даже неплохо «смотрелась» на сцене, но этого было недостаточно для того, чтобы исполнять сольные партии, а посему, мол, она выступала лишь в кордебалете и даже не мечтала о том, чтобы стать примой. Подобное утверждение не совсем верно. Возможно, особых амбиций у нее и вправду не было, но танцевала она очень технично. Впрочем, иных в труппу перфекциониста Дягилева, в характере которого много было от барина, слегка надменного, слегка презирающего людей, покровителя искусства, ценящего «изящество» больше, чем подлинную глубину, просто не принимали. А еще она была прекрасно сложена и дисциплинированна, и это давало ей право на отдельные сольные выступления. Да и срок в пять лет говорил о многом – просто «по знакомству» в легендарной труппе великого и ужасного Дягилева столько времени продержаться было невозможно. Так что версия о «неполной профпригодности» балерины Ольги Хохловой – это один из тех мифов, что всегда сопровождают любого мало-мальски публичного человека.
К сожалению, неясно, где именно и при каких обстоятельствах Сергей Павлович Дягилев впервые увидел ее, но известно, что в 1912, 1913 годах ему впервые пришлось набирать большое количество танцоров и танцовщиц не из Российского императорского театра, а из Варшавского театра, а также из частных Московской и Санкт-Петербургской балетных школ. В любом случае сценической опыт у Ольги Хохловой к тому моменту исчислялся 7–8 годами, а к моменту знакомства с Пикассо – 12 годами.
* * *
Ольга Степановна Хохлова родилась 17 июня 1891 года в украинском городе Нежине в семье полковника Русской императорской армии. Страсть дочери к балету этот военный человек осуждал, но ее поощряла маменька, а посему, когда отца перевели из Нежина в Киев, она украдкой стала возить дочь в балетную школу. Однако о том, чтобы девочке сделаться профессиональной танцовщицей, понятное дело, и речи быть не могло…
Если сравнивать Ольгу Хохлову со знаменитой балериной Тамарой Карсавиной, то той было значительно легче: ее отец, Платон Карсавин, – бывший танцовщик Мариинского театра, и он лично готовил ее к вступительным экзаменам в театральное училище. Более того, он был среди экзаменаторов, делая вид, что не узнает собственную дочь.
С другой стороны, он был профессиональным танцовщиком, а это значило, что он никогда ничего не ел утром, а потом у него целый день не было времени поесть, так как шли беспрерывные упражнения у станка, репетиции и спектакли. Мать Тамары, не знавшая этого кошмара, говорила, что балет – это прекрасно для женщины, что даже если дочь и не станет великой танцовщицей, все равно будет зарабатывать намного больше, чем любая образованная девушка. Но опытный отец всегда на это отвечал одно и то же: «Я не хочу, чтобы мой ребенок страдал и жил среди закулисных интриг». И он знал, что говорил.
А вот Тамаре (она была на шесть лет старше Ольги) казалось, что мечта о сцене жила в ней всегда. И этот мир казался ей таким манящим, таким сверкающим, что даже невозможность нормально поесть и возможные интриги выглядели всего лишь оборотной стороной этого сказочного очарования.
Ольге Хохловой всего пришлось добиваться самой, и к экзаменам ее никто не готовил. Иногда можно найти утверждение, что в балет Ольга вообще пошла, не посчитавшись с мнением родителей, которые были категорически против ее увлечения. Наверное, это так. Многие родители отдают своих детей, например, в фигурное катание, но далеко не все мечтают об изматывающей физически и морально судьбе будущих олимпийских чемпионок. Таким образом, Ольга просто-напросто сбежала к Дягилеву, нарушив волю родителей, когда те привезли ее в Санкт-Петербург. А еще, правда, очень редко можно найти сведения о том, что в балетную школу в Северной столице ее устроил отец. Как бы там ни было, но взлету Ольги Хохловой предшествовало обучение именно в этой школе.
Нравы в балетной школе были чрезвычайно строгие. Во-первых, девочки почти никогда не общались с мальчиками, своими соучениками: они встречались только на репетициях, и разговаривать им категорически воспрещалось. Во-вторых, над всем доминировала строжайшая дисциплина, и никакие отступления от нее не дозволялись. Девочек, решивших посвятить себя балету, берегли от контактов с окружающей действительностью, словно от заразы. Фактически их воспитывали, как монастырских послушниц.
Ниже мы увидим, что это сыграет в жизни Ольги немаловажную роль: с одной стороны, она вырастет настоящим профессионалом, а с другой – окажется не готовой к контакту с низменными сторонами повседневной жизни, в которых многие ее ровесницы (не балерины) ориентировались как рыбы в воде.
Потом, уже танцуя в труппе «Русского балета», Ольга утверждала, что является дворянкой и дочерью генерала, но подруги-балерины быстро вычислили, что последняя версия представляет собой, мягко говоря, преувеличение.
Биограф Пикассо, британский художник и искусствовед Роланд Пенроуз, приехавший во Францию в 1922 году и считавший, что Хохлова «не была выдающейся балериной», пишет:
«Ее отец был русским генералом, и это, очевидно, пробудило в ней стремление к славе. Балет, которым она увлеклась против воли отца, стал шагом на пути к желанной цели. Красота пленяла ее. Даже уйдя из труппы, она продолжала поддерживать тесные связи с русскими друзьями и заниматься балетом. Но после встречи с Пикассо в Риме ее карьере профессиональной балерины быстро пришел конец».
Дочь генерала или дочь полковника – все это не так и важно. В любом случае происхождение Ольги сыграло ей добрую службу, ибо Великий Дягилев очень любил, чтобы в его труппе были девушки из хороших семей.
В воспоминаниях Франсуазы Жило, одной из неофициальных жен смерчеподобного Пикассо, читаем:
«Он женился на Ольге в восемнадцатом году, она тогда была балериной в “Русском балете” Дягилева. Не лучшей в труппе, но, по словам Пабло, была красивой и обладала еще одним достоинством, которое он нашел очень привлекательным: происходила из семьи, принадлежавшей к низшему слою русского дворянства. “Дягилев, – говорил Пабло, – подбирал балерин оригинальным образом: половину их должны были составлять очень хорошие танцовщицы, другую – красивые девушки хорошего происхождения. Первые привлекали зрителей мастерством. Другие – аристократичностью или внешностью».
Мнение – спорное и явно предвзятое, ибо глупо даже предполагать, что Сергей Дягилев, всегда говоривший, что «Русский балет» – это не кабаре и не «Мулен Руж», что рафинированный эстет Дягилев, превративший балет из простого развлечения публики в настоящее искусство, удерживал бы балерину столь долгое время, да еще в условиях бесконечно гастролирующей труппы лишь из уважения к чину и происхождению ее отца. Бездарностей Дягилев терпеть не мог и всегда предпочитал окружать себя людьми талантливыми, вдохновенными или, по крайней мере, способными и трудолюбивыми. Очень способными и очень трудолюбивыми. Он, и это хорошо известно, никогда и никому не делал поблажек.
* * *
Великий Серж принял Ольгу благосклонно. Внешность она имела вполне приятную, хотя, судя по фотографиям, настоящей красавицей, как, например, признанная прима Тамара Карсавина, она не была. В одной из биографий Пикассо лицо Ольги описано так:
«У этой девушки было одно из тех оригинальных лиц русских мадонн, которое меняется в зависимости от градуса эмоций, освещения и обстоятельств в диапазоне между классическим и строгим женским обликом эпохи Возрождения и наивным личиком простенькой барышни-крестьянки. Лицо, наиболее художниками любимое, способно выразить тысячу настроений».
В другой биографии об Ольге сказано:
«Глаза женщины невыразительны, зато несколько напоминают огромные черные глаза самого художника; в остальном же черты ее несколько грубоваты».
Относительно грубоватости ее черт можно было бы и поспорить. У нее было нормальное, очень правильное и типично русское лицо. Единственное – это, пожалуй, подбородок: он был крупноват, что придавало лицу в целом некоторую тяжесть. С другой стороны, он выдавал характер Ольги – твердый, решительный и очень упрямый.
Кроме того, ее отличали прекрасные манеры, умение держаться без лишнего апломба и наигранного кокетства, а также некий особый русский шарм, который всегда так ценился в Западной Европе.
Кстати сказать, Дягилев сразу уловил в Ольге этот ее великосветский шарм, ведь именно он придает танцовщице некий изысканный аристократизм на сцене, которым, между прочим, всегда отличалась его любимая балерина La Karsavina – как называли Тамару Карсавину французы. Правда, по сравнению с Тамарой Ольга Хохлова была, как утверждают многие биографы, «немножко пресновата», не обладая тем внутренним огнем, которым блистала главная дягилевская прима.
Короче говоря, Ольга была «девушкой из хорошей семьи», отличалась великолепными манерами и прелестно смотрелась на сцене. Что же касается ее характера, то она обычно не шла ни на какие компромиссы, и порой это начинало походить на банальное упрямство. Впрочем, это только усиливало ее работоспособность, которая выгодно отличала ее от других танцовщиц из труппы Дягилева. А уж в том, что все они были работоспособными, можно не сомневаться…
Есть версия, что Ольга Хохлова считалась в труппе Дягилева одной из многих, и сам Сергей Павлович не мог понять, почему именно на нее до такой степени «запал» Пабло Пикассо. Но если это и так, то достаточно посмотреть на все с другой стороны и станет очевидно, что Дягилев вообще вряд ли мог похвастаться особым пониманием женщин. Недаром же он говорил: «Любовь к женщинам – ужасная вещь…»
А вот уж чего ему было явно не занимать, так это умения привлечь к работе над своими балетами людей с самыми громкими именами. Именно поэтому он и пригласил Пикассо, обожавшего все новое, оформить балет «Парад» на музыку Эрика Сати в постановке Леонида Мясина.
Отметим, что к тому времени Пикассо уже был знаменитым на всю Европу художником. И, между прочим, русские критики, и коллекционеры по-настоящему оценили его творчество в числе первых. Например, в 1914 году блестящий анализ его работ сделал философ Н.А. Бердяев, который не любил кубизм и видел в нем «глубокий кризис искусства». Однако о Пикассо он написал:
«Кубизм Пикассо – явление очень значительное и волнующее. В картинах Пикассо чувствуется настоящая жуть распластования, дематериализации, декристаллизации мира, распыление плоти мира, срывание всех покровов. После Пикассо, испытавшего в живописи космический ветер, нет уже возврата к старой воплощенной красоте».
Отметим также, что купец и коллекционер искусства С.И. Щукин (кстати, друг Гертруды и Лео Стайн, о которых будет рассказано ниже), а также промышленник И.А. Морозов в то время приобретали картины Пикассо, и сейчас они находятся в Эрмитаже и Пушкинском музее.
Откликнувшись на крайне вовремя подвернувшееся приглашение Дягилева, Пикассо моментально подружился со всеми девушками из труппы «Русского балета», гастролировавшего в Италии, и не без гордости писал из Рима своей давней приятельнице и почитательнице американской писательнице Гертруде Стайн:
«У меня шестьдесят танцовщиц. Ложусь спать поздно. Я знаю всех женщин Рима».
Но об Ольге Хохловой художник до поры до времени умалчивал.
* * *
Итак, в Риме темпераментный Пикассо впервые увидел голубоглазую, белокожую и стройную русскую балерину Ольгу Хохлову. Увидел… и остолбенел. «Выглядите потрясающе», – только и смог сказать он, и в глазах его Ольга прочла неподдельное восхищение.
Это было странно, ведь, по мнению некоторых его друзей, Ольгу никак нельзя было назвать личностью, внешне уж как-то особенно примечательной. А кое-кто даже считал ее откровенно бесцветной и скучной. Что это было? Субъективное мнение? Зависть? Да какая разница! Ведь ярких красок и темперамента хоть отбавляй было у самого Пикассо, а люди, составляющие пары, как известно, в идеале должны по всем параметрам дополнять друг друга до единицы.
Да, об Ольге Хохловой до поры до времени художник умалчивал, однако факт остается фактом: Пикассо много времени проводил с балетной труппой Дягилева, и когда он ее по-настоящему «увидел», то забыть уже не смог. Той же Гертруде Стайн некоторое время спустя он уже рассказывал: «Поглядела бы ты на ее гордую осанку и на поистине аристократическую неприступность».
1
Немецкие бомбардировщики.
2
Блез Сандрар – французский писатель швейцарского происхождения. Участвовал в Первой мировой войне, был ранен, лишился правой руки. В 1916 году стал гражданином Франции.
3
Ричотто Канудо – французский кинокритик итальянского происхождения, писатель, эссеист, музыковед. Участвовал в Первой мировой войне, был ранен. За воинскую доблесть был награжден французским Военным крестом и орденом Почетного легиона.
4
Селсо Лагар – испанский художник, друг Пикассо и Модильяни.