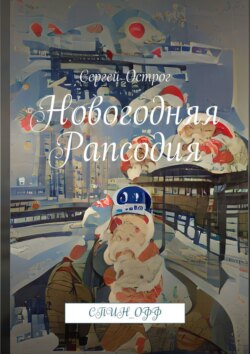Читать книгу Новогодняя рапсодия. Спин_офф - Сергей Острог - Страница 2
Амбушюр
ОглавлениеМинувшая осень выдалась бесконечной. Раз в несколько лет со мной случается подобное: дни тянутся-тянутся, всякий момент наполнен событиями и смыслом. Кажется, жизнь нескончаема – можно болтаться во времени и пространстве, никуда не спешить и замечать, что рядом с нашим копошением существует другая не менее реальная жизнь. Поучаствовать в ней – большая удача. А рассказывать об этом опыте противостояния префронтальной коры головного мозга и его лимбической системы, все равно что заниматься контрабандой.
А еще подобное состояние – отличная пора для поэзии. Я погрузился в творчество Рильке, а когда вынырнул, то обнаружил себя в прихожей перед зеркалом – в зимней куртке и шапке – с нумерованным списком дел в руках. Напротив цифры «1» этого списка аккуратным почерком жены было написано: «Купить елку!!!».
Целых три восклицательных знака, выделенных жирным. Получается, за елкой меня посылают уже третий раз. Три раза – это предел для взрослого мужчины, так говорит моя жена.
Первый признак взрослости, это когда ты в шапке. Но не потому что мама или жена сказала, а из-за погоды и по собственной инициативе. Второй – когда тебе все равно, знают ли (слышат ли) окружающие, что у тебя в плейлисте, и тебе, в свою очередь, наплевать, что там происходит в наушниках соседа. Ты понимаешь, что этот мир не спасти, и если кто-то слушает Крида, Дзидзьо или Киркорова, то это не страшная беда, не катастрофа, а чье-то постороннее персональное несчастье.
Окончательное взросление наступает, когда стоимость продуктов к праздничному столу превышает цену алкоголя. Ты выходишь из маркета не налегке, как когда-то, а нагруженным осликом. Еще и толкаешь тележку впереди себя: колбасы-молбасы, селедка, зеленый горошек… А потом ты живешь-живешь, живешь-живешь и однажды обнаруживаешь, что не нужно ехать в магазин: у тебя есть и выпить, и закусить и каждый новый день – праздник. Это, вероятно, зрелость. Конечно, желаю всем до нее дожить – дожить, но не забывать о тех крупицах детства, что остаются в нас до последнего вздоха.
В детстве мы открыты, границ нет – мир в нас, мы в мире. Однако в какой-то момент человек становится несмешиваемый, затвердевает до хрупкости и рассыпается в городскую пыль задолго до своего последнего путешествия на цвинтар.
Почему-то мы часто загоняем врожденное умение замечать чудеса в области тьмы своего сознания. Почему? Это вопрос, на который никогда не поздно ответить. Даже если ради ответа приходится возвращаться с полпути. Ведь кто замечает чудеса, того удивляют и рядовые вещи. Разве не чудо, когда первый снег воспринимается как большие перемены к лучшему? Даже если тебе сорок, и ты в полной жопе – в хорошем смысле: тебе тепло и уютно и нет никаких оснований ждать иного.
31 декабря. Я вышел из дома и зажмурился: «Мороз и солнце – день чудесный…». Пока глаза привыкали к свету, какой бывает только ясным солнечным утром после ночного снегопада, я достал наушники и тут же обнаружил, что у одного наушника нет пипки. Вот этой приятной на ощупь силиконовой, наверное, штуки, которая вставляется в ухо.
Мало кто знает, как она называется, но если спросить у продавца, есть ли у вас пипки для наушников, он сразу поймет, о чем идет речь. И Гугл поймет. Забейте в поиск «пипка для наушников». В этом прелесть русского языка.
Однако вряд ли слово пипка значится в накладных и спецификациях. Вряд ли инженеры, проектирующие эту деталь, говорят:
– Шеф, я создал пипку.
– А насколько твоя пипка хороша?
– Все в порядке, шеф, пипка максимально эргономична.
– Ладно, запускайте в производство.
Не терзайте Гугл. Пипка для наушников, это – амбушюр. Французское слово. Звучит красиво, изыскано, куртуазно, а для нашего уха так и вовсе эротично. В этом прелесть языка французского. Не зря пипку хочется потрогать и помять. Но дословный перевод совершенно разворачивает ход мысли. Амбушюр: рот, устье, впадина, отверстие… Фу, как грубо! Или вот вариант перевода – рупор. Пошлятина! То есть вообще не пипка. Совсем мять не хочется.
Итак, один мой наушник оказался без амбушюра. А вчера амбушюр был! До момента, когда я вынул наушники из ушей перед входом в подъезд, амбушюр был на месте – это точно. Я не настолько доверяю миру, чтобы входить в темный подъезд в наушниках. Эта привычка у меня с детства. Я только относительно недавно перестал прикрывать голову, когда открываю подъездную дверь. Но оглядываться перед входом в квартиру, например, я еще не отучился. И когда мне звонят с незнакомого номера, я тоже напрягаюсь. Вообще, стараюсь не поднимать, но если любопытство побеждает, то отвечаю надтреснутым голосом – немного с хрипотцой.
Дело в том, что я вырос в девяностые, а тогда жили смелые люди, поэтому все старались говорить чуть с хрипотцой, чтобы смелые люди не подумали, что ты лох, и не превратили тебя в терпилу. Лохам жилось непросто, поэтому приходилось скрываться и маскироваться.
Тогда же, в девяностые, я усвоил правило: Если я вижу что-то противозаконное, значит я смотрю не туда. Нужно зажмуриться или отвернуться. Но если надо что-то обнаружить или найти, то следует сперва закрыть правый глаз, осмотреться, а потом повторить этот трюк с левым глазом. Уверяю, работает безотказно. Тренируйтесь на носках, а потом постепенно переходите к серьгам, часам, отверткам. Высшее мастерство – находить деньги. Чужие.
Чудеса тоже не случаются, когда мы смотрим пристально. Поэтому я расслабился и стал осматриваться искоса. Глаза привыкли к искрящемуся снегу. Если потерянный амбушюр и был где-то поблизости, то его надежно укрыл ночной снегопад. Однако надежда на чудо не исчезала, потому что я всегда нахожу благоприятные знаки.
В этом случае благоприятным знаком стало отсутствие следов на девственном снегу. То есть из подъезда еще никто не выходил, вокруг не шастал. Я присел и стал всматриваться в снег, как всматриваются в него представители северных народов. Я воображал, как мой немного затвердевший от холода красный амбушюр лежит припорошенный и тоже думает о чуде. Не исключено, что удвоенная жажда чуда дает утроенный эффект. Синергия.
В этой позе следопыта меня и застала жена. Синергии не случилось. Жена вместо меня вышла на прогулку с нашим песиком, потому что я пошел за елкой (!!!). Естественно мне пришлось поторопиться, ведь до Нового года осталось несколько часов, и елки, по мнению жены, могут закончится. Хотя я уверен, что нет.
Не слышал ни одной истории, чтобы кому-то не досталось елки. Мой личный рекорд – тридцать минут до Нового года. То есть за полчаса до полночи я успел купить живую елку, привезти ее домой и установить. Нарядить не успел. В тот год я не наряжал елку, и было это еще до того, как это стало модным. Не исключено, что с меня начался этот тренд.
Это был последний день 1996 года. Ночной скорый из столицы доставил меня в родные пенаты, как и было обещано накануне вокзальной дикторшей. Я выскочил из вагона. На языке крутилось:
«Вот я вновь посетил эту местность любви,
полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик…
Предо мною река распласталась под каменно-угольным дымом…»
Пусть это не про мой город, но лучше про него не скажешь. Дорога, поезда и вокзалы всегда настраивают на лирический лад и оставляют соответствующее послевкусие. Поэтому прошу извинить меня за лирические отступления. С другой стороны, все события этого дня так или иначе связаны с чудом, для описания которых как раз и нужна лирика.
Есть четыре вещи, которыми я готов заниматься в одиночестве и бесконечно – ехать со скоростью 70 км/ч, читать, курить, пить чай. Каждое из занятий способно поглотить меня полностью. Это похоже на медитацию. Иногда получается совмещать два, реже три дела – удовольствие от этого возрастает в прогрессии. Синергия! Однако я знаю только одно место, где можно ехать, читать, курить и пить чай одновременно – это поезд.
К железной дороге меня тянет с детства. Я еще не проработал эту особенность со своим терапевтом. С другой стороны, любовь к железной дороге трудно назвать обсессией или компульсией, которые, как правило, оборачиваются негативом. Поэтому я скорее всего не стану посвящать мозгоправа в это дело. Сэкономлю деньги и лишний раз куплю билет на поезд.
Еще школьником я намерено ходил через вокзал, а не аллеями парка имени Первого Мая. Бывало, в дождь забегу с чебуреком в руках в здание вокзала, чтобы переждать непогоду, а заодно и подкрепиться, и глазею на отъезжающих в зале ожидания. Те суетятся – то и дело посматривают на табло, прислушиваются к объявлениям диктора, а потом вдруг вскакивают, хватаются за сумки, чемоданы и ломятся к перрону.
Помимо наблюдения со стороны, обожаю смотреть в окно вагона изнутри, как в монитор или аквариум. Люблю созерцать старенькие полуразрушенные полустанки, меня вдохновляют запустение глухих станций и размах важных узловых, где поезда делают долгие остановки, а по ночам можно послушать трансляцию радиопереговоров путейцев.
Командует рабочими обычно женщина. Говорит она деловито – раздает задания путейцам, руководит маневровыми. Голос ее, спокойный и глубокий, льется из динамиков, висящих на столбах; отражаясь от тумана, он перекатывается негромким эхом на много километров вокруг узловой. Ночью хорошо слышно. Но ответов не слыхать – подозреваю, ей отвечают по рации.
Мне нравится смотреть как состав стремительно и немного равнодушно пронзает пространство, скрываясь в складках местности как это, наверное, делает удав после охоты. Только у того удава мыши в животе, и движется он с характерным шорохом. Поезд же катится махиной, забитой под завязку людьми и грузом, натужно выдавая – ту-у-у-у! Если долго никуда не еду, то скучаю по запаху просмоленных шпал, платформам, звукам вокзала, вагонным разговорам.
Поезд – это модель жизни, особенно когда едешь в плацкартном вагоне. Покупаешь билет, заходишь в вагон и дальше от тебя мало что зависит. Столько людей, столько историй! В поездах – вся жизнь как в ускоренной съемке. Только масштаб жизни поменьше.
Случай подсовывает попутчиков. Сперва это чужие люди, а в конце пути – немного родня. Некоторые сходят раньше, их места занимают новые пассажиры. Одни замкнутые, скованные, подозрительные, ставят сумку под бок и постоянно ее трогают. Другие – расслабленные и беззаботные. Поезд как Ноев ковчег – здесь собираются трезвенники и выпивохи, интроверты и экстраверты, читатели, писатели, гурманы, трещащие в ночи яичной скорлупой над газетой «СПИД-ИНФО», и едоки-смельчаки, поедатели чебуреков. Еще на весь вагон обязательно найдется одна девушка, читающая Кафку.
Кстати, таких чебуреков, какие делают в наших теренах, я не встречал нигде – от Москвы до самого Алтая. В Киеве – тоже нет. Блестящие, прозрачные, словно слоновье ухо, и такие же огромные чебуреки делают только в киоске у ДК «Железнодорожников». Может тыщу в смену выпускают, может две… – лепят вручную! Рецептура отработана, рука набита, поэтому все чебуреки одинаковые, как пальто членов политбюро.
Мастерство шеф-повара или пищевого технолога обычно легко узнать по внешнему виду его блюда. Образцовый чебурек, например, должен быть похож на пергаментную бумагу. Глядя на такое произведение искусства, уже ни запах не смущает, ни кричащий о вредности чрезмерных калорий стекающий жир, хочется свернуть чебурек треуголкой и тут же сожрать, начиная с мясного конца, разумеется.
Но чебурек обжигающе горяч, а остывшим есть – не то. Вот как тут быть? А если поезд вот-вот тронется и в купе сейчас вернутся попутчики с перекура?
Похожую картину я наблюдал накануне своего внезапного приезда: мечется бедняжка с чебуреком в руках и Кафкой подмышкой, губы по-верблюжьи топорщит. Тут заходят новенькие. Волочат клетчатые сумки мимо. Со мной – здороваются, девушке желают приятного аппетита. Она в смятении, смущается, отворачивается к окну. Из подмышки выскальзывает тоненький Кафка. А на платформе топчутся курцы, и она со своим чебуреком как в телевизоре. Торопится, бедолага, запихнуть его поглубже да побольше, и почти давится.
Я в этот момент на боковушке с Нокиа, играю в змейку и понемногу съеживаюсь от эмпатии, наблюдая украдкой эту сцену. Вот, за что люблю боковушки плацкартных вагонов, – за широкий обзор по сторонам. Сразу несколько плацкартных купе попадают в поле зрения!
Возвращаются с перекура попутчики, рассаживаются – отмороженный мужик и двое молодых парней, у которых в мозгах, вероятно, мгновенно запустилась соответствующая химия: понюхал, все равно что увидел; увидел, все равно что съел, и хочется еще. Девушка почти доедает. Хрустящая кромка чебурека исчезает во рту последней. Руки блестят. Вагон, наконец, качнулся и покатился тихонечко. Отмороженный напялил очки и отморозился. Парни ерзают, голод в глазах. Но график движения поезда – он как судьба. Ты либо покоряешься и едешь спокойно, либо мучаешься несломленный, но все равно едешь.
А потом стало тихо и уютно как бывает только в поездах дальнего следования: скрипят старые полки, кто-то шелестит прессой, кто-то ворочается и пытается уснуть, а девушка с Кафкой спокойна, как Будда – читает, посматривает в черное окно – сыта.
Это умиротворение передалось и мне. И я уже не просыпался до самого утра.
Итак, 31 декабря 1996 года я вышел из вагона и очутился на знакомом перроне, откуда сотни раз уезжал и куда ровно столько же раз возвращался. Закурил и дождался пока состав отбуксировали на запасный путь. Толпа рассосалась – Новый год.
Праздничная суета пыталась инфицировать меня еще на подъезде к городу стоящими на железнодорожных переездах автомобильными ручьями. Но в этот раз у меня был стойкий иммунитет. Я не имел никаких планов на новогоднюю ночь, меня никто не ждал, а я не ждал никакого чуда. Все намерения рухнули, когда я узнал, что необходимо вернуться домой по причине случившегося «страшне».
«Страшне» – это слово, которое твердила соседка, обладательница голоса барочного певца-кастрата, когда пыталась объяснить мне по телефону произошедшее ЧП.
– Ой, тут такое случилось! У тебя прорвало отопление и уся вода та униз. Та тут страшне! Соседям увесь потолок залило, а в квартире никого. Пока вызвонили, страшне! Так это соседи с третьего забили тревогу та перекрыли стояк. И до них дошло, представляешь! Приехали те, что с четвертого. С полпути вернулись. Мы ж думали у них, а то у тебя. Кажу же – увесь потолок и вода униз! Кипяток! Так ты приезжай, а тож мы без отопления, и Новый год!