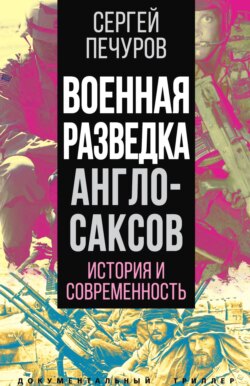Читать книгу Военная разведка англосаксов: история и современность - Сергей Печуров - Страница 7
Глава 2. Альбион подает пример
2.1. Спецслужбы Британии накануне и в ходе Первой мировой войны
ОглавлениеИзвестный британский военный историк Дэвид Рейнолдс в одном из своих исследований, посвященных Первой мировой войне, подчеркнул, что «цель анализа событий 1914–1918 годов должна заключаться не столько в поиске ранее не известных общественности отдельных эпизодов того периода, а во вскрытии общих закономерностей, определивших сущность наступавшей новой эпохи» [18]. В этой связи совокупность объективных и субъективных условий и мер, предпринятых руководством Великобритании накануне и в годы Первой мировой войны, в связи со становлением и функционированием такого важного инструмента проведения военно-политического курса страны, каким являются спецслужбы, особенно разведка, не может не представлять интереса, поскольку именно в тот период были заложены основы того, что, как пишут зарубежные исследователи, и стало сутью проводимых Лондоном так называемых специальных операций, зачастую являющихся образцом для подражания других англосаксонских государств, прежде всего США.
Становление
Фактически до конца ХIХ века британские общенациональные спецслужбы были представлены конгломератом различных организаций: внутренним надзором занимались соответствующие подразделения почтовой службы страны и муниципальной полиции, вопросы так называемого внешнего отслеживания были возложены на МИД, субсидируемое парламентом через секретный фонд, и министерство по делам Индии, в функции которого входили контроль обстановки и проведение соответствующих секретных операций на подконтрольных метрополии территориях. Но уже в начале XX века Лондон серьезно озаботился нарастанием угроз его интересам буквально во всех уголках обширной Британской империи, исходивших якобы в первую очередь от России в Центральной Азии и на Дальнем Востоке и от Германии – в Южной Америке, на Ближнем и Дальнем Востоке, а также в открытых морях. В самой же метрополии военно-политическое руководство страны озаботилось ростом террористической угрозы, формируемой прежде всего активизировавшимся национально-освободительным движением ирландцев, бросивших нешуточный вызов англосаксам, узурпировавшим власть в Лондоне. Еще в 1889 году был принят первый закон, ориентировавший государственные учреждения на негласную деятельность по защите национальных интересов внутри страны в тот исторический период. В этом же году была создана и специальная служба муниципальной полиции для профилактики нарушений внутреннего законодательства со стороны нацменьшинств; имелись в виду главным образом ирландцы.
Озабоченность нарастанием напряженности в мире не могла не коснуться и военных ведомств – военного министерства и адмиралтейства, которые традиционно имели собственные независимые разведывательные структуры. Примечательно, что впервые в британской военной истории отдельный разведывательный орган армии (сухопутных войск) был создан в рамках военного министерства в 1873 году, но потребовалось еще 15 лет для того, чтобы директор (или начальник) военной разведки был наделен полномочиями прямого доклада верховному главнокомандующему. В свою очередь, адмиралтейство последовало примеру коллег в 1882 году, а через шесть лет в его рамках было сформировано отдельное Управление военно-морской разведки.
В преддверии обозначившейся в начале ХХ века военной конфронтации с Германией Лондон осознал настоятельную необходимость создания национального разведывательного сообщества более высокого уровня и качества для осуществления эффективной разведдеятельности и контршпионажа, включающего в себя как гражданские, так и военные структуры. В 1909 году было сформировано Бюро секретной службы, деятельность которого сконцентрировалась на сборе разведсведений о Германии и борьбе с германским шпионажем. Однако почти сразу стало очевидно, что разведывательные и контрразведывательные функции должны быть разделены, в том числе и организационно. Поэтому уже на следующий год на основе бюро были созданы две самостоятельные структуры – контрразведка МI5 и Секретная разведывательная служба (SIS), впоследствии названная MI6. Примечательно, что обе службы, формально гражданские, возглавили представители привилегированного вида вооруженных сил – ВМС: первую Верном Келли, а вторую – Мэнсфилд Камминг. Оба впоследствии за заслуги перед отчеством получили титул «сэр».
Представители военной разведки, естественно, без восторга встретили известие о появлении мощных конкурентов, логично полагая, что накануне грядущих военных событий обе новые службы будут вмешиваться в сферу, в которой они некомпетентны, и с неизбежностью осложнят работу «военных профессионалов». В опасениях военных разведчиков была известная доля истины, поскольку как раз в этот период и моряки, и сухопутчики развернули масштабную работу по созданию собственных разведаппаратов и сетей шпионажа, направленных против Германии и ее союзников.
Между тем, как стало ясно уже в первые месяцы разразившейся войны, такой шаг британского военно-политического руководства оправдал себя. Вряд ли укомплектованная людьми со специфическим образованием и подготовкой чисто военная разведка смогла бы справиться со сложными задачами по формированию приемлемого для Лондона внутриполитического климата в странах-союзницах и сателлитах, как, например, произошло в России в период колебаний в ее политическом истеблишменте относительно необходимости продолжения войны с Германией. Достаточно вспомнить дело о Распутине, известном и влиятельном противнике ввязывания России в войну в целом, к убийству которого в декабре 1916 года, как позже стало известно, напрямую были причастны спецслужбы Великобритании. К тому же, в отличие от военных разведструктур, только так называемая гражданская разведка помимо всего прочего смогла взять на себя весьма важные, особенно в кризисные годы, функции экономической или коммерческой разведки. Да и последствия большевистской революции в России 1917 года, свершившейся еще до окончания мировой войны, могли быть нейтрализованы, как считают британские военные историки, в интересах правящих кругов Британии при непосредственном участии гражданской, то есть политической разведки и локализованы на территории обширной Британской империи, опять же, только при участии гражданского контршпионского ведомства MI5. В свою очередь, руководство гражданских спецслужб, понимая необходимость тесного взаимодействия с военными, прилагало максимум усилий с тем, чтобы не обострять с ними отношений и завоевать столь необходимое в данной специфической сфере доверие. В этом плане британские историки отдают должное руководителю SIS М. Каммингу, «перешагнувшему через себя» для налаживания добрых отношений с военными коллегами.
СМЕРШ по-британски
В годы войны разведдеятельность и борьба с германским шпионажем на территории Великобритании были совмещены под управлением MI5. Причем борьбе с германскими разведчиками и агентами (или шпионами, как их презрительно называли британцы) уделялось самое пристальное внимание. Отсюда и высокая результативность британской контрразведки, признанная даже противником. Руководитель германской военной разведки Вальтер Николаи уже после войны отмечал, что «англичанам удалось оперативно изолировать большинство германских агентов у себя в стране» [11, с. 21]. Британский военный историк Николас Хайли приводит следующие данные, характеризующие успехи контрразведчиков: только в 1915 году сотрудникам MI5 удалось обезвредить 22 из 26 наиболее значимых германских агентов, действовавших в тот период на территории Великобритании, в результате чего агентурная сеть разведки Германии оказалась фактически парализованной [37]. Другой британский специалист в области разведки Джилл Беннет полагает, что успехи сотрудников МI5 во время Первой мировой войны во многом обусловлены широко применявшимся методом перевербовки германских агентов, чего ранее британцы не практиковали [18]. Утонченное аристократическое руководство спецслужб Британии не хотело марать руки, работая с полукриминальными элементами из шпионской среды. Примечательно, что среди британского разведывательного истеблишмента было популярно высказывание Наполеона о том, что «шпион – это прирожденный предатель», которому ничего не стоит перевербовываться сколько угодно раз [12, с. 17]. Выявлению вражеских агентов, считают британские специалисты, помогла и беспрецедентная в истории страны фактически тотальная проверка населения, причем не только иностранных граждан, оказавшихся волею судеб на территории Великобритании в этот сложный период, но и подданных его величества.
В годы Первой мировой войны британская контрразведка впервые применила и практику проникновения в иностранные посольства в Лондоне, перехвата почты и подслушивания телефонных переговоров дипломатических представителей как нейтральных, так и союзных стран. Переняв опыт России и Германии, имевших давние традиции цензуры, британцы были вынуждены в первые же дни войны срочно организовать аналогичную службу у себя. Причем сделать это было чрезвычайно сложно, поскольку, как известно, именно Британия являлась в те годы крупнейшей торговой державой, в которую ежедневно поступали сотни тонн писем, газет, журналов, разного рода другой корреспонденции и всевозможных посылок. Для введения цензуры британским властям пришлось мобилизовать тысячи сотрудников и оперативно обучить их этой весьма непростой работе, благодаря которой, кстати, якобы была выявлена не одна шпионская сеть.
Начиная с конца 1916 года перед британскими контрразведчиками встала новая задача по нейтрализации начавшего активизироваться протестного рабочего движения, а затем по выявлению и аресту лидеров многочисленных пацифистских и марксистских организаций, пресечению случаев саботажа и диверсий на промышленных объектах и транспорте.
С началом войны MI5 активизировала работу и за рубежом, в основном в обширных британских колониях. Естественно, главное внимание контрразведчиков было приковано к Индии, где работа осуществлялась в тесном контакте с министерством по делам этой колонии, британской администрацией в Дели и сформированной накануне так называемой индийской политической разведкой. Упор делался на пресечении деятельности различного рода революционных и народно-освободительных организаций, многие из которых к тому времени оказались под влиянием германской агентуры. В 1916 году в MI5 был создан новый отдел, ответственный за осуществление специальных разведывательных миссий в союзных странах, включая США и Италию, с задачей упреждающего вскрытия зарождавшихся угроз Британии.
Оргмероприятия
Если дела у британских контрразведчиков складывались более-менее позитивно и к концу войны они даже могли оценить свою работу как весьма успешную, то деятельность имперской разведки (как гражданской, так и военной) оценивалась не столь однозначно.
Главное бремя разведдеятельности в годы войны было, разумеется, возложено на военную разведку, причем как стратегического уровня руководства ею из Лондона (через военное министерство и адмиралтейство), так и оперативно-тактического – через разведуправление (разведотдел) штаба Британских экспедиционных сил, развернутых во Франции, и рассредоточенные по морям эскадры кораблей. Уже к концу 1915 года небольшой разведаппарат военного министерства был развернут в мощное Управление военной разведки, включавшее в свой состав 11 самостоятельных отделов с общей штатной численностью во многие сотни человек, как военных, так и гражданских. К концу войны существенно выросла и численность разведуправления штаба экспедиционных сил – с восьми сотрудников до 75 [32].
SIS с началом Первой мировой войны также претерпела существенные преобразования и получила еще одно наименование – MI6. Уже к концу 1916 года данная организация имела 1024 сотрудника и агента, разбросанных по всему свету: 60 – в Лондоне, 300 – в Александрии (Египет), 250 – в Нидерландах, 100 – в Африке, 80 – в Дании, 50 – в Испании и многих других странах Европы, Южной и Северной Америки [18]. Между двумя революциями в России (февральской и октябрьской 1917 года) британские разведчики значительно активизировали свою работу на ее территории, причем не только в обеих столицах, но и на периферии, обеспечивая сначала политическое, а затем и прямое военное вмешательство во внутренние дела своего стратегического союзника.
Осознав актуальность срочного решения проблемы резкого повышения уровня профессиональной деятельности своих сотрудников в годы войны, руководство MI6 сформировало в рамках управления так называемые военные секции, к работе в которых попыталось привлечь кадровых военных, переманивая их из соответствующих конкурирующих служб военного министерства и адмиралтейства. Однако эти меры гражданских руководителей вызвали бурю негодования в армейских и военно-морских разведывательных кругах, причем не только в Лондоне, но и на фронте. В 1917 году глава военной разведки даже выступил с угрозой отзыва всех офицеров из MI6 в случае, если Камминг не согласится наконец подчинить свою службу военному министерству. Скандал удалось замять с большим трудом и только лишь потому, что в скором времени активность боевых действий пошла на убыль. Между тем организованные в рамках SIS так называемые видовые военные секции (в том числе чуть позже и военно-воздушная) со временем приобрели существенное влияние. Достаточно сказать, что глава армейской секции Стюарт Мензис в 1939 году возглавил SIS и находился бессменно на этой должности долгие 14 лет [18].
Неудачи и конфликты
Но трения, и порой весьма жесткие, были характерны в тот период не только для взаимоотношений гражданских и военных спецслужб. В среде военных также случались недоразумения, периодически приводившие к разборкам на самом высоком уровне. Так, британский историк Первой мировой войны Джим Бич в одном из своих исследований констатирует факт постоянных несогласованностей, характеризовавших взаимоотношения руководителей британской разведки экспедиционных сил во Франции и командования этими силами. Причем, подчеркивает Джим Бич, все три сменивших друг друга руководителя военной разведки развернутой на континенте британской группировки – бригадные генералы Макдонаф, Чартерис и Кокс – так и не смогли установить деловых и доверительных отношений с командующими. Амбициозный генерал Дуглас Хейг, возглавлявший британскую группировку во Франции с декабря 1915 года до окончания войны, вообще не доверял своим разведчикам и обвинял их во всех неудачах британцев на фронте, не стесняясь докладывать об этом напрямую в Лондон, но одновременно выпячивая свою роль как «прирожденного разведчика» в случае удачного исхода того или иного сражения. С другой стороны, гражданское руководство Великобритании во главе с премьером Ллойдом Джорджем, будучи раздраженным демонстративно независимым поведением Хейга, использовало фактор неудач фронтовых разведчиков в качестве повода для попытки (правда, безуспешной) отстранения строптивого генерала от должности главкома [38].
Для критики военных разведчиков были поводы и на других участках фронта. Британский исследователь Р. Роуан приводит факт крупного провала военных разведчиков в ходе закончившейся неудачей операции по захвату Дарданелл в 1915 году, когда мощная военно-морская группировка союзников под руководством британского адмирала де Ребека после продолжительной бомбардировки укреплений и флота турок так и не смогла воспользоваться ее результатами, поскольку вовремя не была информирована разведчиками «об очистке плацдарма для высадки, и союзники упустили все свои преимущества» [12, с. 11].
Что касается просчетов МI6, то, по мнению официального историка этого ведомства Бойла Самервилла, самым главным недостатком была неудовлетворительная подготовка сотрудников и тем более агентов для выполнения специфических задач за пределами страны и за линией фронта. «Слишком много офицеров, – указывает историк, – откомандированных для выполнения разведывательных задач во время войны, были проинструктированы весьма посредственно, зачастую в отрыве от реалий обстановки, чтобы делать свое дело надлежащим образом» [35, рр. 55–67]. К тому же и учет агентуры был поставлен весьма условно. Упоминавшийся исследователь Р. Роуан пишет о том, что многим офицерам-разведчикам позволялось набирать агентов и давать о них сведения в общих чертах, отчитываясь только в затраченных на них суммах. А это порой вело к очковтирательству и злоупотреблениям [12, с. 7]. Примечательно, что британцы не любят вспоминать о явных неудачах своей разведки в Советской России в первые годы после взятия большевиками власти в стране. Однако многочисленные провалы организованных именно британскими спецслужбами заговоров, случаев саботажа и диверсий говорят сами за себя.
Успехи и заслуги
И тем не менее нельзя обойти вниманием и явные успехи британцев на данном весьма специфичном поприще – в разведывательной работе, чем они, естественно, гордятся.
Среди удач MI6 приводятся факты вербовки целого ряда высококлассных агентов, таких, например, как доктор Карл Крюгер, немецкий морской инженер, который постоянно снабжал британцев выверенными сведениями о программах германского кораблестроения и состоянии дел на верфях. Получив задание добыть чертежи (а лучше образец) нового немецкого аэроплана «Фоккер», британские офицеры завербовали германского летчика, обиженного несправедливым к нему отношением со стороны командования, который всего за 60 фунтов стерлингов перегнал новый самолет в расположение союзников. Британцам удалось осуществить и беспрецедентную операцию под кодовым названием «Белая женщина», в ходе которой была сформирована широкая по охвату сеть агентов и осведомителей, включавшая порядка 800 человек, в основном женщин, обеспечившая Лондон точной информацией обо всех передвижениях германских военных эшелонов и состоянии транспортных коммуникаций в целом на территории стран Центральной Европы [18]. На Ближнем Востоке у британской разведки в тот период также были весьма значительные достижения. Достаточно вспомнить привлечение британцами к работе на корону обширной сети еврейских переселенцев-сионистов, местных и приезжих коммерсантов и торговцев. Особо британские спецслужбы гордятся вовлеченным в их сети офицером Томасом Эдвардом Лоуренсом, получившим впоследствии прозвище Лоуренс Аравийский. Этому всесторонне одаренному человеку, действовавшему под контролем британских спецслужб, удалось втереться в доверие арабов, возглавить их восстание против турок и во многом способствовать формированию на Ближнем Востоке военно-политической обстановки, отвечавшей интересам официального Лондона.
Несмотря на взаимные упреки командования экспедиционных сил и военных разведчиков во Франции, а также попытки тех и других приписать себе заслуги в случае проведения удачных операций, британские исследователи все же были вынуждены признать, что действительно «хвалить следовало бы разведчиков, а не полевых командиров». В качестве примера приводится факт «блестящего анализа ситуации и предсказания вероятных действий противника», осуществленных именно разведчиками, руководимыми генералом Коксом, в результате чего в марте 1918 года было провалено организованное лично Людендорфом наступление в Пикардии немецких дивизий с печальными для них последствиями [12, с. 41–42].
Триумф технарей
Но, пожалуй, самых больших успехов британская разведка достигла в так называемом шпионаже с применением технических средств. Начало ХХ века было сопряжено с резким скачком технической революции, достижения которой быстро перекочевали в военную сферу, а в ее рамках – в область разведдеятельности. Так, например, с началом войны обе враждующие стороны почти сразу стали применять авиацию не только как средство доставки боеприпасов к цели или перевозки тех или иных нужных фронту материалов, но и для разведки, как визуальной, так и фотографической. Автотранспорт, быстроходные суда также моментально были использованы разведчиками для ускорения доставки разведывательных сведений к соответствующим инстанциям и агентам. Однако самый существенный вклад в тот период в развитие разведки как таковой внесли достижения в области телефонии и беспроводных средств связи, а также соответствующие разработки в области перехвата, дешифровки и декодирования перехваченных сообщений противника.
Удивительно, но в отличие от других великих держав Великобритания накануне Первой мировой войны формально не имела организованных структур радиоразведки. В период войны с бурами (1899–1902) британцы приобрели некоторый опыт защиты телефонных коммуникаций от прослушки и даже пытались заниматься перехватом и дешифровкой переговоров противника. Однако после окончания войны, даже несмотря на то, что в военном министерстве была сформирована специальная секция с задачей разработки шифров и кодов для применения их в вооруженных силах, на дальнейшие шаги по структурному оформлению радио- и радиотехнической разведки британское руководство не пошло. И лишь с началом войны в военном министерстве и адмиралтействе были созданы уникальные подразделения, заложившие основу развития отдельного направления в ведении разведывательной деятельности. Речь идет соответственно об Отделе MО5, почти сразу переименованном в MI1(b), и Кабинете 40, в функции которых были вменены перехват и дешифровка сообщений противника как на государственном (стратегическом), так и на военном (оперативно-тактическом) уровнях. Забегая вперед, подчеркнем, что в 1919 году оба подразделения были слиты воедино и получили наименование Правительственной школы кодов и шифров, которая вскоре преобразовалась в знаменитый Правительственный центр связи, и поныне являющийся одним из членов Разведывательного сообщества Великобритании [18].
В годы Первой мировой войны и сухопутчики, и моряки в результате качественного подбора кадров в эти подразделения, включая в том числе математиков-криптоаналитиков, языковедов-лингвистов самого широкого профиля и страноведов, достигли весьма впечатляющих результатов по перехвату и дешифровке (декодированию) прежде всего германских шифров (кодов). Упоминавшийся историк Р. Роуан приводит данные о том, что, например, «стараниями военно-морских разведчиков британцы за сутки перехватывали до 2 тыс. сообщений, почти каждое из которых дешифровывалось, переводилось и доводилось до командования с тем, чтобы было принято единственно правильное решение» [12, с. 15]. Именно благодаря вовремя перехваченным и дешифрованным сообщениям британское командование было в курсе подготовки германцев к Ютландскому сражению и успело принять соответствующие контрмеры. Сухопутные криптографы также, хотя и в меньшей степени, внесли свой вклад в обеспечение победы союзников в войне. Тот же Роуан приводит факты перехвата британцами инструкций германского МИД послам, сообщений о подготовке цеппелинов к налетам на войска союзников и т. п.
И все же наибольшего успеха в годы войны, по признанию британских военных историков, добились сотрудники Кабинета 40, подчинявшегося непосредственно главе военно-морской разведки адмиралу Уильяму Реджинальду (позже – сэру Уильяму), которые сумели перехватить и дешифровать послание главы германского внешнеполитического ведомства Циммермана своему послу в Мексике фон Экгарту, содержавшее предложение о союзе с Мексикой против Соединенных Штатов и о содружестве с Японией с теми же целями; приманкой для мексиканцев должен был служить захват и аннексия территории на юго-западе США. Любезно переданное американцам дешифрованное британцами послание буквально ошеломило политический истеблишмент Вашингтона во главе с президентом Вудро Вильсоном и фактически спровоцировало вступление США в войну на стороне Антанты [18; 12, с. 17–18].
Таким образом, есть все основания констатировать, что называется, лежащий на поверхности факт того, что, несмотря на многие столетия своего существования и относительно успешного функционирования, британская разведка в своем современном виде, причем структурном и качественном, сформировалась именно в годы Первой мировой войны. Но впереди британскую разведку ждало еще одно серьезное испытание – Вторая мировая война!