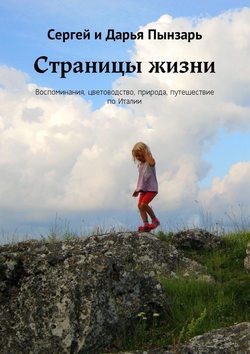Читать книгу Страницы жизни. Воспоминания, цветоводство, природа, путешествие по Италии - Сергей Пынзарь - Страница 4
Часть первая. ВОСПОМИНАНИЯ
ДЕТСТВО
Детство в Сибири
ОглавлениеСибирь! Леса и горы скопом
Земли довольно, чтоб на ней
Раздаться вширь пяти Европам
Со всею музыкой своей.
Могучий край всемирной славы,
Что грозно щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Её рудник и арсенал.
Родимый край лихих сибирских
Трём войнам памятных полков
С иртышских, Томских, Обских, Бийских
И Енисейских берегов…
А. Твардовский
Даже не знаю, с чего начать, в каком порядке вспоминать. Столько всего хранится в памяти, не уходит не стирается, до сих пор продолжает сниться, не отпускает… Успенка – деревня дворов не менее двухсот – привольно раскинулась одной улицей прямой вдоль Успенской курьи и впадающей в курью речки. Километра на три с прибавочкой, с запада на восток. Западная часть километра на два и по сей день называется Хохляндия. Восточная называется Мугулёвщина; от ее окончания до деревни Куиндат всего с километр узкой лесной тропой через сосновый лес, а там и райцентр Пышкино-Троицкое – ныне Первомайское – недалеко. Успенка – отделение колхоза с центральной усадьбой в деревне Ежи. Расстояние до Ежей пара километров, уже не тропой, а дорогой грунтовой. Эта дорога шла из города, входила в Успенку на границе Хохляндии и Мугулёвщины, называлась Троицкая дорога. Через Успенку, Ежи – на Сергеевку и далее по поселениям, расположенным вдоль реки Чулым.
Одно прозвище говорит о том, что деревня основана переселенцами с Украины и Могилевщины. На украинской стороне имелось несколько хозяйств с глухими высокими заборами из толстых брёвен, дворами. Судя по этим дворам, а также по величине и старости кладбища Хохляндии, украинцы первыми пришли на эти земли, а могилевцы присоединились позже. Происходило это еще в царские времена, и думаю, что раньше реформы Столыпина.
Вся деревня расположена на высоком берегу с уклоном в западную сторону. В конце немного не доходит до уровня курьи, и в сильные весенние половодья вода доходит до улицы, затапливает огороды. Не счесть на земле томской рек и речушек, озёр и болот. В самой деревне Успенке помню не меньше четырех болот, и все на украинской стороне: Ермолаево болото, Школьное болото, еще пара поменьше. Весной ни проехать ни пройти, для пешеходов мостки. Через одно болотце такое, что прямо по улице, помню, машина застряла одной экспедиции. Долго они возились, передрались, пока выбрались. Страшно били одного, ногами пинали по голове, по морде, наверно шофёра. Жуткое было зрелище. Бабы кричали, ничего не помогало – били, пока не устали.
О том, что деревня старая, говорит и тот факт, что на берегу Ермолаева болота мы брали гумус (перегной) для подсыпки в лунки при посадке помидоров. По словам старожилов, там давно был конный двор, возможно, ям на ямщицком тракте. Торчали почти сгнившие пеньки столбиков, а слой гумуса был под тридцать сантиметров. Колхозное хозяйство в деревне было довольно большое: конеферма, овцеферма, свиноферма, телятник на голов под сто тридцать, в котором содержались нетели до отёла, после чего их переводили в Ежи на молочную ферму. А ещё склады, зерносушилка… На полях получали хорошие урожаи ржи, пшеницы и овса. Выращивали лён и клевер. Лён обрабатывали в деревне – вымачивали, сушили, кудель и паклю производили. У каждого хозяйства на деревне большие огороды. Сажали вкуснейшую картошку и получали большие урожаи. Выращивали лук, репу, брюкву и морковку, и даже помидоры. Правда, помидоры не успевали созревать на грядках. Дозаривали в валенках, в соломе – в тепле… Помидорами славилась бакенщица, что жила на берегу Чулыма. По вечерам, на весельной лодке она поднималась вверх по течению, зажигала огни на бакенах, а по утрам тушила.
Огороды северной стороны упирались в полосу молодого березняка с примесью сосенок. За этой полосой метров четыреста шириной – дорога, а за ней сплошной сосняк молодой, где изредка встречались могучие вековые сосны. Помню, пошел я, малец – шестой годик, в лес да и заблудился. Шел по этой дороге, ревел, но шел правильно, вышел к дому. Огороды южной стороны выходили к крутому яру Успенской курьи. Там тропинка от одного до другого конца деревни.
На подворьях много живности. Свободно гуляли по улице поросята, куры и гуси, телята. Два стада коров на деревне – в Хохляндии свое, у мугулёвцев тоже. В каждом стаде голов поболее сотни и свой пастух. Жил на деревне и пчеловод – дед Микола. Насколько помню, исполнял обязанности попа. Церковь на деревне была, рядом со школой, но не работала. При церкви домик, вроде сторожиха церкви жила. Двор у Миколы старинный, высоко огорожен, сплошной из бревен на берегу Ермолаева болота. Пчёлы у него ну очень злые. Однажды (наверно, роение) налетели на проходившую по улице маму. Искусали страшно, но обошлось. Если такое теперь, когда сплошь аллергия, наверняка исход печален.
Раз коснулось пчел, вспомнилось: однажды за рекой Чулым на лугах заливных, на одной березе отец нашел дупло с пчелами. Захотелось ему меда сладкого, пчеловодом стать решил. Дело было к осени. Взяли пилу и топор, по курье на лодке добрались до стороны, что близко к Чулыму. Там на другую лодку и вверх по течению до протоки. Чуть по протоке – и высадились на луга, на колхозные покосы. Нашли березу, стали прислушиваться: есть ли пчёлы? Отец залез, заткнул отверстие дупла. Спилили мы дерево и начали выпиливать колоду. Первый срез сделали – всё нормально. Прикинул отец, где пилить второй, немножко пропилили, вдруг отец подпрыгнул. Пила выпала из среза, и начались половецкие пляски и спринт на рекорд – догонят пчёлы чи не догонят. И ой! И ай… Неплохо покусали, но таки мы убежали. Подождали темноты, когда эти неправильные пчёлы улягутся спать, колоду чуть дальше выпилили. С километр на горбу до лодки, потом на другую, потом до дома. Увы, не перезимовали пчёлы, все передохли, не досталось нам меду.
Было в деревне всё, что нужно для нормальной жизни: начальная школа, совмещенные ясли-садик, клуб, магазин. Медпункта не было, если что – в Ежах в центральной усадьбе всё: медпункт, средняя школа, дом культуры, отдельно библиотека… Перечитав всё, что было в школьной и клубной библиотеке Успенки, помню, перешел на Ежинскую.
Много народу из Успенки не вернулось с войны, из тех, что вернулись, были безрукий, безногий, глухой, слепой. О слепом стоит отдельно. Полностью был слепой. Жил в землянке, вырытой на косогоре, с которого детвора каталась на лыжах и санках. Особо сорванцы спускались через эту землянку, используя как трамплин. Так вот этот слепой на ощупь изготавливал печки-буржуйки и трубы-дымоходы к ним отличного качества. Что склеить, починить – тоже шли к нему. Был у него особо прочный клей какой-то. Прощупывая палочкой дорогу, он ходил на прогулку, ходил на рыбалку. Ловил удочкой без всякого поплавка, по чутью. Детвора – озорники, бывало, подшучивали: идет с рыбалки, они ему ветку на тропинку. Подойдет, ветку найдет, отодвинет: «Ах вы, стервецы! Ах вы, негодники, я вам щас покажу…» Пострелята врассыпную бегут, со страху пятки сверкают.