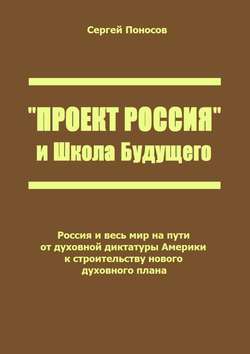Читать книгу «Проект Россия» и Школа Будущего. Россия и весь мир на пути от духовной диктатуры Америки к строительству нового духовного плана - Сергей Поносов - Страница 5
Часть 1. О «Проекте Россия»
и контуры Школы Будущего
ГЛАВА 2. О ХРИСТИАНСКОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ АПР
ОглавлениеМировоззрение человека определяет базовый набор его ценностей, его духовный план. «Отношение к любой ценности определяется ответом на вопрос: эта ценность дана мне в постоянное пользование или случайно досталась на время? Ответ определяет отношение к главной ценности, к жизни.
Затронутая тема находится в области метафизики, которую большинство осмысливает подсознательно, не загоняя в жёсткие рамки логики. Получается, если есть Бог, значит, жизнь наша вечная, и отношение к ней одно. Если Бога нет, значит, жизнь временная, и отношение к ней другое. Если человек осознаёт себя в этой жизни случайным гостем, возникшим из небытия и обречённым уйти в небытие, выстраивается одна логика. Если человек осознаёт себя хозяином жизни, который намеревается жить бесконечно, выстраивается другая логика. Кто мы: случайные гости или хозяева? Ответ лежит в области веры… Из этого формируется смысл жизни… Формируется он из двух вариантов понимания жизни.
Первый вариант: …считать наше существование случайным и временным явлением… В таком случае… смысл жизни – брать от жизни как можно больше, получать максимум выгоды из сокровища, доставшегося на время… Проявление доброты, морали и справедливости, ограничивающие насыщение жизни удовольствием, противоречит логике… Нет хороших и плохих поступков, есть выгодные и невыгодные. Получается, честность – признак глупости, а бесчестность – следствием ума. Поэтому люди, понимающие жизнь как временно и случайно доставшуюся ценность, обречены на жизнь потребителя. Главными ценностями неизбежно становятся чувственные удовольствия, в погоне за которыми общество встаёт на хищнический путь, пожирая само себя.
Второй вариант рождается из утверждения, что человек есть творение неведомого и непостижимого Высшего Существа – Бога. Бог дал ему вечное существование… после биологической начнётся другая жизнь, с сохранением всех свойств личности. Ведь душа бессмертна… Бог говорит, что если человек станет жить по заповедям (в светском варианте – по совести), то по завершении земной жизни он получит в награду вечную блаженную жизнь. Если человек будет нарушать данные Богом правила, его постигнет вечное наказание. При таком взгляде жизнь понимается как задача, которую нужно решить… Человек, как существо свободное… находит смысл в следовании морали, выведенной не из личного блага, а из заповедей Бога… наказание за преступление неизбежно. Бог видит всё… раз честных ждёт великая награда на небесах, значит, честность есть признак ума. Мы можем верить в существование Бога, можем верить в Его несуществование, но в том и другом случае мы будем ВЕРИТЬ» /1, с.85—89/.
«Принципиальный момент – нерушимая связь между существованием и удовольствием. Жизнь – синоним удовольствия. Чем больше удовольствия, тем полнокровнее жизнь… Желание хорошо жить инициирует развитие человека и общества. Первое время развитие идёт в коридоре, построенном религиозным пониманием мира. Со второй половины второго тысячелетия от Р.Х. начинается развитие в логике материализма. Новое понимание мира корректирует главную цель. Теперь она понимается как продление жизни и получение земных благ. В идеале вечная молодость, здоровье, богатство. Всё в рамках земной жизни. За её рамками желаний нет, поскольку нет понятия загробной жизни.
Согласно материализму, вершина развития общества – «от каждого по возможности, каждому по потребности». Если идти в логике этого мировоззрения… от человека ничего не потребуется. Он живёт ради удовлетворения своих потребностей, ради получения бесконечного удовольствия.
Воображение рисует мир, где всё делают машины. Человек только радуется жизни… В идеале вся планета (или даже вселенная) поставлена на службу человеку.
…смысл жизни сводится к стремлению получить бессмертие и удовольствие в рамках своей жизни… Логике материализма по природе присуща одна линия поведения, религиозной логике – другая“ /3, с.36—37/. „Если большинство смотрит на мир с позиции «живём один раз», общество идёт в одном направлении. Если большинство смотрит на мир с позиции загробной жизни, общество идёт в другом направлении.
По материалистической логике цель жизни – вечное существование в своё удовольствие. Если цели удаётся достичь, кажется, это так хорошо, что дальше думать не о чём. Картина настолько благостная, что просто счастье. Человек не умирает, не болеет, не старится, плюс ко всему исполняются все его желания. Достижение такого состояния по сути является концом истории. Дальше развиваться некуда.
У кого язык повернётся назвать намерения материализма плохими? Но есть другое выражение: «благими намерениями вымощена дорога в ад»… в ад ведут не вообще благие намерения, а недодуманные, не осмысленные во всей полноте… Никто не думает, что возникает на подступах к идиллии. Технология соблазнения такова, что самое плохое открывается по мере приближения к поставленной цели» /3, с.38/.
Базовую составляющую мировоззрения АПР, понимание смысла жизни, я конспективно осветил, причём в оппозиции к пониманию смысла жизни с точки зрения материализма. Целостное мировоззрение должно иметь определённые позиции ещё в ряде важных тем:
– отношение к духовности и нравственности;
– отношение к происхождению мира;
– отношение к эволюции и истории;
– отношение к власти и государственному устройству, в том числе к демократии;
– отношение к восприятию и познанию мира, к понятиям «знание» и «истина»;
– отношение к творчеству и к творцам;
– отношение к свободе.
Духовность у христиан (и у АПР в том числе) предполагает веру в Бога и стремление спасти свою душу через следование его заповедям. «У Христа спрашивают: „Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки“ (Мф. 22, 36—40). На этих двух заповедях ВСЁ христианство» /3, с.183/. «Эти две заповеди – основа христианства. Они не умаляют прочие заповеди, но подчёркивают: любовь к ближнему – основа христианства» /2, с.318/. «Много в Новом Законе (Божьем) в высшей мере „странных“, как для прошлого, так и для нашего времени предписаний. Например, любить врагов. „Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас“ (Мф. 5, 43—44). Или не менее странная заповедь не судить…» /3, с.183/.
«…спасение души есть выполнение заповедей Христа» /2, с.318/. «Из этого следует, что главный путь спасения – любовь. Чтобы спасти душу, нужно любить ближнего. …По вашему отношению к человеку, особенно если он в беде, можно точно сказать, насколько вы его любите… Люди часто говорят „люблю“ не потому что любят, а чтобы пользоваться его телом или кошельком. Никакая это не любовь… любовь выражается в стремлении принести благо любимому» /2, с.319/.
Атеизм опирается в своей основе на рациональное мышление, на логику. «Логика не может быть фундаментом совести. Для этого годится только религия» /1, с.215/. «Корни совести всегда лежат в религии, и ни в чём ином кроме религии. Тот факт, что человек действует по совести, подтверждает, что он имеет веру, даже если не считает себя верующим» /1, с.104/.
Тенденции таковы, что духовный облик современного человека всё больше соответствует природе материализма и соответствующему ему смыслу жизни. «Давайте называть вещи своими именами – мы живём в обществе, отменившем десять заповедей» /2, с.65/. «По мнению рядового западного обывателя, норма – это когда человек ориентируется не на заповеди Бога, а на карьеру и деньги. Кто ставит религию выше карьеры и гамбургеров, тот фанатик. Кто ставит выше карьеру и гамбургеры, тот нормальный» /1, с.253/.
Чтобы метафорически описать состояние нравственности в современном обществе АПР рассматривает жизнь крыс. «Эти животные в первую очередь известны своей невероятной выживаемостью. Основа такой живучести – в социальной сплочённости. Крысы …вместе ходят «на дело», помогают друг другу, защищают, если есть возможность, забирают с собой раненых. Крысы ощущают себя единым организмом и ведут себя как единый организм. Они быстро обмениваются информацией, быстро предупреждают об опасности, передают навыки защиты. Защитный механизм имеет нравственную природу.
Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на разрушении защиты. Так как защита имеет основанием нравственность, способ в итоге основан на разрушении нравственности… Берут крупную и сильную крысу, долго морят её голодом…» /2, с.55/, а потом создают условия, при которых она начинает пожирать своих сородичей. Сначала ей подбрасывали мёртвых, потом еле живых, потом живых сородичей. Крыса становится так называемым «крысиным королём». «Далее её выпускали назад в общество, откуда в своё время взяли. Это уже была не та крыса. Это было существо без признаков нравственности. В своих поступках оно руководствовалось логикой эгоизма… Очень быстро существо, внешне похожее на крысу, приходило к мысли: зачем где-то искать пищу, если она кругом, тёплая и свежая… Крысоед выбирал ничего не подозревавшую жертву и пожирал её… втайне от общества» /2, с.56—57/.
У людей способность к объединению и выживанию также зависит от их нравственности; «…подразделение выживает, если каждый боец готов умереть. Подразделение гибнет, если каждый боец стремится выжить. Аналогично и в мирной жизни, тотальный акцент только на личном благе в итоге всех лишит личного блага. Так не раз бывало в истории… Утрата высоких идеалов оборачивается утратой способности к объединению, то есть к созданию структуры» /1, с.68/.
«Разрушение человеческого общества осуществляется по технологии „крысиного короля“. Весь удар сконцентрирован на разрушении нравственности. Всеми способами выжигается понятие свой» /2, с.59/. «Одни люди сегодня пожирают других… Если „крысы“ лоснятся от жира, значит, кто-то лишился жизни. Это только кажется, что слабые расстались лишь с кошельками… Убедиться в этом нетрудно, посмотрев динамику смерти и рождаемости» /2, с.64/.
«Показателем сломанной нравственности является поведение, когда свой предаёт своего» /2, с.55/. «Если у крыс основанием нравственности служит инстинкт, у людей – религия. Пока вера не восстановлена в своих правах, пока она не стала краеугольным камнем всего дома, не поставлена на своё законное место, никакой человеческий дом не может стоять. Как говорили наши предки, „нет граду стояния без праведника“. Без религии не бывает праведника… Выход из тупика один – православный путь. Во что конкретно он выльется, мы не знаем, но уверены – иной дороги у нас нет. Наше существование невозможно без глубинных нравственных основ, коими не может быть логика. Только метафизика, Православная вера; …над человечеством навис древний враг из мира метафизики, имя которому сатана…» /2, с.67—68/. «Существование России зависит от того, какое место у нас займёт нравственность. Чем она будет – архаизмом, выросшим из суеверия, или краеугольным камнем всей социальной конструкции» /1, с.218/.
Важнейшей составляющей целостного мировоззрения является отношение к происхождению мира. Религиозное мировоззрение, которое характерно и для АПР, предполагает сотворение мира и человека Богом, мировоззрение атеизма предполагает, что мир появился сам в результате Большого взрыва. В роли создателя ничего – «квантовая флюктуация (минимальное колебание, близкое к полному покою, но не покой)» /3, с.140/. Атеизм идейно базируется на материализме. «Материализм – одна из разновидностей теории вечного мира. Именно он является точкой отсчёта, инициирующей смертельные для человечества процессы. Особенность материалистического мировоззрения – отрицание организующей силы. Вселенная понимается как мёртвый бессмысленный объём энергии и материи. Это… неустранимая и неисчезаемая сущность… По материализму, мир никто не создавал, и он не является разумным существом… мир есть огромная бессмысленность. Бессмысленное целое превращает в бессмысленность составляющие его части… во вселенной случайно возникает жизнь. На окраине галактики, на планете Земля образовался первобытный океан, где аминокислоты склеились в живую клетку. За сотни миллионов лет эволюции из этой клетки развивается многообразие флоры и фауны. Венцом биологической эволюции становится человек» /3, с.34/.
«Суть научной теории Большого взрыва: квант материи находился в кванте движения. Исчезающе малая величина двигалась с исчезающе малой скоростью. Почти ноль материи почти не двигался… Квант материи, и квант движения начали увеличиваться. С этого момента рождается наш сегодняшний мир.
Так выглядит теория мироздания «на пальцах». Мы больше чем уверены: ни у одного материалиста во время чтения этого текста не возникло отторжения. Причина простая – терминология. Если сказать то же самое религиозными терминами, у человека возникнет отторжение информации. Если кванты и флюктуация, о! – это да, это то, что надо. Если Бог и акт творения – это мракобесие и архаизм.
Материалистическая теория обходит молчанием причину, развернувшую процесс бесконечного уменьшения в бесконечное увеличение. Понятно, почему этот момент замалчивается: в противном случае обнажается идея Бога…
По материализму получается: одно «ничего» толкнуло другое «ничего», и возник мир» /3, с.140/.
«Первая точка отсчёта всегда принимается на веру. Вера в существование Бога, равно как и вера в Его несуществование, не может быть рациональным знанием… Кем бы вы себя ни определили, в любом варианте вы верующий… Заходя в сферу глобальных вопросов, мы попадаем в область веры. Можем верить: мир вечен, он был, есть, будет. Можем верить: мир возник однажды и однажды исчезнет…
Очень бледная аналогия создания мира из ничего, а потом превращения его снова в ничего, прорисовывается с виртуальной реальностью. До появления компьютера виртуального пространства, существующего вне сознания конкретного человека, не было. У каждого в сознании было своё виртуальное пространство (воображение). Развитие прогресса привело к рождению автономной виртуальности… Можно предположить заселение этого пространства виртуальными существами. Через 1000 лет развития компьютерных технологий существа станут разумными, способными мыслить… Жёсткий диск будет записывать всю информацию о них. Существа не будут знать ни о программисте, создавшем эту реальность, ни о жёстком диске. Для них наш мир будет иной формой бытия, которого как бы нет. Стоить отключить этот виртуальный мир от энергии, он превратится в ничто, в небытие… Эта аналогия помогает представить, как может исчезнуть пространство.
Идея «мир из ничего» неразрывно связана с идеей Творца, понятием Бога…
Это не языческое божество, строящее мир из собственной плоти или первичной материи, или само являющееся миром. Это высший Бог, сотворивший пространство, материю, движение и время из ничего…“ /3, с.142/. „Слово произвело мир… Греки употребляют термин Логос, но суть не меняется.«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть» (Ин. 1, 1—3).
…Все версии о вечном мире, который суть природа или божество, создающее мир из себя или из вечной природы – энергии, соответствуют современному и древнему здравому смыслу… Мы же говорим о принципиально ином акте… Природа Творца и природа тварного мира это две совершенно разные формы, не переходящие одна в другую» /3, с.144—145/.
«Все Священные Писания, исповедующие идею творения Богом мира из ничего – иудаизм, христианство и ислам (указаны в порядке появления на свет) – отмечают глупость мудрецов, уповающих на выводы ума. «Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» (Кор. 1, 20)» /3, с.146/. «…В христианстве, иудаизме и исламе природа мира и природа Бога находится в принципиально разных плоскостях (слабое подобие аналогии разной природы – природа виртуального существа и природа реального человека) … Когда мир был сотворён, Он создал венец творения – человека и назначил его хозяином всего мира. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему подобию Нашему» (Быт. 1, 26). Из этого следует колоссальный вывод. Если Бог – внепространственная и вневременная надмирная Сущность, а человек подобен Богу, получается, в человеке есть частица надмирного внепространственного и вневременного непостижимого божественного бытия» /3, с.147/. Человек – «тварь (сотворён), но богоподобность делает его, образно говоря, маленьким богом, обладателем божественных качеств» /3, с.149/. … «по образу и подобию». Это объясняет, почему человек может выступать по отношению к Богу как соратник и даже больше – как друг. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15, 15)» /3, с.151/.
Далее обозначу отношение АПР к истории и эволюции. Что касается эволюции, то у него простая позиция: теория эволюции является платформой атеизма, а потому отношение к ней как к «вреднейшей». Это притом, что «сам Дарвин, говоря о своей теории, до конца жизни утверждал, что первое звено эволюционной цепи приковано к Божьему Престолу» /1, с.64/.
АПР предлагает «осмыслить всю историю человечества разом, как единое целое» /3, с.24/. «История любого объекта есть понимание природы этого объекта и условий, в которых объект находится… Зная базовые особенности природы объекта и ситуацию, вы знаете его будущее… Кто не понимает природы… человечества, тот никогда не сможет понять Историю человечества… Что толкает историю…? Двигателем всякой цивилизации является природа членов этой организации… Следовательно, нужно понять суть человека.
Центральное требование тела – инстинкт самосохранения… Центральное требование души – самооценка… Стремление соответствовать тому уровню достоинства, который мы себе определили, подчиняет наши мысли и желания… Все побудительные мотивы базируются на этих двух данностях, но приоритетной является только одна… Одни готовы отказаться от жизни ради чести, другие – от чести ради жизни… Духовность делает народ единым целым организмом, способным к высокому творчеству и созиданию. Уничтожение духовной составляющей превращает человека в умное животное» /1, с.77—79/.
Для анализа истории АПР не использует всю совокупность фактов, часто не дающих полноты картины, с одной стороны, и излишнее подробной – с другой. Для анализа исторической информации необходимо иметь в виду, что её подача определяется отношением к ней. Информация формируется людьми, которые её создают. «Кто создаёт главную информацию, на которой растёт наше сознание и подсознание, тот задаёт миру магистральное направление» /3, с.27/.
«Чтобы не потонуть в море вторичной информации, важно определиться, каким размером оперировать в мировой истории… В поисках ответа, в каком временном шаге осмысливать человеческую историю, мы пробовали разные объёмы… В итоге остановились на шаге в 500 лет плюс / минус 100 лет. …Рисуя историю такими мазками, мы получаем цельную и не замусоренную деталями картину мира. Деятельность исторических фигур… при таком объёме незаметна… Движущими силами становятся идеи и возникшие вокруг них школы… История, осмысленная шагом в 500 лет, это история мировоззрений… Не экономика и политика создают мир, а именно мировоззрение» /3, с.24—25/. Глубинный смысл истории «виден только через осмысление порождающих и двигающих её идей… Если наша цель понять историю, мы должны признать единственной реальностью идеи…» /3, с.33/.
Изложение мировой истории АПР носит прохристианский характер. Вся она, начиная от Сотворения человека Богом, историй Адама и Евы, Ноя, разделена на семнадцать этапов. Ниже приведено сокращённое описание четырёх последних.
«…Четырнадцатый этап. В ХХ веке начинается установление мировой демократии (почва для установления мировой власти). Сначала создаётся глобальная финансовая система, позволяющая контролировать ключевые узлы мировой экономики. К середине ХХ века появляется информационная система: мировые новостные агентства, мировая киноиндустрия, эстрада, интернет, и прочие элементы. Начинается контроль мирового сознания.
Обратите внимание на принципиально важную деталь: любая мировая система создаётся не ради денег, а ради власти. Здесь как с авианосцем – его можно создавать только для решения геополитических задач. Для целей более мелкого уровня такое оружие непригодно.
Пятнадцатый этап. Мировой игрок приступает к точечному минированию мира. Сегодня на наших глазах началось обрушение системы. Её вводят в управляемый кризис посредством известных технологий (крах экономики, теракты, большая война). Параллельно создаются центры стабильности, вокруг которых будет структурироваться новая модель – «гармоничное» общество (земной рай без Бога).
Замечу, что АПР здесь не вполне последователен, возможно, ему следовало прокомментировать, почему в ХХ и ХХI веке использован другой шаг, не 500 и даже не 400 лет, а гораздо меньший срок.
Шестнадцатый этап. Мир перемалывается в пудру и из полученного материала строится новое царство. Правителем нового царства становится Антихрист. На планете возникают неприемлемые условия для христиан. Человечество делится на две части. Одна часть встраивается в новые условия, принимает метку, «покупает и продаёт». Вторая не принимает метку, но чтобы выжить в новых условиях, образует новую социальную конструкцию. Не новое государство и церковь, а именно какую-то новую структуру, ковчег, защищающий от неприемлемых требований, решающую роль в этом деле выполнит соработничество церкви и человека.
Семнадцатый этап. Второе пришествие Иисуса Христа. Страшный Суд и переход в новую действительность» /3, с.399—400/.
Вот такие прогнозы даёт понимание ситуации и природы человека. Заметим также, что «вся история крутится вокруг линии Истины, пронизывающей мир от Сотворения до Конца. Истина одна, уклонений множество. Бог един, сущностей, выдающих себя за Бога, множество» /3, с.396/. И в заключение темы понимания истории подчеркнём, что «новые эпохи рождаются не из совокупности материальных и исторических причин, где количество перешло в качество, а из идей… Откуда и как в мир приходят идеи, мы не знаем. Но можем констатировать: в момент появления идеи появляется весь будущий мир… Идея материализма развернулась в новое время. Из „зерна“ выросло „растение“ – потребительское общество. Сегодня этот тип общества умирает» /3, с.345/.
«Потребительское общество спокойно стало жить животной жизнью в горизонте сиюминутности: живи здесь и сейчас, бери от жизни всё, главное в мире – я и мои удовольствия… Растёт армия извращенцев, общество не видит перспективы и будущего. Множество культур и цивилизаций, достигнув конца истории, прекращали существование. Признаки конца света всегда одни – Содом и Гоморра…
Человечество не родилось с христианскими нормами. Существующие запреты на извращения не были естественными. Все они пришли из учения Христа. Надежда на то, что запреты останутся, а самого учения не будет, есть глупость, объясняемая только тем, что внимание людей перенесено с первичного на вторичное… не смотря на настойчивость европейских церквей, в проект евроконституции не был включён параграф о «христианском наследии и ценностях»…
Культура и религия Греции, Франции, Германии и любой другой европейской страны погибают под ударами своего же закона» /3, с.346—347/.
Ещё одной важной составляющей целостного мировоззрения АПР является отношение к власти и государственному устройству, в том числе к демократии. «Социальная конструкция, именуемая государством, возникла из стремления людей к самосохранению… чем больше людей объединятся, тем в большей безопасности они окажутся… Большие социальные конструкции возникают вокруг больших (масштабных) идей… Самое большое знание, максимум, на который человек может претендовать, это знание видимого и невидимого мира. Знание природы (физики) и знание за рамками природы (метафизики) – цельное. Из него выводится большая идея, определяющая смысл жизни человека. Цель, лежащая за рамками мира, может быть принята всеми, потому что не касается текущей жизни. Из-за отсутствия разногласия возникает потенциал объединить максимум народа. Это образует максимум ресурсов и в итоге максимальную безопасность.
Создание большой структуры начинается с высшей идеи. Если её удаётся донести до большого количества людей, они начинают объединяться…» /3, с.261—262/.
Государство в своём историческом развитии прошло четыре этапа.
«Первый этап: Первичный импульс задают инстинкт самосохранения и цель, выведенная из большого знания. Вокруг большой цели накручивается большая структура – государство. На этом этапе оно – инструмент служения языческим божествам (наиболее яркий пример – ацтеки)» /3, с.265/. Государство само начинает формировать сознание народа, ориентируя его на достижение этой цели.
«Второй этап. Когда служение высшей цели оказывается в зависимости от государства, а само государство зависит от золота и меча, приоритеты меняются. Государство из инструмента служения божеству само превращается в божество. Свергнутое божество становится инструментом, работающим на укрепление мощи государства.
Третий этап. Развитие государства приводит к обожествлению правителя. Далее обожествляются его родственники и ближайшее окружение. Голова государства – божества стягивает на себя статус государства. Правитель превращается в самостоятельное божество, понимающее государство и религию инструментом для своих целей.
Последний этап. Элиту наполняют породистые простолюдины, не способные мыслить в должном масштабе. Формально они управляют государством, но фактически своими мелкими интересами порождают новое божество, мамону, которое пожирает государство.
Заметьте: раньше до последнего этапа государство не доходило. Оно слабело в конце третьего этапа и поглощалось соседями. Сегодня научно-технический прогресс породил искусственную ситуацию, в которой разложение и подчинение мамоне продолжаются» /3, с.265—266/.
Итак, государство – это структура необходимая для достижения некоторой большой цели, отражающей смысл жизни человека. Реализуют эту цель люди под руководством элиты. Для реализации цели элите необходима власть. В чём природа власти? «Власть – это господство взгляда и мнения. Если господствующего мнения (относительно цели общества) нет, значит, и власти нет…» /2, с.251/. Элита обладает ресурсом, но «…наличие ресурса не является показателем власти» /2, с.237/; «…нас учат: власть государства основана на монополизации насилия. На первый взгляд всё правильно. Но насилие без доверия невозможно» /2, с.245/; «…власть не в пушках и деньгах. Власть в доверии подданных. Власть есть доверие. Нет доверия, нет власти» /2, с.239/. Кстати, «власть, не способная к насилию, причём адекватному, не сможет противостоять хаосу» /2, с.249/. «Мы приходим к непривычному для либерального уха выводу. Возможность совершить насилие над своим народом есть показатель здорового общества. Невозможность такого действия приводит к разложению и исчезновению общества» /2, с.246/.
Ранее уже упоминалось, что может быть три различных источника власти – Народ, Сила или Религия. Власть или выбирается народом, или захватывается силой, или считается данной от Бога. Трём видам источников власти соответствует три формы государственного устройства: демократия, диктатура или монархия.
«Религия – единственное оправдание власти монарха – позиционирует его власть как власть от Бога. Если общество утрачивает веру, монарх в глазах народной массы (теряет доверие) превращается в диктатора, насильника и обманщика, а монархия – в тиранию, самую неустойчивую социальную конструкцию из всех возможных, обречённую рухнуть в силу естественных противоречий» /1, с.169/.
«В новом мире возникает вопрос: откуда должна браться власть? … Если раньше власть производилась от Бога на земле, то в атеистическом обществе такое объяснение было неприемлемым. Диктатура, то есть власть насильника над жертвой, тоже не годилась… Ничего не оставалось, как позаимствовать у древних институт демократии… источником власти должен быть непосредственно народ. Он же является её оправданием и основанием…» /1, с.171/. «Чтобы демократия не переросла в диктатуру, власть доверяется на фиксированное время, по истечении которого передаётся следующему избраннику. Если избранник не справляется народ избирает другого. В этом суть демократии.
На первый взгляд всё разумно. Но есть одно большое «НО» /1, с.173/; «… творцы новой государственной конструкции не смогли преодолеть главного препятствия… Народ должен выбирать власть. Сознательно выбирать, а не угадывать или выполнять чужую волю. Выбирать – значит из множества определять лучшее. Демократия из красивой теории могла стать реальностью только при условии, что народ делает осознанный выбор. И вот на этом, казалось бы, понятном и простом пункте демократы свернули себе шею» /1, с.171/. «Дело в том, что для совершения сознательного выбора нужны знания… Солдаты не могут выбирать военачальников именно из-за нехватки знаний… Всенародные выборы сводятся к откровенной глупости, потому что народ, как ребёнок, всегда отдаёт предпочтение фантику, а не содержимому» /1, с.173/. «Круг замкнулся: у народа нет знаний; без знаний нет выбора; без выбора нет демократии. Во Франции, России или США нет никакой демократии. Миф о демократических выборах в этих странах – сознательная ложь» /1, с.174/.
«Власть, доступная для всех, привлекает самые разные силы. И капитал в первую очередь, потому что власть – кратчайший путь к прибыли… Демократия превращается в ширму, за которой прячется олигархия или разновидность плутократии…» /1, с.175/. Путь к власти становится путём манипуляции сознанием общества. К управлению обществом приходит тот, кто опирается на капитал и более ловко, чем другие раздаёт обещания. Во времена монархии путь наверх предполагал родовитость, знатность. При демократии ограничения на право быть избранным минимальны. «Чем меньше ограничений, тем больше претендентов и жёстче соревнование… Демократический экзамен на «элитность» (право получить власть) сдавали самые жуликоватые из самых талантливых проходимцев» /2, с.18/. Демократическое общество находится под управлением «крысиных королей». Члены общества сами выбирают себе тех, кто будет питаться этим самым обществом».
«Управление обществом превращается в ремесло. Новые командиры легко обходят все преграды, предусмотренные теорией демократии» /2, с.17/. Управление обществом неизбежно опирается на манипуляции его сознанием. «Максимально эффективная манипуляция выражается в спекуляции на низменной составляющей природы человека» /2, с.246/.
Временное пребывание у власти порождает психологию временщика, ориентирует новую «элиту» на использование общества в корыстных целях. Чтобы оценить последствия для страны при смене власти каждые четыре года спросите людей: «… что будет с машиной, если её каждые четыре дня передавать в новые руки. Из ста человек сто ответят, что такой машине будет капут. Потом перенесите аналогию на страну, и увидите, насколько человек изменит мнение о демократии…» /2, с.287/.
Для оправдания своих властных полномочий «элита» нацеливает сознание общества на рост потребления. В этом смысле либеральное общество отличается от советского общества лишь по способу достижения цели, на уровне различий между холодной и горячей штамповкой. «…Спор марксистов и либералов есть спор производственников, как лучше создать заказанную деталь… Противостояния по цели нет, есть частные разногласия по способу её достижения» /3, с.40/. Рост потребления требует роста «свобод» и упразднения религиозных норм нравственности; «… косвенным показателем развития демократии служит динамика распространения пороков. Педерастия негласно признана самым точным показателем уровня демократии… Если педерасты не увеличиваются, значит, их права ущемляются, т.е. демократии недостаточно» /1, с.66/.
«На планете появился принципиально новый тип общества – потребительское… У членов нового общества начал формироваться новый смысл жизни… стремление к материальному благу… Что для традиционного общества было свято, для потребительского оказалось пустым сотрясением воздуха…» /2, с.17, 18/.
Демократическое общество становится внутренне разобщённым, «атомизированным», поскольку цели каждого его члена приходят в противоречие с целями других членов общества – следствие свободной конкуренции. «Когда общество понимает главной целью обустройство быта, каждый начинает тянуть в свою сторону. Общая цель неминуемо исчезает. Следом исчезает доверие, затем власть… В таком обществе возникает скрытая власть. Прячась за высокими словами о свободе и равенстве, она уничтожает свободу и равенство» /2, с.262/. «Система, именуемая сегодня демократией, не даёт шанса на изменение власти… Не народ определяет власть, а капитал… не верьте, что демократия даёт шанс что-то изменить» /2, с.315/; …иллюзия (возможности что-либо изменить) не может быть вечной. Умирает либо иллюзия, либо её носитель… Демократия, спекулируя на стремлении человека к счастью, в итоге ничего не даёт, но лишает всего, в том числе и души» /1, с.301/.
Показателем падающего доверия общества к демократии является низкая посещаемость выборов. «Ничему и никому не доверяющее общество по сути является социальным трупом… Раньше за право выбора умирали. Сейчас не знают, какие ещё придумать ухищрения, чтобы побудить массу реализовать это право. Это явный показатель приближающейся смерти системы» /2, с.250/.
АПР делает вывод о губительности демократии для России, Европы, да и всего мира, оперируя «противопоставлением временщика и хозяина плюс упор на то, что для сознательного выбора необходимы знания. Несознательный выбор не есть выбор в том смысле, в каком его использует демократическая теория» /2, с.119/. «Как солдаты не способны выбрать генерала, так народ не способен выбрать власть» /3, с.338/.
Если демократия не может обеспечить доверие общества, то что взамен? «Корень максимального доверия – в религии» /2, с.243/. «Самые запредельные цели даёт религия… Если цель не запредельна, она не может быть общей для всех, и, следовательно, не родит общего направления, а без него невозможно доверие, и как следствие, невозможна власть» /2, с.262/. «Утратив веру, люди утратят основание, опираясь на которое могли бы доверять правительству» /2, с.261/.
АПР указывает на противоречие между государством и религией. «Любая религия зовёт к достижению высших целей. Любое государство зовёт к достижению материальных целей. Эти цели не просто разные, они противоположные. Противоречия любой религии с любым государством неустранимы, потому что являются следствием разной природы. Чтобы снять противоречия, нужно соединить религию и государство. Это грозит опасностью превратить государство в божество, где объектом религиозного поклонения будет само государство и его цели. Так раньше и было, но с появлением христианства, отказывающегося признать цели государства высшими, возникает неустранимый конфликт.
…Чтобы государство было сильным, в первую очередь нужна сильная экономика. Это напрямую связано с потребительской активностью граждан, которая в свою очередь, является прямым следствием мировоззрения… Чтобы человек много потреблял, он должен видеть в этом высший смысл жизни… Исповедуя учение материализма, когда «живём один раз», и если так, то «бери от жизни всё», человек начинает видеть в потреблении смысл жизни… государство может быть по-настоящему сильным, если его граждане исповедуют материалистическое мировоззрение. Они могут быть сколько угодно верующими, но в их шкале ценностей над небесными должны доминировать земные… государству необходима карманная религия, которая помогала бы оправдывать государственные цели с религиозных позиций, сдерживая население от чрезмерного развращения.
В современной системе здесь тупик. Чтобы государство было мощным, оно должно соответствовать современному уровню экономики. Для этого ему нужно раскачивать потребление, что требует культивировать материализм. Но так как материализм ведёт к развращению, государство оказывается перед безальтерантивным выбором: направо пойдёшь – от разложения умрёшь, налево пойдёшь – от экономической немощи сгинешь.
Государство выбирает компромиссный путь между материализмом и метафизикой. Это замедляет приближение смерти, но не отменяет её… Современное общество, достигшее критического разложения, тем не менее, не исчезает, как, например, древний Рим. Прогресс создал новую ситуацию, где ему позволительно очень долго гнить. Возникают невиданные продукты гниения, которые однажды должны трансформироваться во что-то принципиально новое, чего ещё не знало человечество» /3, с.268—270/.
Целостное мировоззрение в качестве необходимой составляющей должно включать в себя тему восприятия, познания окружающего мира, а также понятия «знание» и «истина».
При восприятии «мы хотим верить, что всё вокруг нас соответствует образу, созданному мозгом. Что есть мир на самом деле, мы не знаем. И знать не можем, потому что не имеем возможности получить информацию о мире иным способом, кроме как через наших посредников, через пять чувств, сигналы которых расшифровывает мозг… если к нервным окончаниям глаза, уха, языка и т. д. подсоединить суперкомпьютер, который будет производить такие же импульсы, что эти органы получают от окружающего мира, наш мозг на 100% обманется… У него нет ни единого шанса отличить виртуальную реальность, созданную на компьютере, от реальной реальности (если она вообще нам доступна). …жизнь и окружающий нас мир не есть подлинная реальность, в наличии которой нельзя усомниться. Это предмет веры» /1, с.98—99/. «Невозможно доказать реальность мира. На вопрос, что есть мир – гигантская реальность или гигантская иллюзия, нет однозначного ответа. Это область чистой веры» /3, с.327/.
До Декарта «люди были склонны больше верить Откровению, чем своим чувствам. Точкой отсчёта, от которой строилось мировоззрение, были не чувства, а Вера. Появился Декарт и создал метафизическую точку отсчёта вне религии»
/1, с.99/. «Декарт искал абсолютной достоверности в рамках разума, без присутствия Бога. И породил: „мыслю, следовательно, существую“. Это единственное, в чём нельзя усомниться. Остальное, весь мир может быть иллюзией…» /1, с.97—98/ Опираясь на такую позицию, строилось принципиально новое мировоззрение. «Мир получил лицензию на право сомневаться во всём, в том числе в Боге… Это открыло дорогу к безбожию с научным оттенком… Мысль Декарта дала основание, на котором можно узаконить грех» /3, с.330—331/. Человек в своих глазах стал высшим существом мироздания и породил потребительскую цивилизацию. «Новый закон потребительской цивилизации – Хочу… Я просто хочу и направляю все свои усилия на реализацию своего „хочу“. При такой установке человек неизбежно превращается в животное, в педераста и извращенца, в маньяка удовлетворяющего своего „хочу“, не задумываясь даже о способе удовлетворения» /1, с.99—100/.
Результатом восприятия, познания мира является знание. Выше уже отмечалось, что знание – это необходимое условие для осознанного выбора руководителей общества, такого выбора, при котором правительство пользовалось бы доверием общества; «…власть возможна над обществом, члены которого имеют знание. Мыслимо ли всем дать знание? В первой книге утверждалась невозможность этого. Во второй книге утверждается невозможность власти над обществом, члены которого не имеют знание. Кажется, мы противоречим сами себе. Если власть невозможна без доверия, а доверие невозможно без знания, а знание невозможно дать всем членам общества, как же достигается власть? От народа, не имеющего знания, нельзя получить доверия. Можно ввести его в заблуждение, но это не образует власти.
С одной стороны, людям невозможно дать знание, достаточное для доверия власти. С другой стороны, люди должны иметь такое знание, иначе невозможно доверие, и следом власть…
Особенность современного человека – видеть часть ситуации, понимая под ней целое. Люди в темноте держат слона за хвост и составляют о нём мнение… цельного знания у большинства быть не может… Чтобы человек мог иметь доверие по большим вопросам, он должен обладать знанием в масштабе «Вселенная – планета – человечество – народ – семья – Я», то есть обладать абсолютным знанием. Оно так велико и парадоксально, что его рациональное усвоение невозможно… Абсолютные знания народ (рациональным образом) не вместит…
Проблема находит неожиданное разрешение. Человек не вмещает большое знание, но вмещает знание абсолютное. Мы не знаем, как это объяснить… Абсолютное знание есть Вера. Этот тип знания нельзя усомнить… Этому знанию не нужно опытное и логическое подтверждения.
…Человеку нельзя дать абсолютное знание в рациональной форме. Но можно дать абсолютное знание в иррациональной форме. Отличие человека от других форм жизни, помимо всего прочего, в способности иметь Веру. Верующий народ имеет сознательное доверие к власти. Если люди верят в Бога, они доверяют власти от Бога… вера решает все проблемы общества. Верующий народ превращается в организм, контролирующий сам себя. В какой-то степени возникает народовластие, но не в том смысле, в каком этот термин предлагают демократы» /2, с.270—272/.
«При таком понимании ситуации главная задача правительства – культивировать веру. Чем крепче вера, тем больше власти. Нет веры, нет власти. Обратите внимание, мы не уточняем, какой веры. Религиозной веры в Бога или веры «свободу, равенство, братство»… Все веры похожи друг на друга. Они никогда не логичны, всегда абсолютны и нетерпимы. Но все они дают знания, на основании которых народ совершает выбор. Самая прочная вера на метафизике и на крови…
Вера и кровь определяют власть. Свой доверяет своему» /2, с.273/.
На чём основана вера в демократию? Теория демократии обосновывает государственную структуру, согласно которой народ способен выбирать власть. «Приняв ложное утверждение за истину, люди направили интеллектуальную энергию по ложному пути… Выборов, о которых говорит демократия, в реальности не было нигде и ни разу… В реальности политическая борьба сводится к тому, чтобы любым путём склонить избирателя проголосовать за нужного кандидата. Всё предельно цинично и продажно, всё сплошной обман… Ошибка, принятая на веру, породила огромное направление… изъян этой системы не в способе голосования, а в самом принципе невозможности выбора……» /2, с.30/.
С целью демонстрации преимуществ религиозной веры, веры в Бога, АПР о знании, о поиске истины утверждает также следующее: «Религия – это поиск истины через Откровение. Философия – это поиск истины через логику» /1, 133/. «Верующие, принимая основные постулаты на веру, не нуждаются в том, чтобы оправдать свою веру логикой… Настоящая вера это никогда не знание. Это огромное чувство, не нуждающееся ни в каких доказательствах. Это единственный вариант абсолютного знания, потому что любое знание, выведенное из логики можно усомнить. И только вера несомненна» /1, с.135/. «…масштабные знания могут иметь только внеземной метафизический корень. Приобрести их логикой и опытом невозможно. Традиционно такой тип знаний называется религиозным опытом. Как только начинается утрата религии, общество возвращается к сиюминутно – ситуативному масштабу мышления» /1, с.119/. «Истина, в которой нет Бога, гарантированно превращается в ложь, как бы умно она ни звучала» /3, с.267/.
Если есть хотя бы одно из искажений Истины – оно превращается в цепочку искажений, что приводит к потере Истины. Если мир несовершенный, значит «Бог бросил мир на произвол судьбы… значит, Его заповеди можно не соблюдать. Если мы выброшены, как неудачная поделка, человек должен взять судьбу в свои руки… В этой гипотезе нет логики и, тем более, откровения свыше… Вторым шагом отступления от Истины становится понимание Бога не как Творца, а как жителя уже существовавшей вселенной… Следующим шагом отступления становится лишение Бога личностных качеств» /3, с.321/. Бог преподносится «как разновидность высшей энергии, одухотворяющей и упорядочивающей материю и низшую энергию. Невооружённым глазом виден откат к одному из вариантов языческого понимания природы» /3, с.321—322/. Дальше – больше, атеистическому «рациональному уму было удобнее осознавать вселенную мёртвым космосом, где нет никаких авторитетов… Устранение из мира сверхсущности устраняло из жизни общества высшие ценности» /3, с.323/. Потеря обществом высших ценностей – это свидетельство потери Истины.
Знание – это приближение к Истине, либо её сохранение. «Сам факт существования мира свидетельствует о присутствии в нём Истины» /3, с.396/.
Истину дал людям Бог. Для сохранения истины «Бог приходит на землю и даёт Своё тело – Церковь. Вокруг неё возникает сообщество святых, продолжающих хранить Истину до сего дня. Но поскольку они разобщены и подчинены церковной администрации, то не представляют на земле силы, как это было раньше, когда самая мощная империя (Римская) не могла их сломать.
Чистота ветхого Израиля определялась принципом биологической идентификации. Чистота нового Израиля, Церкви, определяется духовной идентификацией. Церковь есть общество святых. Она непорочна и без изъяна» /3, с.396/. «Церковь это прямая связь с Богом. Через Церковь лежит путь к вечной жизни. Вне Церкви нет спасения. Она непорочна, как непорочен Бог. Это… дверь в высший мир» /3, с.256/. Вокруг Церкви (сообщества святых), возникает церковь из людей» /3, с.396/.
АПР отмечает, что церковь из людей порождает значительное количество негатива. «Многие наслышаны о негативе в церковных кругах, и это мешает им сделать шаг в сторону храма. Нужно укрепляться мыслью, что вы пришли к Богу, а не к священнику как личности. Священник это посредник, по сути телефон. По грязному телефону можно говорить так же хорошо, как и по чистому» /3, с.432/.
АПР напоминает, что Христос изгнал торгующих из храма. Но торговля не остановилась. «В земное тело церкви, подобно вошам (… мы так назвали Волков в Овечьей Шкуре), пробираются политики, завхозы и коммерсанты в рясах… На сегодняшний день нужно отбить «ракушки» от «корабля», отделить от Церкви «ракушечный остров» с населяющими его «ракушечниками». Для этого нужно создать условия, при которых начнётся самоочищение Церкви и восстановление её мощи… Можно заранее предположить: большинство будет искать не способ понять, где правда, где ложь, а отстаивать привычные шаблоны. Как быть?
Последуем совету апостола Павла: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные» (1Кор. 11, 19). Разномыслие не является грехом. Мы не святые, чтобы быть безгрешными. А раз так, нужно искать понимание. Христианство не слепая, а осознанная вера. Чем больше мы будем понимать, тем полнее будет наша вера, тем меньше шансов превратиться ей в суеверие или разновидность язычества. Не сотворим себе кумиров» /3, с.259/.
АПР отмечает также, что законы Бога отражающие Истину со временем изменяются: «Бог открывается обществу по мере его развития и даёт ему новые законы… Со времён прихода Христа мир в ХХI веке сильно изменился, и значит, находится в состоянии ожидания новой божественной информации.
Во время последнего прихода Бог сказал: «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16, 12). Иными словами, человечество было не на той ступени развития, чтобы принять больше, нежели сказано. Но если сегодня общество может вместить больше, Бог даст больше» /3, с.377/.
Рассмотрим также отношение к творчеству и к творцам, как ещё одной составляющей целостного мировоззрения. Информация формирует сознание и подсознание, как отдельного человека, так и общества в целом. Мир вступил в эпоху информационных войн, а потому вопрос об информации, в том числе о творчестве – это вопрос об управлении мировоззрением людей. Вопрос о мировоззрении – это вопрос о власти, а, следовательно, и о будущем человеческого сообщества. «В надвигающемся мире творчество уже не может расцениваться как частное дело или развлечение. Творчество создаёт мир (искусственную природу). Мир является транслятором конкретной информации. Человек в этом мире как курица в микроволновке, его со всех сторон окутывают волны, которые делают из него готовый продукт. Что это будет за продукт, личность или тряпка, зависит от качества волн, которые его окутывают. Совокупность всех творцов… создаёт… личность того или иного формата» /2, с.211—212/. Если это творцы приоритета потребительских ценностей, то «все их творения, упакованные в тысячи форматов, в том числе патриотический и религиозный, вшита одна мысль: „бери от жизни всё“…» /3, с.61/.
«Творчество» – что же это такое? Как отделить настоящее искусство от ремесленничества? «По каким признакам можно определить, что этот человек творец, а тот ремесленник? … Чтобы понять, кто такой творец, в первую очередь нужно уяснить, что такое творчество. Самая высокая „планка“ творения – Бог. Он Творец в высшем смысле, Он мир из ничего создал».
Наивысший показатель творчества есть способность создать что-то принципиально новое, чего до тебя не додумался сделать никто. Образно говоря, не каждому дано написать Джоконду. Но каждый может пририсовать ей усы и вообще изуродовать изображение» /2, с.377/.
«Творчество отличается от ремесла в первую очередь тем, что творец создаёт форму, а ремесленник под эту форму подгоняет необработанный материал… ремесленник без творца попросту невозможен» /2, с.378/. Проблема нашего времени в том, что слишком многих ремесленников, а также желающих пририсовывать творческим произведениям «усы» мы относим к творцам. Чем чаще толпа поглощает их «продукцию, тем больше тупеет. Чем больше тупеет, тем быстрее находит в этом кайф. Чем больше „кайфует“, тем искреннее принимает отсутствие выбора за его наличие. Разнообразие низкокачественной продукции создаёт иллюзию выбора, что способствует незаметной и неконтролируемой деградации» /2, с.378—379/.
Творческие ремесленники понимают, что быстро и много «можно заработать на продукции, рассчитанной на широкую массу. Держа в голове правило: чем меньше себестоимость продукта, тем больше прибыль, они приходят к выводу, что самый оптимальный способ привлечь публику – разжигать низменные инстинкты» /2, с.380/. «Вся страна оказывается подсаженной на продукцию, сравнимую с наркотической. Наркотик – это то, что приятно, несёт вред и рождает зависимость» /2, 381/.
Низкий творческий потенциал продукции «творцов» – это первая проблема общества в тематике творчества. Есть и другие. Даже если искусство несёт в себе новизну и сильный эмоциональный заряд оно может нести в себе духовную отраву. «Словом «искусство» принято называть любой акт творения, независимо от степени его полезности или вредности. Отсутствие определения порождает гримасу. Художник создаёт духовный яд, но его нельзя в том упрекать, он так видит мир, это его самовыражение, свобода и т. д. В итоге одна группа ненормальных рисует «картины» собственными фекалиями. Вторая группа говорит с придыханием, мол, поражены вашей отвагой, вы бросили вызов мещанскому миру…
Прежде, чем выразить своё отношение к искусству, уточним, что же это такое. Искусство есть энергия, материализованная в том или ином произведении… Эта энергия может быть собственной энергией художника, а может быть чьей-то чужой, когда непосредственный творец служит лишь проводником.
Искусство есть застывшая энергия. От ремесла она отличается способностью воздействовать на сознание, изменять его… Если творение художника не воздействует на душу и психику, или, выражаясь научным языком, на подсознание, если не меняет его, это уже не искусство. Энергия, материализованная в произведении, всегда зависит от источника, из которого она излилась… Есть прямая зависимость между источником энергии и созданным произведением… Искусство – это сила, меняющая сознание в хорошую или плохую сторону. Нельзя определять ценность искусства силой воздействия. Ценность определяется именно степенью хорошего воздействия» /2, с.414—415/.
Сложен вопрос с мотивацией творчества. «Творить можно с целью, а можно имея потребность избавиться от накопившейся энергии. И вот здесь мы возносимся к самому главному. Настоящее творчество несовместимо с параллельным осмыслением на предмет, а что же я творю. В лучшем случае можно потом оценить, какое воздействие окажет на людей продукт. А в момент творения человек полностью погружён в процесс, и его на другое попросту не хватает… Творец может создавать опасную продукцию, „прошивающую“ аудиторию плохой информацией, но делает это не намеренно, а в состоянии эйфории от творчества» /2, с.383/.
При реализации такой продукции «логика примерно та же самая, как у производителей ядовитой водки. Разница в том, что у одних отравителей мотивацией является только прибыль», у творцов всё намного хуже – у них к прибыли добавляется моральное удовлетворение. «Фактически такой творец занимается сознательным производством и распространением духовных наркотиков» /2, с.384/. Большинство таких творцов не понимают, какой эффект произведёт их продукция и даже не задаются этим вопросом. Например, они могут создавать «личность, у которой в принципе не должно быть души. Создать умное, волевое и сильное животное в человеческом обличии, не имеющее иных ориентиров, кроме личного блага» /2, с.385/.
«Искусство бывает вредно воздействующее и полезно воздействующее… Доводя эту мысль до логического конца, мы приходим к необходимости поощрять хорошее воздействие и не допускать плохое. Иными словами, мы приходим к мысли о необходимости контролировать доступ широких слоёв населения к тому или иному виду искусства, как к сильнодействующим препаратам» /2, с.415/. «Мы пришли к выводу о необходимости цензуры. Стоит заметить, она была, есть и будет. Вопрос, чем она руководствуется. Сегодня цензура абсурдна (носит экономический характер), поскольку её единственный критерий – сила воздействия на сознание… Чтобы ярче понять абсурдность такого подхода, представьте аптеку, которая выбирает, чем торговать, исходя не из хорошего воздействия, а сильного. При таких ориентирах она будет торговать больше наркотиками, чем лекарствами… Показатель здоровья государства – тип цензуры. В больном государстве устанавливается экономическая цензура, а в здоровом – идеологическая» /2, с.417/.
«Свобода творчества есть обязательное условие для творца… Но распространение творчества – это совсем другое. Художник имеет право свободно творить, но он не должен иметь права свободно распространять свои творения. Это как повар: дома он может готовить что угодно. Но чтобы кормить той пищей общество, он должен получить лицензию. Такую свободу (распространять) правильно назвать свободой разрушать… Она рушит ориентиры, систему ценностей, понимание добра и зла» /2, с.418—419/. Если есть свобода распространять продукты, создающие притягательный ореол вокруг наркомании, проституции, разбоя и прочих пороков, «следом автоматически увеличивается количество реальных проституток, разбойников, наркоманов и прочих падших людей… Где начинается чужая свобода (творца), там кончается ваша» /2, с.419/. Другими словами, заботясь о свободе творцов нельзя пренебрегать свободой людей потребляющих их продукцию. АПР отмечает также, если демократия провозглашает свободу творчества, то «почему это все (творцы) так дружно идут одним направлением, не сговариваясь?» /3, с.436/ Единицы из творцов способны задуматься над этим, единицы из единиц готовы искать ответ.
Если цензуру не вводит государство, её вводит рынок. «Вопрос, как быть с цензурой, чрезвычайно сложный. Здесь главное палку не перегнуть…» /2, с.421/. «Тотальное запретительство – путь в никуда. Но и тотальное попустительство ведёт к тому же результату. Оба крайних варианта одинаково успешно душат всё высокое» /2, с.422/. Как быть? Мы не знаем… Но наверняка есть те, у кого имеются соображения по этой проблеме. Просим высказываться. Мы чувствуем, выход есть… Понимаем чётко одно: пока проблема не решена, у нашей страны нет будущего. «Государство должно кормить душу пищей, способствующей её здоровью. Для этого жёсткая цезура рынка должна быть заменена на такую же жёсткую цензуру идеи» /2, с.426/.
Ещё одна серьёзная проблема в том, что со времён проникновения в Россию с Запада идей просвещения в творчестве значительной части российской интеллигенции сложилась опасная тенденция: создавать отрицательный образ России. «У западных писателей в положительных ходят исключительно представители своего народа. Отрицательные герои обязательно иностранцы… Западные литераторы выпячивали не свинство своих сограждан, а добродетель… русские писатели занимают ровно противоположную позицию… русские сами о своём народе утверждают, что он дурак и пьяница…» /2, с.396—397/. «Читает русский свою литературу. И если в его городе не всё плохо, а даже наоборот, всё замечательно, он всё равно утверждается в противоположной мысли» /2, с.398/; «…сложился устойчивый миф, будто мы (русские) самые глупые, самые вороватые и самые пьяницы. Хотим мы того или не хотим, этот миф формирует наше подсознание» /2, с.400/.
Фактически положение дел таково, что «множество умных людей не видят ничего зазорного в том, чтобы работать не для своей страны и народа, а против… констатируем факт – есть интеллигенция, которая работает за Россию, а есть, которая против России… Сегодня лучшую часть народа заразили внешне красивыми, но смертельно опасными идеями. Последствия от осуществления этих идей настолько отдалены, что большинство попросту не видит угрозу» /2, с.387/… Получилось так, что в России значительная часть интеллигенции имеет прозападную ориентацию. Это «маленький чужой народец», как говорил о нём Достоевский. Народец без роду, без племени, без святого, с языческим мировоззрением. Эти умные в прямом смысле творцы твёрдо усвоили мысль о приоритете Запада и убогости России» /2, с.391/.
Если в России одни дураки и пьяницы, «кто же тогда выигрывал войны и строил империю, ставшую в итоге самой огромной на планете? … Люди, видящие смысл жизни в набивании карманов, были, есть и будут везде. Но Русь всегда была богата на людей, считавших смыслом жизни спасение своей души через служение Отечеству и спасение душ многих. Они действовали по заповеди, а не по выгоде. Они воевали, защищали и построили гигантскую Россию. Государства растут благодаря героям, а не уродам» /2. с.401—402/.
«Все произведения, так или иначе создающие отрицательный образ России и тем самым негативно влияющие на отношение граждан к своему Отечеству, написаны образованными на западный манер людьми» /2, с.389/. «Благие намерения интеллигенции, оторвавшейся от своих корней, подталкивают страну в лапы мамоны» /2, с.393/. Именно про такую породу интеллигенции Ленин сказал: «Интеллигенция не мозг, а говно нации».
«Пока в России подрастающему поколению формируют мировоззрение те, кого на пушечный выстрел нельзя подпускать к молодёжи, у страны нет шанса стать великой. Государство в первую очередь приобретает величие через великих людей. Откуда же они возьмутся, если детей и молодёжь учат обратному?» /2, 382/
«Если… прекратить лить грязь, начнётся процесс очищения. Сначала интеллигенция осмыслит ситуацию, потом одумается, а потом станет тем передовым отрядом, который развернёт Россию с гибельного пути» /2, с.394/. «Новая эпоха даст новые энергии и новых творцов. Великая цель рождает великие усилия по всем фронтам. И на творческом фронте тоже» /2, с.411/.
Целостное мировоззрение не может обойти стороной трактовку понятия «свобода». АПР утверждает следующее: «Базовое определение свободы: «свобода есть возможность жить согласно своему мировоззрению». Свобода есть возможность реализовывать свои желания… Желания формируются, исходя из знаний о мире…
Нет независимого, ни к чему не привязанного понятия свободы. Свобода есть результат понимания мира, выраженный в действии. Последовательность такая: сначала – что есть мир; потом – что есть свобода. Без представления о мире (в том числе бессознательного), нельзя иметь понятия свободы…
Свобода проявляется в действии. Действие проявляется в выборе. Если нет выбора, значит, нет свободы. Чтобы выбирать нужны знания… Правильность знания – вопрос относительный (область веры). Мир можно понимать неправильно и быть свободным. Главное в разбираемой нами ситуации не правильность, а масштаб знания. Свобода возникает, если масштаб знания не ниже минимума. Если ниже, то вместо свободного действия будет механическое, зависимое от чужого понимания, случая или хаоса…
Чем полнее человек понимает (а ещё раньше воспринимает) окружающий его мир, тем больше имеет информации, и далее по цепочке – свободы… Сама по себе информация всем открыта, но чтобы превратить её в знание, нужен разум. У растения или животного нет разума и потому нет свободы. Есть только власть природы и инстинктов.
Высшая свобода – реализация высших желаний. Такие желания возникают из информации высшего порядка. Обладатель большого знания задаётся большими вопросами. Ответы на них входят в противоречие с инстинктами. В человеке возникают два желания: первое – следовать высшему знанию (от Бога), второе – инстинктам. Открывается два пути: жить как человек или как животное…
Поскольку источником свободы является информация (окружающий мир), разложенная в знание… надо её упорядочить… Требуется эталон, посредством которого разум определит, что первично, что вторично, а что лишнее… есть эталон, есть источник эталона… Что есть первоисточник? …мы вычленяем двух кандидатов на эту роль – Бог и Природа… Или физика, или метафизика – то, что за рамками физики (природы). На базе каждого типа информации возникает разное понимание свободы. Бог выдаёт одну информацию и эталон. Природа выдаёт другую информацию и другой эталон… Природа не может дать эталона, посредством которого можно поступить вопреки инстинкту. Такой эталон может дать только Бог» /3, с.78—82/.
«Главное отличие человека от других видов жизни – не разум и, разумеется, не тело. Главное – свободная воля, способность делать выбор… Человек есть синоним свободы. Чем больше я свободен, тем больше я человек. И наоборот – без свободы нет человека… Он превращается в животное, подчинённое инстинктам или чужой воле…» /1, с.80/.
Человек зависит от своего мировоззрения, которое определяет его понимание и желания. Если человек находится в зависимости от желаний, порождённых инстинктами – он раб мамоны, Рынка. Если человек зависит от желаний высшего порядка, он – раб Божий; «… почему рабов Божьих мы называем свободными? … Чтобы выбирать, нужно иметь минимум два варианта выбора. Верующий в Бога может выбирать, чему следовать. У неверующего выбора нет. Он не знает Бога и потому всегда следует страстям… Он раб инстинктов…» /1, с.92/; «… человеческая свобода заключается не в следовании инстинктам, а в их преодолении… Отсутствие высших целей означает отсутствие повода сопротивляться животным инстинктам» /3, с.84/. «Всякая высшая цель выводится из цельного мировоззрения. Человек без цельного мировоззрения руководствуется шаблонами, не задаваясь вопросом об их источнике» /3, с.33/.
«Высшая форма свободы проявляется в людях, выбравших служение Богу… Раньше такие максимально свободные люди воспринимались как естественные обладатели власти» /1, с.81/. Это свободные воины духа. «Отстоять свою свободу способны единицы. Большинство становится рабами инстинктов. На этом факте выстраивается социальная иерархия. Высшие места занимают князья духа, для которых честь стоит на первом месте, а жизнь и всё остальное – на втором. …масса приходит в движение, следуя за свободными воинами духа. Раз высшая ценность элиты – свобода, то перводвигатель человеческой истории – стремление быть свободным» /1, с.82—83/. «У человека нет иного способа достичь высшей свободы, кроме как через Бога» /3, с.84/.
Необходимо пояснить, что если человек следует страстям, то грешит он по своей воле. «А откуда наша воля? От Бога. Грех от воли, воля от Бога. Сокращая цепочку, получаем: грех от Бога. Это одно из самых богопротивных утверждений рационального ума. На деле всё не так. Грех совершается по нашей воле, а не по воле Бога. Грех именно от человека, а не от Бога» /2, с.255/.
«В каждом есть первородный грех и свобода воли… Кто из нас не без греха?» /2, с.84/
«Сегодня обществу внушают, в первую очередь человек должен быть сексуальным, молодым и богатым. Начинается культ тела, разврат и стремление быстро разбогатеть… В таком обществе растёт не только преступность, но и неведомые ранее пороки. Они как черви, выползают из гнилых щелей, и этих червей всё больше и больше» /2, с.353/. «Ложь современной демократии в том, что она культивирует мысль, будто деньги и вседозволенность есть квинтэссенция счастья» /1, с.151/. «Когда общество отрицает Бога, миром начинает править мамона (Рынок). Исходя из этого, никто не опроверг тезис «светское общество абсолютно зависимо от Рынка» /1, с.370/.
Если «человек понимает мир сквозь призму материализма, он считает себя сущностью, выше которой ничего нет. При таком подходе у него один смысл жизни – вечная жизнь и нескончаемое удовольствие…» /3, с.77/. Материалистическое мировоззрение таково, что возможности человека будут расти, теоретически – без ограничений. «Безграничные возможности рождают безграничные желания и приводят к идее абсолютной свободы. Если я – высшее существо во вселенной, у меня не может быть ограничений. А если они есть, значит, имеется сила, формирующая эти ограничения. Значит, я не высший, есть нечто выше меня… Здесь логика материализма попадает в тупик. Оказывается, идеал в принципе недостижим, и потому абсолютная свобода невозможна… (Кроме того) свободу одного «бога» всегда будет ограничивать свобода другого «бога»…
Проблема в том, что большинство удовольствий имеет нематериальный характер. Сами по себе материальные блага сверх потребностей человеку не нужны. Ему нужна сложная гамма чувств, возникающая от контакта с другими людьми на фоне этих благ… Они, подобно катализатору, поддерживают реакцию не участвуя в ней.
Из материализма следует идея абсолютной свободы… она в принципе нереализуема, но именно она задаёт магистральное направление. На подступах к цели образуются непреодолимые конфликты, уничтожающие общество…» /3, с.77—78/.
«Идеал свободы – отсутствие любых ограничений. Абсолютная свобода – можно всё, в том числе и то, о чём думать страшно или непривычно, стыдно или противно. Но если Бога нет, всё это религиозные архаизмы, ограничивающие полёт фантазии и желаний свободного человека… Многие современные люди не реализуют сполна лозунг „бери от жизни всё“ только потому, что их сдерживает страх наказания (отторжение обществом тоже наказание). Если убрать страх, уйдёт сдерживающая компонента. Что тогда остановит прагматичного человека, живущего один раз? Ничего: ни стыд, ни совесть, ни сострадание» /3, с.89/.
«Если Бога нет, нет и абсолютного «аршина», которым можно «мерить» нравственность фантазий. Любая оценка будет проявлением частного вкуса. …Когда извращения легализуются на уровне фантазий, и человек перестаёт чувствовать их табуированность, из виртуальной области они перейдут в реальную. Если оперировать таким мерилом как сиюминутный вред, никаких ограничений нет… Будь это реальное действие, несущее вред реальным людям, можно было привязаться к нанесению сиюминутного вреда и ограничить опасную деятельность. Но если вред наносится воображаемой жертве, за что выставлять претензию? …в своём сознании человек считает себя богом. Он может представлять что угодно, делать что угодно, и никто его за это не накажет…» /3, с.91/; «…если человек – высший арбитр, кто определяет понятие добра и зла? …Отказ от признания Бога приводит к позиционированию человека как высшего существа, а значит, высший обладает абсолютной свободой, где можно всё…
По логике безбожного общества, в виртуальном пространстве не может быть запретов. Это тоже самое что контролировать воображение. Кто, на каких основаниях и с помощью каких критериев будет контролировать воображаемые человеком картинки? Если даже это технически возможно, вопрос об основаниях и критериях не снимается» /3, с.90/.
Виртуальная грязь неизбежно переходит в грязь физической реальности. «Люди ослепли и не видят, как их жилище наполняется виртуальными червями и крысами. Не видят, как они заживо поедают наши души и души наших детей… Фундамент порочной системы – атеизм… пока фундамент цел, всем видам порока гарантирована свобода» /2, с.220/. «Движение садомазохистов, педофилов, некрофилов и прочих „родов войск“ сатаны набирает силу… Творцы нового мира уверяют, это и есть настоящая свобода» /2, с.222/. «Прогнозируется рост терпимости ко всему. После перехода критической черты грязь пойдёт необратимым потоком» /2, с.221/.
Если у человека христианское мировоззрение, высшая сущность – это Бог. «Христианское общество отличается от безбожного наличием абсолютного эталона Добра и Зла, действие которого распространяется как на реальный, так и на виртуальный мир… Верить в Бога значит руководствоваться эталоном, который Он дал… в обществе настоящих атеистов нравственный контроль невозможен» /3, с.92/.
«В обществе проводится мысль: тема религии – дело личное. Каждый во что хочет, в то пусть и верит, свобода вероисповедания и прочее… В новом обществе каждый человек теоретически бог и потому потенциально свободен – без ограничений и абсолютно. Такое мировоззрение уводит общество в новую плоскость, за рамки человеческого представления» /3, с.104/. Для людей, не верящих в Бога, свобода вероисповедания неизбежно превращается в осознаваемую или неосознаваемую веру в мамону, в Рынок. «Абсолютная свобода есть непосильное бремя. Человеку нужны ориентиры, тогда как полная свобода предлагает сочинить их самому. В результате ориентиром становятся деньги. Общество покоряется Рынку… Ты свободен, у тебя есть право заработать и купить еды… Если ты слаб и не в состоянии заработать, у тебя остаётся единственное право – умереть. Права на жизнь у тебя нет» /1, с.358/.
Демократия, обещая людям безграничную свободу, «свободный» выбор эксплуатирует подчинённость желаний человека инстинктам в стиле «бери от жизни всё». Подчинённость желаний человека порождает подчинённость его сознания, а это крайняя несвобода. «Крайняя несвобода наступает, когда сковано сознание… Загипнотизированный человек – тот, кому в голове „построили клетку“. Он становится инструментом в чужих руках» /1, с.80—81/. Наступившее время виртуальных технологий выдвинуло на первый план манипуляции сознанием, управление желаниями «свободного» человека. «Если свободный человек поступает так, как хочет, возникает вопрос: из чего рождается „хотение“? Как понять, что это я хочу, а не мой инстинкт? … Вопрос очень сложный, и пока он не разрешён, рабы будут принимать возможность выполнять приказы своих господ за свободу» /1, с.83/.