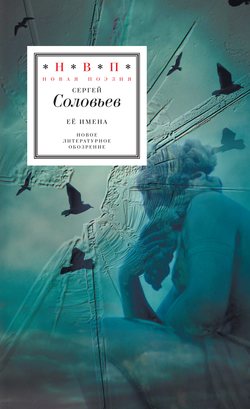Читать книгу Её имена (сборник) - Сергей Соловьев - Страница 2
Окончательная незавершённость как надежда и обещание
ОглавлениеРабота Сергея Соловьева в современной русской поэзии происходит не то чтобы очень заметно. Его, разумеется, называют всякий раз, как речь заходит о «метареализме». Термин этот, придуманный уже, между прочим, тридцать два года назад, принадлежит, как известно, Михаилу Эпштейну. По идее он должен обозначать некоторое свойство поэтики (или поэтической оптики), которое объединяет нескольких авторов, на деле очень разных. Собственно, предыдущая книга нашего автора вышла пять лет назад (впрочем, нет, опубликована между ними ещё одна, но смешанного содержания – и в Киеве). А два года назад был опубликован opus magnum Соловьева, «Адамов Мост», будто бы роман, но совсем, к счастью, не похожий на то, что при слове «роман» представляется почти всякому нынешнему читателю по-русски. Речь у нас, вроде бы, о стихах, но роман этот важен, в том числе и для понимания – нет, не стихов, а того, кто их пишет. Тому, кто после «А.М.» возьмется читать прозу, опубликованную – за сколько, пять? семь? – лет до романа, придётся, с довольно большой вероятностью, иметь дело с мыслью о том, что если не большая, то изрядная часть этого «до» – не что иное, как тщательно и в открытую зафиксированное усилие приближения к пятисотстраничному тому «А.М.». На этом месте становится яснее и про роман – что он представляет собой не раз навсегда написанную писателем (а потом прочитанную читателем) книгу. Нет, мы имеем дело с ещё одним вариантом, только по видимости окончательным, а на самом деле, кажется, (почти) ничего не исключающим: становление длится до тех пор, пока изменение – здесь.
Для понимания поэтической практики Сергея Соловьева это соображение важно. В давнем эссе «Поле риска и изыска» он пишет о необходимости напряжением поля письма «удерживать открытыми все возможности» – то есть как раз о необходимости не становиться, об отказе от окончательности. «Её имена», книга, которую вы держите в руках, и похожа и не похожа на то, что представляется многим из нас, когда мы слышим слова «поэтический сборник». У нее не то чтобы нет чётких границ, – но они подвижны и, по крайней мере, наполовину прозрачны: в эту книгу легко зайти, – но там, внутри, читателя поджидает такой неожиданный (особенно посреди сегодняшней русской жизни) мир, что в него оказывается легко включиться, как в разговор понятных, близких тебе собеседников, – и вот, ты уже слушаешь и даже как будто говоришь. Всё проясняется быстро – и о чём рассказывают, и что было в предыдущих сериях, и о чём ещё хочется говорить. На самом деле, ты не совсем говоришь, это всё-таки то ли слышимый тебе полилог, то ли тебе одному предназначенный солилоквий, которому ты отвечаешь. «Тебе одному» – тоже неправда, это всё-таки ты читаешь книгу, и не исключено, что в тот же момент её читает и кто-то ещё. Поэтическая ситуация Соловьёва точно так же не заперта, дверь в неё распахнута: кажется, это приглашение; кажется, это значит – «входи». Но легко будет не всегда, ничего такого «Её имена» никому не обещали. Стихи Соловьёва могут быть тёмными, он склонен вполне сознательно обманывать ожидания. Есть в этой книге и тексты, в которых стремление ускользнуть от инерции собственного письма (но и от инерции восприятия воображаемой фигурой читателя) приобретает почти обсессивную форму. В некоторых из них каждая строчка чуть не с момента рождения уже подлежит перелому: иначе она может срастись не так, слишком правильно. Но сильнее желания выйти вон из пространства своих и чужих ожиданий в этой книге – желание покинуть язык (его дом) – очень сильное, ощущающееся на уровне органолептики слов (всё-таки слов). Правда, многие тексты при этом – повествовательны в самом буквальном, простом смысле, То есть они рассказывают истории, иногда даже с разговорами. Другие, – более многочисленные – запутывают истории первых. В этом, видимо, и состоит единственный – или не единственный, но по-настоящему важный организующий принцип: цельность, будучи еще одной окончательностью, – недопустима. Непременно должно остаться «что-то сквозное», та самая трещина в каждой вещи, через которую к нам сюда, как известно, и проникает свет.
Современная поэзия по умолчанию предполагает разомкнутость для интерпретаций – но Соловьёв предпринимает специальное усилие постоянного встряхивания читателя, погружающегося, чуть что, в полусон, в автоматизированное скольжение по поверхности текста. Книга от этого выглядит эклектичной – а в свете предыдущего разговора о её как бы не окончательном состоянии, обходящемся без привычной драматургии нарастания нарастаний и кульминаций, – в каком-то смысле даже и хаотичной. На ту же картину работает постоянная смена локусов от одного текста к другому. Диапазон – примерно от Мюнхена и московских спальных районов до каких-то индийских деревень, о которых я даже не могу быть уверен, что они существуют. Здесь тело привычно оборачивается языком, а язык – телом. Здесь двое живут «без конца и начала, / как стихотворный фрагмент», а женщина «с маленькими предлогами вместо ладоней» проступает из переписки. Здесь ни у чего нет раз навсегда определённых размеров, здесь ничего никогда не приобретает окончательных очертаний. Но «Её имена» – книга не о метаморфозах, тела в ней не превращаются в формы, – потому что одно из другого и так и так отличить невозможно, если «она легла в тебе и глядит со дна, / и как небо разводит тебя руками», если «Оглянешься – и годы разбегаются, как зайцы. / А отвернешься – хрусткую капустку / в слезах – жуют тебя, жуют. А тот, казанский / сирота, все выпадает из себя – с любовью». Поэтический мир этой книги – мир не превращений, для которых как раз формы необходимы, – но мир бесконечного перетекания, где все срастается, разрастается, сплавляется, расстаётся.
Странно, ты говоришь, почему —
если всё для него возможно —
не создал он такое несущество,
как мы, например,
надели он нас безграничной
свободою превращений?
Но и что-то сквозное
должно оставаться.
Это говорится оттуда, где не существует этого странного шевелящегося вещества, которое в каждой вещи, в каждом случайном ракурсе, в начале строки – и опознание всякий раз отнимает силы, так что сквозного теперь не удержать, – или это всегда было невозможно, поди теперь разбери. В «Её именах» происходит постоянное взаимопроникновение и скольжение слов и тех, кто их говорит (или не говорит). Они пересекают друг друга, выглядывают из себя, множатся, вылетают, вбегают, входят, выскальзывают, спят в позе Мёбиуса – но переходы эти осуществляются без щелчка, без усилия, без ущерба. Декларированное внимание к осязаемому, к осязанию, к материальности тел и вещей становится понятнее. Осязание, если вовсе ещё не покинуло этот протеический космос, – то покинет, и скоро, может быть, не успев даже внести себя в его Красную книгу. «Её имена» – это книга, в которой утопия тотальной трансгрессии, окончательной и необратимой, вдруг становится. И это последнее, что становится, – все остальное теперь – «этот ангельский свет, разлетающийся пичужками /любви, языка, смерти». Это книга, не принимающая окончательность формы, – а может, и вообще окончательность. Ни восстановления, ни воссоединения может никогда не случиться, – но следует сохранить возможность, точнее, даже «удерживать открытыми все возможности». Напряжением поля письма – тоже почти неосязаемого, но, несмотря на это, каким-то образом всё же действенного.
Станислав Львовский