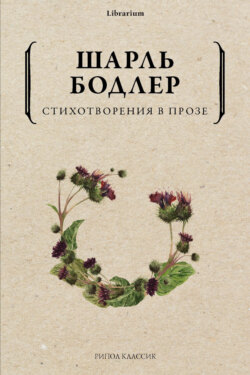Читать книгу Стихотворения в прозе - Шарль Бодлер, Шарль Бодлер - Страница 3
Бодлер и его творчество
II
ОглавлениеПечать глубокого трагизма лежит на всей судьбе Бодлера. Отец его, сын крестьянина, получивший прекрасное образование, друг Кондорсе, женился вторым браком на молодой девушке, сироте, будучи уже стариком. «Союз уродливый, патологический, старчески бессильный», – говорит об этом браке Бодлер, приписывая ему свой «отвратительный характер». Происхождение матери Бодлера не установлено, но он сам пишет в одном из своих отрывочных дневников: «Мои предки, сумасшедшие или маньяки, жившие в пышных хоромах, все погибли жертвою своих необузданных страстей». Он унаследовал их страстность и нервозность.
Богато одаренный, с острым умом, с повышенной впечатлительностью, с необычайно развитыми внешними чувствами, он с детства был замкнут и меланхоличен. Ему было шесть лет, когда мать его, овдовев, вторично вышла замуж за офицера, сделавшего впоследствии блестящую карьеру. Ребенок был глубоко уязвлен: он любил мать горячею, ревнивою любовью, и в душе его рядом с этой любовью зажглась первая ненависть – он возненавидел отчима и рано порвал сношения с родными. Только после смерти отчима возобновились его сношения с матерью и развернулась та глубокая, трепетная нежность к ней, которая прорывается в целом ряде его писем.
Восемнадцати лет Бодлер вышел из коллежа и, решив отдаться литературе, начал жизнь фланера и поэта в компании нескольких молодых писателей. Жадный до впечатлений, чувственный и «влюбленный в серьезное», раздражительный, насмешливый и строгий себе, он уже тогда жил двойною жизнью: жизнью страстей, окрашенных цветами причудливой и извращенной фантазии, и беспощадного сознания и самоанализа. В первой написанной им повести La Fanfarlo есть строки, которые нужно отнести к нему самому: «Мы так старались проникнуть в софистику нашего сердца, так злоупотребляли микроскопом для изучения его уродливых наростов и омерзительных бородавок… что мы уже не можем говорить языком других людей. Они живут, чтобы жить, а мы – увы! – мы живем, чтобы познавать… Мы психологизировали, как сумасшедшие, которые усиливают свое помешательство, усиливаясь понять его…»
Он довольно рано начал писать стихи, но у него не было даже потребности печатать их: и тогда уже он искал и требовал от себя совершенства. Он любил сдержанность, изысканность, изящество во всем. Он одевался, как щеголь, и был благовоспитан как светский человек. В нем всегда жил аристократ – и рядом человек дерзкого протеста, человек богемы, не умеющий ввести себя в рамки упорядоченной жизни. Он был невероятно щепетилен в исполнении всякой взятой на себя обязанности и считал себя аккуратным, но работал порывами, по ночам, и рано начал прибегать к возбуждающим средствам – вплоть до опия и гашиша, хотя презирал эти средств как подрывающие лучшее достояние человека – его волю. Он был чужд вульгарной откровенности в вопросах чувства и страстей, но, вопреки легенде о его необщительности, целыми днями способен был спорить с друзьями, излагать им свои мысли и фантазии.
Эта жизнь была прервана путешествием: родные, не желая, чтобы он посвятил себя литературе и надеясь отвлечь его от того образа жизни, который он вел, убедили его отправиться в Индию. Но он доехал только до острова Бурбон и, охваченный непобедимой меланхолией, вернулся. Краски и запахи далекого юга, которыми он потом грезил всю жизнь, в реальности – при стоянках корабля у незнакомых берегов – не захватили его. Никогда в жизни не знал он цельного, непосредственного наслаждения какою бы то ни было реальностью, но тоска о том, что лежит «за пределом возможного, за пределом известного» (стихотворение «La voix»), – была постоянным проявлением его беспокойного духа.
Вернувшись в 1842 г. в Париж, он ушел в работу. Он жадно читал, изучал художников слова и кисти. Четыре года спустя появились в печати его первые критические заметки и статьи о литературе и живописи. К этому же времени относится начало его восторженного увлечения Эдгаром По, слава которого по свидетельству его друзей «стала ему положительно дороже его собственной» и над переводом которого он работал с перерывами около семнадцати лет. Его страстный увлечения, как и его привязанности вообще, были длительны и упорны, и самая его мысль о значении верности, можно сказать, зародилась в его сердце. «Я считаю верность одним из признаков гения», – говорит он в одном письме. Его отношение к Эжену Делакруа, заботливая привязанность к Манэ, его любовь к Бальзаку, Флоберу, Теофилю Готье, Сент-Беву длились всю жизнь. С двумя последними его связывала почтительная и нежная дружба.
Движение 1848 г. взбудоражило его душу, всегда готовую к возмущению. Революционные доктрины опьянили его. Он говорил, писал и действовал как истый революционер, хотя многое шло вразрез с окружающим. В дни Июньского восстания он был среди инсургентов. Эта полоса его жизни продолжалась до 1852 г. Тогда отвращение ко всему, что творилось вокруг, охватило его, сливаясь с его презрением к человеческой стадности с недоверием к человеческой природе, злые корни которой он ощущал в себе самом как нечто неискоренимое. Демократические идеи несовместимы с настоящим пессимизмом. В Бодлере взял верх пессимист. Огромный ум его со всеми экстазами его напряженной работы не мог разрешить для себя основных противоречий в социальных вопросах, как и в вопросах религии. Он презирал рассуждения атеистов и утилитаристов – они казались ему плоскими; он уважал представителей католицизма, как и других, даже языческих религий, и иронически отталкивал от себя всякую догму; он богохульствовал и молился «своему Богу». По его собственным признаниям в некоторых письмах и дневниках, он был неспособен молиться за других – за тех, кого он любил.
В поэзии он не допускал никаких гуманитарных и моральных тенденций. Но в своем природном благородстве он непосредственно сливал эстетические требования с нравственными. Отвергая установленные критерии добра и зла, неустанно работая умом над отысканием новых, он непосредственно как эстетик и поэт содрогался при виде всего, что делают люди и что делается в людях. «Что всего более ужасает человека со вкусом в зрелище порока, – говорит он, – так это его уродство, нелепость… Я не считал бы чересчур смелым признать, что всякое нарушение морали, прекрасной морали, есть особый вид преступления против ритма и просодии вселенной». Эта нравственная эстетика жила у него в нервах, и то сплошное нарушение законов красоты, какое представляет собою жизнь, непрерывно терзало болезненно чувствительные клетки его мозга. И периоды горячечного возбуждения сменялись у него нервным упадком, отчаянием, беспросветной, удушливой тоской, «сплином», о котором так много говорится в «Цветах зла».
Признав человека безобразным, он готов был возненавидеть и самую природу. Не естественное, а «искусственное» – создание творческого духа человека, результат высочайшей культуры, неотступной сознательной работы, направляемой волею, – вот в чем лежат его последние упования. Но демон извращенных страстей владел его болезненными нервами и этот демон по-своему вторил его стремлению ко всему необычному, заставлял его отвергать все здоровое, доступное и гоняться за призраками или облекать прихотливой фантазией примитивную действительность, превращая и ее в ускользающий мираж.
Таков он в своих романических историях. Через всю его жизнь проходит связь с грубой, невежественной и развратной мулаткой Жанной Дюваль. Все его чувственное существо долгие годы было непобедимо приковано к этому источнику «экзотических ароматов». Ее легкомысленные измены вырывают у него крики бешеной ревности, ее жадность, вечные требования денег, которых у него никогда нет, доводят его порою до отчаяния. Но стихи его к ней полны не только чувственных галлюцинаций: в них слышатся стоны оскорбленной человеческой нежности. Он презирал естество женщины, он ненавидел страсть со всеми ее унижениями – и терзался страстью к этой женщине, загадочной для него в самой своей примитивности, и прощал ей все, без конца заботился о ней даже тогда, когда она стала старой и больной, мучился ее пороками и ее бедствиями до последних дней жизни. Однако ужасная действительность порою слишком обнажала себя. Омерзение к любовнице и к самому себе охватывало его. Жажда любви иной проникала в душу. Вопреки его предубеждению против женщин, высокие, чистые женские образы волновали его, влекли к себе как предмет религиозного поклонения. В течение пяти лет он пишет застенчиво-влюбленные анонимные письма прелестной, умной и благородной женщине, г-же Сабатье. Наконец она угадала автора стихов, которые он прилагал к своим письмам. Выход в свет «Цветов зла», произведенный ими скандал, окончившийся судебным процессом, неотразимое обаяние этой преследуемой книги раскрыли сердце г-жи Сабатье. Она полюбила Бодлера… Но цельность глубокой любви не дана была его больной душе. Он испугался новой страсти со всем тем, что она будила в его капризной чувственности. Очарование незапятнанно-прекрасного чувства рассеялось. С беспощадной и почти страдальческой искренностью признается он в этом г-же Сабатье. Восторг поэтического обожания к этой женщине сменился теплой, нежной дружбой.
А жизнь идет по-прежнему: Жанна Дюваль, горячечная литературная работа, внезапно сковываемая тяжелым сплином, отвратительный терзания безденежья, вино, гашиш, ужасы бессонницы, кошмары, прорезываемые молниями идей и поэтических откровений, и мысли о смерти, страшной и спасительной.
Преследуемый возрастающей внутренней тревогой и долгами, совершенно невыносимыми при его щепетильности, Бодлер весною 1864 г. уезжает в Бельгию, надеясь поправить там свои дела чтением лекций о современных художниках и писателях. Но его лекции не имели успеха у бельгийской публики. Начинается последний, страшный период его жизни. Наследственная болезнь подбирается к нему. Нищета доходит до того, что ему не на что купить лекарства. Мысль лихорадочно работает в одиночестве. Тоска гложет сердце. Воспоминание о матери постоянно возвращается с острою нежностью – мучит страх потерять ее. Уродства прошлой жизни, преступления в отношении собственной воли, несделанные дела вновь и вновь встают в сознании. «Быть героем и святым – для себя…» – записывает в своем дневнике Бодлер. Вот последняя мечта его изнемогающей души.
Болезнь усиливается. Физические страдания и нервные страхи почти не прекращаются. Он пробует не сдаваться, не перестает заочно хлопотать об издании своих сочинений, пишет письма. Рука отказывается работать. Паралич одной стороны тела переходит в афазию – паралич памяти, язык звуков и знаков. Он лежит немой – никто не знает, что делается в его душе.
Его перевезли в Париж, в лечебницу. Целый год провел он там в ужасных и таинственных муках, явным образом не утрачивая разумного сознания, но не имея никаких способов выразить свои чувства, мысли и желания. Его окружали преданные друзья; в последние недели его жизни семидесятилетняя мать не отходила от его изголовья. Он тихо умер в ее объятиях. Ему было всего сорок шесть лет.