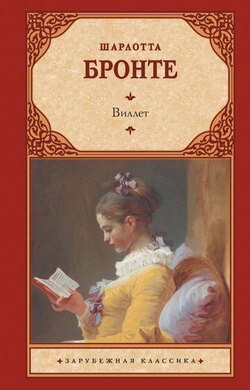Читать книгу Виллет - Шарлотта Бронте - Страница 5
Глава IV
Мисс Марчмонт
ОглавлениеСпустя несколько недель покинула Бреттон и я, но без мыслей, что больше никогда туда не вернусь, не пройду по спокойным старинным улицам. Я отправилась домой, где не была полгода. Можно предположить, что возвращение в лоно семьи будет радостным и счастливым. Что ж, приятное предположение вреда не принесет, а потому может остаться без возражений. Действительно, ничего не отрицая, позволю читателю на следующие восемь лет представить меня парусником, дремлющим в море в безветренную погоду. Водная гладь неподвижна как стекло, а капитан распростерся на палубе, подняв лицо к небесам и закрыв глаза, если угодно – погруженный в долгую молитву. Считается нормальным, что очень многие представительницы слабого пола проводят жизнь в подобном состоянии. Так почему я должна отличаться от остальных?
Представьте меня праздной, изнеженной и счастливой, удобно расположившейся на устеленной подушками, согретой ласковыми солнечными лучами, овеваемой мягким ленивым ветерком палубе. Однако нельзя отрицать, что в таком безмятежном состоянии ничего не стоит случайно упасть за борт. К тому же в любой момент может налететь шторм и отправить корабль ко дну. Я вспоминаю время, причем довольно продолжительное, наполненное холодом, опасностью и страхом. До сих пор в минуты ночных кошмаров чувствую в горле соленую воду морских волн, ощущаю их безжалостное ледяное давление. Точно знаю, что шторм длился не один час и даже не один день. Много дней и ночей на небе не появлялось ни звезд, ни робких лучей солнца. Собственными руками мы снимали со своего корабля такелаж; тяжелая буря настигла нас, отняв всякую надежду на спасение. В конце концов корабль затонул, а команда погибла.
Насколько помню, я никому не жаловалась на невзгоды. Да и кому могла пожаловаться? Миссис Бреттон давно исчезла из поля зрения: воздвигнутые недоброжелателями препятствия прервали наше общение, – к тому же время принесло испытания не только мне, но и ей. Солидное состояние, которое она хранила для сына, было в значительной мере инвестировано в какое-то совместное предприятие, в результате чего сократилось до малой доли изначального капитала. Дошли слухи, что Грэхем поступил на работу, вместе с матерью покинул Бреттон и, судя по всему, обосновался в Лондоне. Таким образом, надеяться мне было не на кого, оставалось рассчитывать только на собственные силы. Сознаю, что не обладала уверенной, деятельной натурой: уверенность и деятельность были навязаны мне обстоятельствами, так же как и тысячам других девушек, – так что, когда жившая неподалеку незамужняя леди по имени мисс Марчмонт послала за мной, я отозвалась на зов в надежде получить работу по силам.
Мисс Марчмонт располагала значительным состоянием и жила в большом красивом доме, однако вот уже двадцать лет страдала жестоким ревматизмом, превратившим ее в слабое, беспомощное создание. Она неизменно проводила время наверху, где гостиная соседствовала со спальней. Я не раз слышала о мисс Марчмонт и о ее странностях (она слыла особой крайне эксцентричной), однако до сих пор ни разу с ней не встречалась. И вот увидела седую морщинистую женщину, печальную от одиночества, мрачную от долгой болезни, раздражительную и, наверное, придирчивую. Выяснилось, что горничная или, скорее, компаньонка, которая ухаживала за ней в течение нескольких лет, собралась замуж, вот леди и решила, услышав о моем бедственном положении, что я смогу занять освободившееся место. Предложение поступило после чая, когда мы вдвоем сидели у камина.
– Легкой жизни не обещаю, – искренне предупредила мисс Марчмонт. – Мне требуется много внимания, так что придется постоянно находиться рядом. И все же возможно, что по сравнению с тем существованием, которое вы ведете в последнее время, условия покажутся терпимыми.
Я задумалась. Разумеется, условия должны были показаться терпимыми, но почему-то, по какой-то странной фатальности, таковыми не выглядели. Жить в этой душной комнате, служить постоянной свидетельницей страданий, а порой, возможно, и мишенью для вспышек раздражения, провести здесь остаток своей юности, в то время как прежняя ее часть прошла по меньшей мере не в блаженстве… На миг сердце упало, но вскоре воскресло: хоть я и заставила себя отчетливо представить грядущие невзгоды, думаю, была слишком прозаична, чтобы их идеализировать, а следовательно, преувеличивать.
– Не уверена, что хватит сил справиться с обязанностями, – пролепетала я.
– Это меня и беспокоит, – заметила она. – Выглядите вы изможденной.
Так и было. В зеркале я видела бледный, с ввалившимися глазами призрак в траурном платье. И все же изнуренный образ меня не пугал: истощение оставалось чисто внешним. Я по-прежнему ощущала жизненную силу.
– У вас есть другие предложения?
– Пока ничего определенного. Но, возможно, со временем что-нибудь найдется.
– Так вам кажется. Что же, в таком случае не станем спешить. Поищите более приемлемые варианты, а если ничего не получится, приходите. Предложение останется в силе в течение трех месяцев.
Заключение звучало великодушно. Я сказала об этом и поблагодарила. А пока говорила, у мисс Марчмонт начался приступ ревматизма. Я принялась помогать, послушно следуя указаниям, так что к тому моменту, когда наконец наступило облегчение, между нами уже возникла своего рода близость. Увидев, как мисс Марчмонт выносила боль, я пришла к выводу, что женщина она терпеливая к физическим страданиям, сильная, хотя порой, возможно, слишком вспыльчивая в случаях длительного умственного дискомфорта. Она же оценила мою готовность помочь и поверила, что может рассчитывать на симпатию и сострадание (это она уже успела заметить). На следующий день мисс Марчмонт вновь за мной послала, и потом еще дней пять-шесть подряд требовала моего общества. Более близкое знакомство неизбежно выявило недостатки характера и проявления эксцентричности, но в то же время представило достойную уважения личность. Несмотря на суровость, порой граничившую с угрюмостью, я могла ухаживать за ней и проводить время в ее обществе с тем спокойствием, которое неизменно благословляет нас, когда мы понимаем, что наши манеры, присутствие, общение поддерживают и утешают человека, которому приходится служить. Даже когда госпожа выражала недовольство (что время от времени случалось, причем в довольно грубой форме), происходило это не унизительно и не оставляло в душе заноз. Ее недовольство проявлялось, как у вспыльчивой матери к дочери, а не как у хозяйки к служанке. Но даже если она и выходила из себя, подолгу сердиться не умела. К тому же разум не покидал ее даже в минуты гнева: логика присутствовала всегда. Вскоре растущая привязанность представила жизнь в доме мисс Марчмонт в роли компаньонки в совершенно новом свете, и через неделю я согласилась остаться.
Таким образом, мир мой ограничился двумя душными тесными комнатами, а измученная, изуродованная болезнью старуха стала не только госпожой, но и подругой. Служба ей теперь мой долг; ее боль – мое страдание; ее облегчение – моя надежда, гнев – мое наказание; ее расположение – моя награда. Я забыла, что за пределами этого душного мира простираются поля и луга, шумят леса, несут свои воды в моря реки, а над головой простирается бескрайнее, постоянно меняющееся небо. Я почти согласилась забыть настоящую жизнь. Все внутри меня смирилось с печальной участью. По воле судьбы привыкнув к послушанию и пассивности, я не требовала прогулок на свежем воздухе; аппетит мой не нуждался в чем-то большем, чем крохотные трапезы старой больной женщины. Вдобавок ее оригинальный характер давал богатый материал для наблюдения. Устойчивость добродетелей и сила страстей вызывали восхищение; истинность чувств рождала доверие. Всеми этими достоинствами мисс Марчмонт обладала в полной мере, и потому я к ней привязалась.
За эти качества я согласилась бы протянуть рядом с ней еще двадцать лет, если бы столько продлилась полная страданий жизнь, но судьба распорядилась иначе, решив, очевидно, подтолкнуть меня к активным действиям, побудить, заставить проявить энергию. Тому крохотному кусочку человеческой близости, который я ценила, словно драгоценную жемчужину, предстояло раствориться в пальцах и вытечь подобно растаявшему комку снега. Моя умиротворенная совесть потеряла даже эту с готовностью воспринятую маленькую обязанность. Я хотела заключить сделку с судьбой: избежать крупных страданий, смирившись с жизнью, полной лишений и маленьких обид. Однако судьба оказалась не настолько сговорчивой, а Провидение не допустило уклончивой праздности и трусливой вялости.
Одной февральской ночью – хорошо это помню – возле дома мисс Марчмонт прозвучал голос, слышный всем обитателям, но понятный лишь одному. Я уложила госпожу в постель, а сама устроилась возле камина с рукоделием. За окном выл ветер. Стенания продолжались весь день, но к ночи приобрели новый характер – звук стал пронзительным, резким, почти членораздельным, страдальческим, жалобным, безутешным в каждом порыве.
«О, тише, тише!» – мысленно воскликнула я, выронила работу и напрасно попыталась заткнуть уши, чтобы не слышать этого тревожного, скорбного крика. Прежде мне уже доводилось сталкиваться с подобным голосом, а вынужденное наблюдение заставило сделать вывод относительно его значения. Уже трижды в жизни события доказывали, что странный аккорд в буре – этот горестный, беспокойный крик – обещал, что совсем скоро атмосфера станет невыносимой для человеческого существования. Так, эпидемии часто предвещались бурным, жалобным, рыдающим, мучительным восточным ветром. Не сомневаюсь, что именно в нем берет начало легенда о банши – привидении, чьи завывания под окнами дома предвещают его обитателям неминуемую смерть. Кроме того, мне казалось, что я заметила – хотя и не обладала достаточной склонностью к философии, чтобы понять, действительно ли существует связь между явлениями, – что часто в то же время поступают сообщения о вулканической активности в далеких краях; о внезапно вышедших из берегов реках; о странных приливах, неожиданно затопляющих низкие земли. «В такие периоды, – сказала я себе, – природа оказывается в хаосе и смятении. Самые слабые среди нас чахнут в ее беспорядочном дыхании, попадая в жар огнедышащих вулканов».
Я слушала и дрожала от страха, а мисс Марчмонт спала.
Около полуночи буря утихла и за полчаса установилась мертвенная тишина. Погасший было огонь в камине вновь весело разгорелся. Я ощутила, как изменился, посвежел воздух, и, приоткрыв ставни и шторы, выглянула наружу. На черном бархате неба сияли звезды.
Почувствовав на себе взгляд, я отвернулась от окна.
– Хорошая ночь? – спросила живо, подняв голову с подушки и пристально глядя на меня мисс Марчмонт.
Я утвердительно кивнула, и она продолжила:
– Так я и думала, потому что чувствую себя полной сил. Молодой, беззаботной и счастливой. Что, если болезнь вдруг отступит? Это будет настоящее чудо!
Меня очень удивили ее слова: какие уж тут чудеса? – а она попросила меня помочь ей сесть и начала рассказывать о прошлом, с невероятной ясностью вспоминая события, места и людей.
– Сегодня я особенно дорожу своей памятью, как лучшим другом. В такие минуты она дарит мне глубокую радость: возвращает сердцу счастливое прошлое – не пустые идеи, а настоящие, реальные сущности, которые я давно считала сгнившими, разложившимися, смешанными с могильной землей. Сейчас я владею часами, мыслями, надеждами молодости, заново переживаю любовь своей жизни – единственную любовь и почти единственную привязанность. Ведь я не очень хороший человек, не слишком дружелюбный. И все же у меня тоже были чувства, яркие и богатые. И эти чувства сосредоточились на объекте, который в своей единичности был дорог мне, как большинству мужчин и женщин дороги бесчисленные мелочи, в которые они направляют свое расположение. Как чудесно я жила любящей и любимой! Какой великолепный год возвращается ко мне в ярких воспоминаниях: вдохновляющая весна, теплое радостное лето, мягкий лунный свет, озарявший осенние вечера, сила надежды под сковавшим воды льдом и покрывшим поля снегом зимы! В тот далекий год сердце мое билось в унисон с сердцем Фрэнка. О, мой благородный, преданный, добрый Фрэнк! Он был настолько лучше меня! Его суждения обо всем на свете несравнимо превосходили мои собственные! Теперь я это ясно вижу и могу сказать: если другие женщин страдали так же, как страдала я, потеряв любимого, то едва ли они испытывали такое же счастье в любви. Эта любовь была намного чище и благороднее обычной: я не сомневалась ни в нем, ни в его чувстве. Эта любовь охраняла, защищала и возвышала не меньше, чем радовала ту, которой была посвящена. Позвольте спросить сейчас, когда разум мой так странно ясен, позвольте задуматься: почему же у меня ее отняли? За какое преступление после двенадцати месяцев блаженства я была обречена на тридцать лет скорби?
Монолог утомил ее, и некоторое время она молчала, а потом продолжила:
– Не знаю, не могу понять причину жестокого лишения. И все же в этот час хочу искренне сказать то, что ни разу не решалась произнести прежде: великий Боже, да исполнится воля твоя! – еще попросить: пусть смерть воссоединит меня с Фрэнком. До сих пор я в это не верила, но сейчас знаю, что такое возможно.
– Значит, он умер? – тихо спросила я.
– Ах, моя дорогая… – вздохнула мисс Марчмонт. – Это случилось в Рождественский сочельник. Я нарядилась для своего жениха, который в скором времени должен был стать мужем, и села к окну его дожидаться. Снова ясно представляю, как всматриваюсь в снежные сумерки за окном, чтобы не пропустить, как он поедет по белой аллее. Вижу и чувствую мягкий теплый свет камина, отблески которого играют на шелковом платье и смело рисуют в зеркале стройную юную фигуру. Вижу, как полная, ясная, холодная луна плывет над чернильной массой кустов и деревьев, серебрит землю старинного сада. Я ждала с горячим нетерпением в крови, но без сомнения в груди. Огонь в камине иссяк, но остался лежать яркой массой углей; луна поднялась высоко, но по-прежнему заглядывала в окно; стрелки приближались к десяти – он редко задерживался до этого часа, но все же пару раз приезжал поздно.
Неужели он не сдержит слово? Нет, ни за что и никогда! И вот он появился – мчится так, словно от того, успеет ли, зависела его жизнь. «Фрэнк! Неистовый всадник! – мысленно воскликнула я, с радостью, но и с тревогой прислушиваясь к приближавшемуся галопу. – Вот получишь нагоняй! Ведь рискуешь не только своей, но и моей шеей: то, что принадлежит тебе, мне особенно близко и дорого!» И вот он показался: я уже видела его, – но, наверное, в глазах уже стояли слезы и туманили взгляд: я различала коня, слышала стук копыт – по крайней мере, так мне казалось. Но конь ли это? Что за странное существо медленно влачилось по двору – темное, тяжелое? Как назвать то, что предстало передо мной в лунном свете? И как выразить родившееся в душе чувство?
Я поспешила на крыльцо. Огромное животное – это действительно был черный конь Фрэнка – стояло перед дверью, дрожа, фыркая, тяжело дыша, и за уздцы его держал человек (Фрэнк, как показалось мне в темноте).
«Что случилось?» – спросила я и в ответ услышала резкий голос Томаса, собственного слуги: «Идите в дом, мадам».
Потом Томас строго окликнул выбежавшую из кухни служанку и приказным тоном потребовал отвести меня в дом, но я уже упала на колени возле того, что лежало на снегу, а до того безвольно волочилось по земле, того, что издало судорожный вздох и тяжкий стон у моей груди, когда я подняла и прижала его к себе. Он был еще жив и даже, кажется, в сознании. Я не подчинилась попыткам разлучить нас и приказала отнести его в дом. Со мной хотели обойтись как с ребенком, но я мыслила достаточно ясно, чтобы повелевать не только собой, но и другими. Уступила я лишь доктору, а когда тот сделал все, что мог, осталась одна с умирающим Фрэнком. Он нашел силы обнять меня и даже назвал по имени, услышав, как я молилась над ним, почувствовав, как нежно его люблю.
Последнее дыхание он адресовал мне: «Мария, умираю в раю», – а когда заря возвестила утро Рождества, мой Фрэнк уже был у Бога.
Мисс Марчмонт издала тяжелый вздох и продолжила:
– Все это произошло тридцать лет назад, и с тех пор я страдаю, но сомневаюсь, что сумела наилучшим образом использовать ниспосланное несчастье. Мягкие, добрые натуры обратились бы к святости; сильные, гневливые личности превратились бы в демонов; я же лишь стала сраженной горем старой эгоисткой.
– Вы совершили немало добрых дел, – возразила я, поскольку знала, что госпожа хорошо известна щедрой благотворительностью.
– Хотите сказать, что не жалела денег, когда они могли облегчить чью-то печаль? Что из того? Мне это ничего не стоило: не доставляло ни усилий, ни боли, ни радости. Полагаю, однако, что с этого дня вступлю в новое, лучшее состояние духа: начну готовиться к встрече с Фрэнком. Видите? До сих пор думаю о Фрэнке больше, чем о Боге. Если на небесах не учтут, что эта горячая, долгая и преданная любовь по крайней мере не привела к богохульству, мои шансы на спасение ничтожны. Что вы думаете об этом, Люси? Станьте моим исповедником и скажите.
На столь сложный вопрос я не смогла ответить: не нашла нужных слов, – однако ей, похоже, показалось, что ответ прозвучал.
– Совершенно верно, дитя мое. Мы должны признать милость Господню, хотя и не всегда ее понимаем. Должны принять собственную долю, какой бы она ни оказалась, и постараться облегчить долю других. Разве не так? Поэтому завтра же попытаюсь сделать что-нибудь хорошее для вас, Люси: может быть, после моей смерти это обернется добром. Ох, что-то голова разболелась от долгого разговора, но все равно я чувствую себя почти счастливой. Давайте-ка спать: часы уже пробили два. Это я в силу своего эгоизма вынуждаю вас сидеть. Все, ступайте, не беспокойтесь обо мне: мне нужно хорошо отдохнуть.
Она умолкла и закрыла глаза, словно погружаясь в сон. Я тоже устроилась в своем алькове. Ночь прошла спокойно. Ее судьба свершилась тихо, мирно и безболезненно. Утром я нашла мисс Марчмонт безжизненной, уже холодной, но спокойной и безмятежной. Недавнее возбуждение духа и изменение настроения было предвестием инсульта. Единственного удара оказалось достаточно, чтобы прервать давно истрепанную болезнью нить существования.