Бессонница
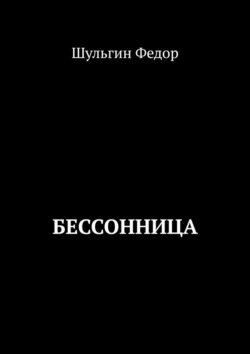
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Шульгин Федор. Бессонница
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Отрывок из книги
Я гениален. Я совершенно гениален, и нет от этого разубеждения. Я написал этот текст, я работал над ним днями и ночами, и вот он готов. Что-то нужно доработать, то верно, но какова идея, каков посыл! Вложил в него всю свою душу. Целиком! Ни частички не оставил, ни маленького огонька. Такого синеватого и почти что тусклого. Счастье вдруг становится ясней, перестает быть эфемерной, а то и вовсе постыдной категорией в моем воображении. Я будто бы приблизился к этому новому явлению – счастье. Я вспоминаю в мелькающих фрагментах, как это чудо создавалось. У одинокого стола сидел я по ночам, сидел и днем, и даже во времена беззаботных праздников, когда сотни горожан сбиваются в улыбчивые кучи, заполняя разукрашенные площади своими радостными криками. В этих фрагментах всплывает желтый свет старинной лампы, стоявшей подле пишущей машинки, наверное, десятка два так лет. Всё что мои белеющие глаза могли увидеть были этот желтый, изредка мерцающий свет и стройные ряды созданных мною букв. Эти буквы мои верные друзья. Они всегда здесь под рукой, всегда поддержат меня добрым словом. Они не скажут мне чего-то неприятного или даже непристойного – они моя надежда на славное будущее. Эти буквы прекрасны. И, быть может, оттого, что я их создаю. Я всё вложил в них. Не только душу. В десятках и сотнях страниц, в тысячах слов я оставил себя. Я оставил меж их отпечатанных рядов своё здоровье. Мои родные вы слова! А сколько же раз я вас перечитывал? В памяти не только свет лампы и дерганное клацанье клавиш машинки. В ней повторяется из ряда в ряд сюжет. Крутится где-то в затылочной части, куда с великой силой приливает кровь, какая-нибудь сценка. Я о ней думал и так, и сяк, и всё старался угодить себе, угодить чему-то великому. Я пока не знаю, что это, но я точно угодил! Мне кем-то было суждено создать этот прекрасный текст. Часто я представляю себе такую мысль – где-то здесь в этом мире, далеко-далеко от моего скошенного дома, да что там, далеко за пределами нашей планеты Земли, есть какой-то объект. Я не вижу его, не знаю, что это такое, но он ведь есть. Разве нет несчастного, одинокого лунного камушка, где-то на другой её стороне? Я лежу в кровати, сосед беспечно орет, в другом городе случился пожар, и молодая мать умерла при родах, всё это есть. Оно есть вне зависимости от меня, оно есть, когда я закрываю глаза и молча мечтаю о своих печатных книгах, которые так бы понравились читателю. Потом я представляю, я глупо представляю, но я думаю о тексте. Об этих буквах и слогах, сложенных в одно целое. Всё это ряд случайностей, но они тоже есть. И, стало быть, я прочувствовал эту случайность. Я вывел её на свет, под чьим-то разумением. Моё ли оно? Да знать я не знаю, но оно тоже есть. Оно есть всегда. Оно возможно, а значит и есть. Или по крайней мере оно будет. Встань я сейчас, измени хоть слово, и всё пропало. Родится новое. Но я будто не волен это совершить, и отсюда такие мысли. Наверное, они смешные. Мои глупые впечатления. Будь мне угодно стать героем книги, я бы бесконечно молчал. В своей голове, разумеется. А что? Я могу! Человек не человек без мысли, выраженной в языке, а я могу! Допустим, помыслить теми же картинками. Но будь мои мысли записанными где-то там, в бесконечном просторе над головой, куда я смотрю по вечерам и влюбленно мечтаю, сердцу моему не сдержать алеющего на щеках позорного стыда. Я бы сказал: «Эй ты, читатель! Пошел-ка ты вон от моих золотых, принадлежащих только мне мыслей! Такое удовольствие тебе читать эти пульсирующие, разрозненные глупости, вдруг выраженные во множестве букв?» Это смешно до упоения. Приходится держаться за исхудавшую грудь, чтобы не умереть в момент, когда я этого совсем не ждал. Я смотрю на белый потолок, в нем не хватает штукатурки, она безнадежно обсыпалась, почему-то не упав мне на лицо, и понимаю, как много я отдал. Я совсем поплохел. Вертясь с боку на бок, наматывая старое, пропитанное клоповыми тушками одеяло, стараясь согреть вечно мерзлые ноги, я обиженно пытаюсь вспомнить, когда же я последний раз спал… Это было так давно. Совсем давно, ещё когда я только начинал писать упрятанную в верхнем ящике стола рукопись моей прекрасной книги. Я вспоминаю об этом и со слезами, содрогаясь, в панике думаю, что мой сон закончился тогда, когда я был рожден. Я помню, как за окном была иная картина. Там были другие деревья, дороги и люди. Я работал столько дней, почти не видя живой свет, изредка забрасывая унылый взгляд за мутные стекла окна. И каждый раз там всё менялось. Прямо на моих глазах. Это, наверное, великая печаль, просуществовать столь много времени, по сути не живя. Одно лишь оправдание – ведь я был занят делом! Я, конечно же, существовал, правда не здесь, а там. По ту сторону сотен и сотен черненьких знаков, покрытых желтоватым теплом моей лампы. Так дни сменялись друг за другом, я писал, клавиши громко стучали, а сон куда-то удалялся. Единственное, чему я мог бы верить, и то с большой погрешностью, так это последнему видению, которое внезапно вдруг явилось мне во сне. Я не уверен, что не придумал это за столом, пытаясь проглотить стакан горького чая. Часто такое случается, и вправду. Я отвлекаюсь от мира сего и ухожу в небытие. Тогда мысли и образы обретают новую жизнь. Они воплощаются. Но это должно быть сон. Я шел по одинокой пустыне. Здесь не было ни деревьев, ни даже людей. Ветер почти не дул, и я чувствовал нестерпимый жар своей бледной от чердачной темноты кожей. Я блуждал невыразимо долго. Мне являлись миражи. Оазисы, конечно, оазисы, куда же без них! Пытался я найти воды, изыскать хоть одну человеческую фигуру. На песчаных ухабах то и дело виднелись сероватые силуэты, я бежал к ним, но меня никто и не ждал. Я шел, забыв о времени. Я следовал солнечному свету, он словно вел меня. Его предводительство угнетало, жарило, не было сил оторвать правую ногу и двинуть ей вперед, дабы она погрязла в тысячи горячих песчинок. Затем я вышел к реке. Я не удивлялся так даже свежей буханке хлеба в заросшем паутиной ящике на кухне. Губы мои прислоняются к живительному истоку, как же хочется напиться! Сначала я пил небольшими глотками, потом вошел во вкус и радовался, глотал с новой силой, больше и больше. Пока меня не отвратило. Вода вдруг стала горькой, какой-то мерзкой, выворачивающей. Я выплюнул оставшиеся капли и бил себя в живот. Я падал на песок и катался в нем. Он лип к моим плечам, увлажненным ручьем, затем я встал и пошел вверх против течения. По дороге слышалось звериное завывание, жар не переставал палить. Я прошел много часов, как вдруг увидел огромного зверя. Большая чёрная собака открывала рот, а из неё тек тот самый ручей, которым я с жаждой напивался. Рядом с ней была ещё одна такая же собака. Она поникши скрутилась, с её глаз медленно стекали слёзы. Позади была огромная стая псов, задравших голодные морды вверх. Они прыгали на месте, устремляли свои звериные тела к небу, разевая пасти. На них сыпались кучи бумажных листов, которые те жадно сжирали. Их сыпалось всё больше, но псы не наедались. Кажется, это был последний сон, который я видел. А я так устал… работал много. Гораздо больше, чем шагающий по улице каждый день почтальон или мускулистый дровосек на лесопилке недалеко от города. Эти люди не отдают и самой малой части своей хилой души, в то время как я живу, чтобы создавать. А чтобы создавать, приходится членить себя на части. Части же эти вкладывать как перламутровые бусинки в страницы созданных в ночи произведений. Пока что обыватели не знают, что среди них живет герой, который трудится и днем, и ночью, давно позабыв о здоровом сне и человеческом рационе. Почтальон гуляет по ночным улицам, в бессонном одиночестве неся свой труд к дверям умиротворенным давно зашедшим солнцем горожанам? Я знаю, что нет. Ночная улица совсем другая. Фонари – её пешеходы, а коричневые лавки – деловые люди. В каком-нибудь разбитом переулке пускай и можно встретить оборванную рухлядь, бездомного, или осунувшегося, почти беззубого бандита, и всё же мир этот не для них. Но только для героев, блуждающих под светом фонарей и вечно ищущих вдохновения, чтобы в конце концов вознести свой труд к небу, ловя улыбки круглых лиц с искренними овациями в придачу. Ноги мерзнут вновь, не оставляя и надежды на самый мизерный уют. Тело кровати скрипит, стоит мне только завернуть совсем немного вбок. Ох этот белый, облезлый потолок… Я закончил дело жизни, разве я не молодец? Разве я не заслуживаю совсем немножечко поспать? Мне не надо много, чуть-чуть, самую малость. Я приглушенно ругаюсь, продолжая нелепые движения со одной половины кровати на другую. Хватаю руками лицо, пальцами касаясь подглазных мешков, я тру его, руки сползают вниз, растягивая холодную кожу, создавая смешную гримасу. Упираюсь в подушку и уже не могу дышать. Невидимые облака тяжелой пыли взмывают надо мной. Я закрываю глаза и долго лежу. Усталое тело начинает чесаться. По нему что-то бегает, не дает мне отдохнуть, пытает мой несуществующий сон! В ярости срываю одеяло, встаю у кровати и трясу им. Трясу и трясу, в кровавой злобе, с улыбкой ненависти на лице. Я вижу, как сотни проклятых клопов валятся из его ткани. Поганые букашки расползаются по полу, забираются в недоступные щели в рыжих досках пола, прячутся под матрасом. Принимаюсь беспощадно давить эти грязные точки, я ловлю их руками, в худых пальцах оказывается сразу несколько особей, я давлю их и тут же выбрасываю прочь. Я давлю их ногами, громко крича, топая по полу, взрываясь в эмоциях, почти что плача от распирающей злобы. Штукатурка на потолке редеет снова – на кровать падает бесформенный белый кусок. Это белое бесформенное нечто разваливается на части прямо на кровати, рассыпается на пылинки, оно кишит на потасканном матрасе и отвращает. Я кладу одеяло поодаль, стряхиваю штукатурку и сажусь. В голове вдруг опустело. Стало мгновенно грустно и обидно за свою несчастную судьбу. Я смотрю на голые обтянутые бледной кожей ступни: они похожи на два весла с длинными вырезами посередине. Такие худые и грязные, белые. Наверное, менее белые, чем чертова штукатурка, но они словно неживые. Пальцы, кажется, загрязнились. Я пытаюсь ими слегка пошевелить, но черствый холод не дает. Большой палец на правой ноге совсем немного поддается, я прикладываю тысячу усилий – он лишь комично дернулся в одной секунде, сверкая грязным ногтем в мою сторону. Клопы разбежались, и вот я совсем одинок. Снова эта печаль. Сцена с вытряхиванием жалких насекомых меня порадовала. Оживила какие-то чувства. Ведь с каким удовольствием я их давил. Кладу ногу на колено, на подошве множество прилипших трупиков. Потираю пальцами – они в грязи от мертвых тел. Я падаю назад. Затылок неуютно упирается в не взбитую подушку, ногой подтягиваю одеяло и укрываюсь. Ничто меня не беспокоит, кроме вечного холода. Пройдет ещё несколько минут и десяток поворотов, пока я не начну жалобно стонать, сетуя на день, когда я был рожден. Я не прошу многого, правда. Пожалуйста! Как бы я хотел поспать. Совсем немного. Закрыть глаза и не увидеть ничего. Не думать и не слышать, но просто скрыться в непостижимой темноте, с надеждой из неё проснуться. Я чувствую, как древняя пыль оседает в ноздрях, и не могу уснуть. Что я написал? Серьёзно, что? Столько времени ушло на это, столько сил. Да кому оно нужно, самое дело. Ряды бессмысленных, хаотически набросанных изречений. Я представляю, как люди заседают толпами вокруг меня, читают страницу за страницей, передавая друг другу черновики с пометками, тыкая пальцами в самые постыдные места, они смеются и смотрят мне в глаза с великой солью, спрашивая раз за разом «и ты это серьёзно?». Бумажки крутятся над головой, я пытаюсь их словить, точь прикрывая голое тело. Да, это оно! Я словно наг перед ними. Я стараюсь убежать от всех, но меня тут же настигают, куда ни ступи. Догоняют и тычут листками в лицо, усмешливо крича «да ты это серьёзно!?». Горожане собираются в массы, их веселые лица переполняют мой взор, каждое в отдельности убивает. Мне стыдно поделиться своей мыслью. Нет ни единой гарантии, что она также не пуста, как множество других. Меня непременно осудят. Посмеются, пошлют в сторону, вежливо толкая к звенящему выходу. Тру околевшими ступнями друг о друга, одеяло слегка оживает, пыль летит, конечности покрыты грязью и мелкими внутренностями мерзких жуков. Встаю резко. Так резко, что сердце грозило погибнуть, а голова закружилась. Слегка тошнит. Босые костяшки падают на пол, и, в сущности, ничего не меняется. Холодно, как всегда. Бреду до умывальной. Доски скрипят. Я делаю один неуклюжий шаг, почти ползущий – скрип. Тяну вторую ногу – скрип. Тру лицо с тяжестью, словно это избавит меня от усталости. Войдя, держусь за грудь, в ней что-то умирает. Надо же, здесь, оказывается, есть свет! Такой он зеленоватый. Белый, но зеленоватый. Подхожу к раковине, смыл грязь. Тру мутное зеркало, делая шаг назад. Какая-то жалость глядит на меня по ту его сторону. Он безнадежно похудел… Я вытягиваю своё тело, закидываю руки за голову, затем за спину, и становлюсь похожим на причудливого уродского ангела. Тянусь и вижу ряды рёбер. Придирчиво их считаю, гляжу на кожу, на растянутости меж костями. Мне стоит втянуть в себя живот, и выступят внутренности. Руки слабы, худы и неприятны взгляду. Шагаю ближе, гляжу в самую свою суть. Белые яблоки глаз испещрены красными разводами. В них нет ничего привлекательного. Никакой искорки – пустой, загубленный взгляд сумасшедшего. В привычном жесте кистями бледных рук тяну лицо с его мешками вниз. Мешки довершают отвратный образ, делая из меня вурдалака. Скулы торчат, волос будто и не видно. Поворачиваюсь – спина размежевана хребтом. Никто бы даже не поверил, что этот человек должно быть ещё совсем молод. Я мнусь так ещё несколько минут, позируя пред зеркалом. Изучая свое гнусное тело. Какое оно необычное. Увидь такого где-нибудь в ночи посреди улицы, я бы сдался жить и сложил малые свои полномочия на сопротивление. Фигура худого человека, едва заметного при свете и пугающего в темноте, невероятно удобный инструмент для совершения всяких преступлений. Я мог пробираться в окна и красть себе на ужин хорошенький кусок парного мяса, или схватывая чьи-нибудь вещи, удаляться прочь. Вытаскивал бы из карманов одинаковых одежд чужие пожитки, тихонечко клал бы их за пазуху и также быстро исчезал бы. Худому человеку, не просто худому, а такому как я, не составит труда слиться со стоящим домом. Он может притвориться фонарным столбом, встав над парковой лавочкой, слушая при этом чужие разговоры. Разговоры тоже своего рода пожитки, почему бы их не украсть? Грязь в зеркале вызывает лишь снисходительное отвращение. Глаза совсем опухли. Вновь и вновь тяну я веки, мешки под ними, с интересом заглядывая вглубь себя. Есть в этом что-то необычное. Такая вот рекурсия. Я должно быть вскорости ослепну. Если и не завтра, если не через год и не через два, то, быть может, лет так через десять. Мне следовало бы поспорить с кем-нибудь на хорошие деньги, желательно предугадав точную дату, когда эти краснючие пятна утратят способность видеть. Смотрю на тело и тяжело вздохнув, совершенно не вновь, ухожу. Я топаю на кухню. Здесь, внезапно для меня, есть окно. Вид из него пока неинтересен. Хожу по хладным доскам пола, ищу при этом сам не знаю что. Я начинаю коченеть. Иногда мне доставляет предельное удовольствие немножко коченеть. Я не романтик, однако, как приятно потрястись с душой от холода. Почувствовать, как холод играет с диафрагмой и животом. Повтягивать в себя колеющие внутренности. Я сел за столик. На нем кусок белого хлеба. Старый. Трогаю его, борюсь с неприличной мыслью попробовать. На столе грязь, как и везде. Хлеб закаменел, сжался и оброс пыльными лохмотьями. Подбираю кусок и, остановившись, держу его у самого носа. Меж старых мучных пор видны черные точки. Должно быть плесень. Я лизнул кусочек и тут же громко сплюнул. Какая всё-таки вещь – нужда. Как бы было хорошо ничего не хотеть. Не нуждаться ни в чем, кроме письма и желания творить, что, в сущности, одно и то же. Сам свет земной стал бы в один миг чище и уютней, не будь нужды. Стали бы убивать? Или грабить. Или обманывать. Я лизнул кусочек ещё разок, затхлая горечь ударила в мозг – да что там, конечно бы стали. Кладу старинный хлеб обратно, подпираю голову рукой, локоть воткнулся в мерзлое дерево стола. Меня трясет, что не может не радовать. Сижу я так долго. Сижу себе на уме, вернее, без ума, ни о чем не думая, замерзая напрочь, забыв о последних благах и уюте. К черту. Встал, поплелся к кровати. И вот она перед ногами, ничуть не изменилась. Скучная, как и всегда. Собрался было ложиться, как из-за стены доносится чуть различимый шум. Поначалу он не заметен и, по-видимому, также скучен. Потом же я слышу редкие обрывки фраз и злостную ругань соседа. Надо же, поспать не получится. Двигаюсь к стене на цыпочках. Вонзая один палец в плоть пола, за ним другой, а вдруг услышат и замолкнут! Так неуклюже и смешно подбираюсь к стене и вслушиваюсь. Сосед ругается. Его низкий, почти что чревный голос отчитывает кого-то. Делаю ставку на жену. Как кричит! Актер! Стенка дрожит, я чувствую вибрацию. Возьми он малость ниже, и штукатурка свалится ещё разок. Что же заставило тебя, бедолага, среди милой ночи так орать? Будя соседей, делая эту ночь неприличной. Ведь чем меньше людей в ней не спят, тем она чище. И мне бесконечно обидно за эту ночь. Я знаю – это ревность. Детская будто, наивная такая. Следует думать, что я привык владеть этой ночью один. Не делиться с ней, не замечать чужих тел в фонарном свете, но блуждать одиноко, насвистывая под ухо знакомый мотив. Мысля о чем-то великом и недоступном. Теперь же эта интимность целиком уничтожена. Какой наглый тип. Да как ты смеешь покушаться на моё достояние? Разве это ты не спишь по ночам? Ты ли вслушиваешься в пустоту, воюешь с глупыми мыслями и дрожишь от холода? Не попадайся мне на глаза… Я могу убить за покушение на непогрешимость этой ночи. И любой другой, исходя из самой очевидной мысли, что эта ночь моя. Тебе достался сон, мне же нескончаемое бодрствование, так будь любезен – спи и не возникай по пустякам! Прикладываю ухо к каменной стене, слушаю. Звук захлебывается. Он смешон, но непонятен слуху. Сжимаю кисть в кулак и аккуратно, выверено бью по стенке пару стуков. Вновь к ней припадаю – крик не унялся. Стучу снова. Тщетно. Стучу активней несколько раз. Сосед замолк. Прислонившись, стучу финальный раз и слышу, как грузное тело медленно, шаг за шагом, обходя скрипучий пол, перенаправляя массу огромного тела двигается к стене. Я напряженно слушаю. Вот он сделал шаг. Затем постоял. Шагнул снова – скрип! Какая неловкость, друг мой! После предательского звука он стоит. Минуты две. Болван. Начинаю хрипло смеяться, протяженным «хи-хи», уходящим вглубь мрачной комнаты. Простоял и возобновил свой шаг. Стою так минуту, слышу, как стена отзывается шумным потиранием. Прислонился. Я стараюсь не дышать и уж тем более не смеяться. Так мы стоим много минут. Это настоящее соревнование, проверка силы воли. Тишина постепенно сводит с ума, давит. Он постучал в ответ. Те же пару раз – я молчу. Постучал снова и настырно. Стою как вкопанный. Подношу лишь кулак ко рту, чтобы сдержать подступающее «хи-хи». Затем, он в том же «скрытном» темпе отходит от стены, наверное, думая, что его никто не заметил, а может быть, всё это ему вовсе показалось. И тишина больше не нарушалась. Я с улыбкой взмахиваю рукой, говоря себе и главное ночи, что постоял ведь за её покой! Какой дурак этот сосед, как он опозорился! При этом всём, даже не узнает, как я его сделал. Отхожу от стены, и хочется плясать. Я победил. Развожу руки в стороны, делаю шаг налево, прыг! Шаг вперед, прыг! Потряс. Ногу за ногу, и так кручусь, как же хорошо! Сейчас он ляжет со своей надоевшей женой, думая, что же всё-таки приключилось. Какая загадка. Идиот. Эта ночь моя! Руки прочь, я говорю это всем. Кто бы сейчас не удумывал внезапно встать и начать кричать, или подобно мне плясать в безумном танце – это не для вас. Ваш удел одинаковые сны, скорее всего, достаточно скучные. Например, о семье. Или о работе. Или о простенькой мечте серого человека. Для кого-то ночь – таинственный ритуал. Вместе со сном, конечно. Лег, исчез и возродился. Какая романтика всё-таки. Я выплясываю второй круг и как же радостно, как же приятно, что эта ночь моя. Именно эта ночь, никакая другая. Что в ней такого? Я и не знаю толком, но чувствую нутром, что она уникальна. Призвана изменить скучную жизнь, пускай так. Мне не нужна даже музыка, скрипа досок хватает сполна. Я готов был бы взять соседа под руку, обхватить крупную талию и станцевать с ним. Водя его по небольшим просторам моей комнаты, стуча носками по полу и свистя. Напоминая о таинственном звуке из-за стены, над которым он сейчас так много размышляет, хи-хи. Vae victis, друг мой, ха! Приплясывая, оказался у кровати. Теперь можно. Ложусь. Ноги все не уймутся, продолжают плясать. Вечная моя проблема. Либо мерзнут, либо пляшут без пробоя. Сейчас, когда я часами не могу уснуть, в меня вселяется какая-то злоба. Не знаю, молния что ли. Всё корежит, начинаю сжиматься, гнуть ноги. Руками обычно подпираю грудь, чтобы не задохнуться. Так лежу долго-долго. Грудь вдруг перестает работать. Сваливает на меня весь груз, говоря: «я больше не могу! Давай-ка сам». К моему несчастью, пропустить такое нет возможности. И вот приходится дышать. Нервно, с каким-то дерганьем и хрипом. Часто при вдохе в груди что-то щемит, думаю, что сердце. Всегда готов умереть. Больше лежишь, больше тело слабеет, становится отекшим. Уже закрыв глаза, чувствую, как они дрожат. Уставшие. Дрожат на ровно месте, слегка покалывая. Даже за тонкими веками. Стараюсь не шевелиться – всё равно не отпускает. Стараюсь не думать. Не думаю. Совсем не думаю. Не помогает. Так лежу в каком-то терпком небытии. Стоило ли мне лишаться сна ради неизвестно чего? А сколько времени ушло, сколько здоровья… Пугало в зеркале только раздражает, дышать трудно, глаза болят. Быть может, хорошо мне и не спать? Усну и больше не проснусь с таким потасканным здоровьем. Лежу я, и пусто в голове. Всё ушло туда – в текст. В дни и недели сочинений. Метаний из угла в угол, в попытке уловить беглую мысль. Взять её за горло и с силой впечатать в свежую бумагу. Не счесть насилий над такими бедными мыслями. Не счесть расстройств, которые я получил. Бывало сядешь, и смотришь пристально на клавиши машинки, бьешь себя по голове, и никак не идет. Ты в злости поднимаешься, пальцами цепляясь за острый подбородок, делая вид задумавшегося человека и бродишь по скучным комнатам. Бродишь из одной в другую, ждешь небесного снисхождения. Ведь вот оно! Вот оно, вот же! Лежит тут близь стола, встань, да возьми! Возьми, вкуси так хорошенько, добавь немного слов сюда, немного умных мыслей вон туда. Считай, работа сделана. Нелегкая работа, изнуряющая. Порой стыдящая. А что подумают читатели, попадись им этот текст? По телу пробежала дрожь. Подумают: «Какая гадость! Как сыро и неново». А я часами пропадал на чердаке, выделывая свои кривые мысли в образы хоть малость правильных фигур. Поделом подумают ли? Никогда не могу я этого понять. Написал, вроде, неплохо, но вдруг не то. Вдруг вправду гадость. Вдруг повторился, опошлил. Вдруг просто выписал свою банальность на кучки желтеньких листков. И как заведено? Все понимают что-то, вернее всё, а я один ничего понять не могу. Не разбираюсь я ни в чем. Мне даже слово вставить некуда. Такая вот серость станет читаема? Написал всю ту же глупость, скрасил белые страницы серым, и нравится это только тебе. Тик. Переворачиваюсь на живот, вдруг полегчает. Самообман меня спасает. В конце концов, когда нет ничего, даже иллюзия тебе поможет. Так. Подкладываю руки под себя, уперся хилым своим ликом в пух подушки. Не стану я читаем, не завлеку. А сколько извинений в тексте? Как будто назови ты мысль глупой, очевидной, она от этого такой быть перестанет. Следовательно, совершенно справедлива едкая насмешка в твою сторону, писака. Тик. Остается только молчать. Навеки закрыть говорливую пасть посредственного графомана, дабы избавить и без того бедное наше человечество от ненужного мусора. Так… Не могу улежаться на животе, всё затекло, вновь кручусь. Тишина… Стояла долго, вдруг тик-так. Тик-так. Проходит время и тик-так. Я всё никак не мог уснуть, наслаждался блаженной тишиной, в квартире же были часы. И счастлив быть я мог, пока не замечал их. Тик-так. Противный, умеренный стук. Тик-так. Руки сжимаются, дергаю ногами. Тик-так. Пытка не закончится. Я встал. Яростно и непоколебимо пошел к источнику гадостного звука. Часы стояли у стола, я заношу ладонь и останавливаюсь. До чего я дошел… Часы эти так красивы. Расписные, со сложным механизмом, который, в сущности, не сделал ничего плохого. Выполнял свою монотонную работу, давая мне надежду знать который час. Мне, правда, он словно и не нужен. Десять вечера сейчас или утра, что с того? Я тут сам по себе, и время не делится на части. Проживаю сплошной, тяжелый до ужаса день. Простите меня, маленькие вы мои часы. Я поднимаю их и принимаюсь изучать. Вращаю в руках, осматриваю. Подношу к уху. Вслушиваюсь в тик-так. Воображение пока работает. Вижу десятки сложных шестеренок, в танце крутящихся, звонко поющих мне успокоительную мелодию. Зря я так с вами, часы. Как же раньше не замечал. Да вы моё спасение, часы! Можно ведь лечь и слушать вас, а не поток корявых мыслей в голове. Я полностью уверен, что проблема в этом. Много я думаю, очень много. Для сна не годится. Нужен отдых, полное спокойствие. Мои мысли сбивчивые, наплывают друг на друга, заставляют бросаться от одной к другой. Так не годится, верно. Ставлю часы на место, глажу их с любовью. Делаю шаг к кровати, ан-нет. Ступаю обратно, кидаюсь к часам и чуть ли не в слезах прислоняюсь к ним засохшими губами. Падаю у тумбочки, держа часы в руках. Держу их как ребенка, всё глажу и глажу. Позор! На кого ты покушаешься, бездарь? Сижу у тумбочки и наглаживаю эти часы, целую их. Люблю их! Смотрю в их циферблат, снова целую. Обливаюсь слезами. Может быть, эти часы вообще единственный мой друг во всем проклятом доме. А я с ними так… Простите, ещё раз простите, тысячу раз извините меня, часы! Аккуратно укладываю их обратно на дерево стола, глажу их в последний раз и падаю в кровать. Лежу забывшись. Что мне поделать с рукописью? Сжечь? Порвать и съесть? Хорошая идея! Рукопись можно разрезать на сотни маленьких кусков, погрузить в тарелку и залить кипятком. Добавить соли, сахар, помешать и насытиться на здоровье. Такое вот самоедство. Куда мне её деть, куда… Я, право, не знаю.
– Стоило бы подать в издательство. Тем более, оно здесь неподалеку.
.....
– В последнее время, поверь мне, печатают всё. Настоящий голод разразился в стенах издательского дома. Им лишь бы подавай, возьмут любую спесь и серость, напиши на них насмешку, они лишь улыбнутся и тут же напечатают, ты главное мне верь.
В последних трех главах такая идея! Я снова смеюсь и счастливо улыбаюсь, хочется взорваться, вскочить и затанцевать!
.....