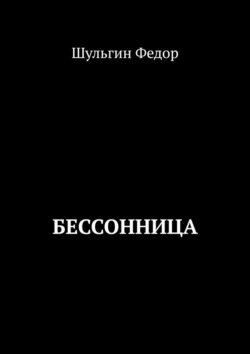Читать книгу Бессонница - Шульгин Федор - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеВ наше время искусство бессонницы пришло в упадок. Люди совсем разучились не спать. У них нет ни воли, ни желания отойти от привычного им взгляда, который, в сущности, порочен. Неужели они не хотят себя испытать? Посмотреть, что выйдет, не поспи ты день, а то и неделю. Всё это самое первичное проявление слабости, от которого только тошнит. Такая бесхарактерность раздражает. Сколько времени мы теряем во время сна. Треть жизни, люди! Очнитесь от глупости! Не так уж много и отведено на жизнь, чтобы так опрометчиво ей распоряжаться. Прожить можно и шестьдесят лет и восемьдесят, правда, это иллюзия. Самообман, такой же, как и множество других. Двадцать лет сна… Тысячи лет назад ещё древними была установлена его ядовитая суть. Сон – это смерть. Сон самый близкий её друг, а сон без снов скорее всего копия. Проспите вы эти двадцать лет, проживете сорок, а дальше? Вечная, незыблемая пустота. Тем, кто беззаботно ложится спать, не жалко ли себя? Я не могу поверить, что с этим так легко смириться. Треть жизни человека. Многое меняется без этой болезни – сна. Поэтому и призываю я простых людей услышать моё слово – очнитесь! Скиньте надоедливые одеяла, этих демонов блаженства! Они обманывают вас! Укутывают теплотой и закрывают веки, забирая жизнь. Я не могу с этим смириться! Нет! Очнитесь! Сколько великих деяний могло бы совершиться, забудь мы о сне. Где бы мы оказались! Все эти близкие и даже дальние планеты покрылись бы домами невиданной красоты, потому как Земля наскучила бы такому творящему человеку. Человеку без сна. Человеку без ограничений. Без глупости. Сон грешен. Один на сотню поколений, может, и поймет меня. Все остальные слабые, бесхарактерные, необдуманно потакающие примитивным вожделениям, из которых сон самое страшное. Вот вам притча, люди: когда-то в незапамятные времена у неизвестного народа был обычай. Он был страшен для иных племен, ведь главным их богом была смерть. Они рождались, чтобы умереть, и жили, вознося внезапной смерти радостные похвалы. Если на улице найдется труп, за ним ухаживают, как за царским сыном. Второй же бог – это, конечно, сон. Обычай был таков, что каждые два года избирался жрец, который должен быть во сне всё это время. Так шли года, жрецы сменялись, отдавая жизнь жестокому богу. Но среди странного народа нашелся свой спаситель. Он был мудрецом с малых своих лет. Он видел, как страдает племя, ведь было оно совсем немногочисленным, и с великим трудом давался ему священный обычай. Мудрец был юн, и начал свою проповедь словами, что все должны очнуться, отказаться ото сна, отвергнуть коварного лжебога. Ему открылась истина – его никто не понял. Он обещал им пострадать за них, и лег на алтаре, проспав так двадцать лет. Узрите же, порочные вы люди, как плох этот недуг. Проснитесь и займитесь великими делами. Постройте новую империю, создайте чудо, ласкающее очи, проснитесь! Должен же кто-то разбудить заблудшее наше поколение! Должен же кто-то помочь! Чувствую, знаю, что некому, кроме, наверное, меня. Никто и не встанет на их сторону, бедных забывших жизнь человеков. Я один понесу спасительное моё слово через тысячи домов и городов, пламенем я освещу их лица и сердца, речами громкими я поведу их за собой, ибо знаю, что некому. Нет в нынешних моих соседях и, по-видимому, согражданах алеющей искорки желания и силы. Нет в них энергии луча космического, зажигательного, поднимающего на восстание, сбивающего старые порочные давным-давно погасшие устои. А я смогу! Я – вот кто должен. И более того, я чувствую ответственность. Мне стыдно за тысячи замороченных седоватой пылью голов, которым не хватает сил её стряхнуть. Рука моя великая смахнет одним могучим взмахом глупость, осевшую когда-то, и всё станет хорошо. Я. Какое слово! Это я! Я! Оно не может надоесть, ведь я это же я. Я здесь, я там, я постоянно думаю о людях и веках, я! Даже писать это значительное слово не станет оскорблением или морокой. Ведь я! Я! Можно подумать, что я – это ты. Или я – это вы. Я – это мы! Я всюду и сразу. Я слышу мысли, отделяю их как тоненькие ниточки и стрункой выпрямляю, чтобы поиграть. Я! Встаю с великой гордостью, пылающей в груди, бью себя гордо, величаво даже. Пора сойти с горы, спуститься к этим жалким недотепам и, может быть, воздать им моё спасительное слово. Ведь кто, если не я? Я! Только я. Нет ничего, что воспротивилось бы этим золотым словам, которые я понесу слепому люду. Вращаюсь на кровати, делая лихой такой завиток и снова расставляю руки в стороны, точь есть нужда держаться на воде, чтобы не утонуть. Но право – утонут все! Утонут в вечных моих истинах, что будут литься без конца и в вечности веков, и после неё тоже. Я неуклюже так лавирую по старому матрасу, остов кровати отдает тяжелым скрипом, пыль летит, выбора нет – приходится чихать. И что вы, люди? Не услышали? Я к вам иду, готовьтесь! Вот он я! Несу благую весть, встречайте! И вправду, если не я, если не я. Спускаюсь медленно с кровати, в животе отдало чем-то загадочно сумбурным. Слегка так недовольно говорит мне мой покинутый живот, что дней вот уже сорок сороков не ел он ничего. Я тру его, беднягу и понимаю, что надо бы поесть… Вдруг вспоминаю о нужде, о глупой её сущности. Эх ты, нужда, что же ты делаешь с творцами! С людьми молодыми, да хорошими. Я знаю, им ничего не нужно, правда! Раз в день кусочек жаренного мяса, может быть, неплох, зачем же больше? Только, чтобы вдруг не умереть за письменным столом или среди великолепных и любимых всяким кустов ухоженного парка. Я понурено шевелю усталыми плечами – и всё-таки обидно. Не хотел бы я и капли видеть, и даже тёплого куска. Мне хватит духа, больше и не надо, правда. А всё же… Урчание грустит. Внутри скребется нечисть. Вот бы немножечко поесть. Я пришагал на кухню. Пол, хоть я уже привык, скрипит. А вдруг он хочет мне сказать какую-то великую и важную многим мысль? «Что же ты, пол мой дорогой, скрипишь так непонятно?» усмехаюсь я над ним. Склоняюсь. Тру его рукой. Здесь грязь и пыль. Противно в общем. Грязный, пыльный, но по-своему мудрый. Истерично смеюсь, ведь я, наверное, такой же. Смеюсь ещё раз. И ещё. Ха-х! Мудрый грязно-пыльный пол. Проскрипел мелодию или нерасшифрованный ещё могучей головой философский смысл. А это надо записать, действительно. Расшифровать скрипучий язык пола. Он ведь по-разному скрипит. Там свои ноты и тона. Есть даже предложения. Что-то повторяется. Эх, пол, работать нужно над речью. Без всяких этих повторений и надоевших слов. Хотя, о чем это я. Бросаю безнадежный взгляд на стол – заплесневелый хлеб. Встаю у дверки кухонного шкафа. Ручки потянул, услышал новый скрип. И он мне что-то говорит, а я не понимаю. Гм… там внутри, далёко-далеко опять в пыли и в паутине даже вижу я засохший в одиночестве картофель. Урчание приказывает рвать его на части. Схватить и проглотить. Напасть совсем нежданно для погибшего во скуке бедного картофеля. Я тяну пальцы – что-то мягкое. На вкус горьковатое. Картофель сгнил. На нем белый нарост. Похоже плесень. За взбухшей шапочкой её зашевелилось. Что-то. Трясу уставшей головой опять и тут же вглядываюсь, что есть сил. Что же там, ну что же? Торчит, колеблясь тонкий волосок. Там и второй. Вылезает крохотная лапка. Вся дрожит. Зверь осмелел и вынырнул уже почти что целиком. И смотрит на меня. Черными, едва заметными глазами. А в них я вижу себя. А в себе вижу его и себя и так далее. Усики шевелятся, ехидно, может, боязно – смотрит и смотрит. Нагло так, не хочет он сдаваться. Мелочь сильна, норовит победить. Держу дверцы ручку худой рукой и всё не отрываюсь. Я не хуже, таракан. Так стоим мы, видимо, часами, никто не поддается. Где же твои друзья, несчастливый таракан? Ни детей, ни семей, друзей нет, есть только картофель. Дом твой одинокий, съедобный. И жалко мне его становится, сам вдруг не знаю почему. Представил, как грустит он, бедолага. Одинокий. А что же жизнь его, спрошу? От самого рождения, знать невозможно где, явился он сюда и вот сидит и ест. День за днем. Нет у него забот, он только ест и, может, спит. Лежит внутри вкусного дома долго-долго. И всё ест. Накатывает горькая слеза. Скатывается ко рту, на вкус солёная, я жмурюсь. Глаза закатываю, рассасываю эту соль. Живот, конечно же, грустит. Слёзы вкусны, и вправду. Будь у меня больше жалости и сил. Эх, вытираю слёзы, закрываю шкаф. А где паук? Двигаю обратно, таракан бежит. Вальяжно, беззаботно совершенно! Паутина всюду – ему всё равно. Так он и убежал. Стою, голову сложив немного вниз. И что им не понравилось? Иду мимо стола, на нем разорванный напополам конверт, листы побиты, скомканы. Встаю я у окна и, руки заложив в замок, гляжу туда. А в голове всё повторяю – что же им не понравилось? Не может быть так плохо, правда ведь? Что же им не понравилось? Мне вскорости пришел ответ, прекрасно. А что с того? Представляю, как он взял рукопись из ящика. Таких ещё, быть может, целый склад. Читал ли он её? Он – редактор. Если читал, какой же стыд! Как бы я это описал? Я ведь могу, он просто не заметил. Не приметил моего таланта. Почему же так? Описал бы всяко. Много существует школ и стилей. Например, «то было утро обыкновенного, во многом некрасочного дня, когда наш господин редактор встал с уютом и бодрость била в его челах с великой свежестью и радостью. Он умылся и позавтракал как можно лучше, ему так много работать! Отправившись в издательский дом, лежащий посередине улицы небольшого города, мало кому известного в придачу, он поздоровался с коллегами, поймал их чтящий взгляд, кивнул, снял шляпу, зачесал лысеющую область головы и зашел к себе без стука. Там он читал, что было посвежее. Взгляд как-то неожиданно уткнулся на двести желтеющих листов с запиской, привязанной белой нитью вполне аккуратно. Он принялся читать и даже вдруг увлекся. Смеялся и кряхтел – он очень полон, ему тяжело дышать. Затем достал бумагу, сорвал с места золотом укутанную ручку, коллеги дарят, что получше, и написал. Писал скорее искренно, чем нет – он так привык. Нет дня в календаре, когда бы он так не писал. Макулатуры ведь не счесть, но каждый ждет ответа. Отправил с почтальоном, потом перекусил. И за работу…». Пресновато. Можно и так, «бледная, ухоженная кожа крупных рук, пальцы которых напоминали о вреде переедания, была окутана нежным ароматом корицы. Тонким и прекрасным, разлетающимся прозрачными коричневатыми облачками по воздуху кабинета. Он подносил ладони к носу, вдыхал с усладой, покусывая палец, брал листы и читал их без настроения. Пальцы припадали к языку, откровенно скользили по нему, касаясь алых губ, капли оседали на мягкой подушечке, растягивались, пока страницы менялись. Читая, он кряхтел, а те же розой сложенные губы в усмешке поднимались кверху. Морщины на широком лбу тянулись, он взялся за письмо. Ручка изящно ходит по бумаге, в глазах к небу вздымается призрачная струйка пара от запеченной в остром соусе курицы. Это именно тот его любимый соус, который жена делает по выходным, по дням по сути праздничным. Определить настроение этой во всём послушной женщины всегда возможно по тому, что на столе. И этот соус никогда не обманул бы. Всего есть четыре его любимых соуса. Первый – тот, что острый, второй для хорошего парного куска мяса, третий он бы употребил со стаканом молока, четвертый для десерта. На столе фарфоровое блюдо с мясом. Рядом кружка молока, недалеко кекс с изюмом. Сперва легонько надрезаешь мясо, чтобы из него лилось. Чтобы жирок лоснился, накатывал лужицами, в которые можно макать теплый из печи свежий хлеб. Следует присмотреться к этому куску. Волокна прожарены отлично, даже чудно. Кровь свернулась. Аромат! Каков он, а! Он забегает в ноздри, летит по телу со скоростью навязчивой годами мысли, он пробирается настырно в душу и ласкает её наслаждено. Какое прекрасное мясо! Хлеб свеж. Не просто свеж, но его действительно тяжело удержать в руках от этой чудной теплоты. В печи спечен, великолепен! Стакан опрокидывается – втекает амброзия, взращенная в лугах нетронутых, наверное, даже взглядом человека скверного и вечно всё портящего. Пресыщение одолевает нужду. Благость. Чудная, великая благость!». Я встряхиваю головой и бью себя в виски. Сажусь у старого окна, облокотившись и так сижу под неугомонное нытье нутра. Позор, я думаю. Может он просто критикан? И всё сводится к тому, что все всё знают, а я, конечно, нет. Читает-то он сколько? Бесконечно много, верно. Изо дня в день, месяц за месяцем и годами. Ест свою курицу, читает рукописи дураков, смеется и отсылает. А мне бы просто напечатать эту дурацкую, по-видимому, книгу. Я желал бы идти по центральному кварталу, смотреть на витрины книжных магазинов и видеть там себя. Тот свой непонятый мирок, что вышел из-под неопытного пера. Конечно! Видел всё, что можно. Прочитал всё! Всё! Он здесь самый умный и главный, посмотрите! Хмурится, раскладывает по полочкам, видит сквозь, конечно! Мне даже и не подобраться в старости седой к такому дару, самое дело. Одного лишь слова хватит для целой сенсации. Для заголовка или же течения мысли в среде интеллектуальной и ныне почтенной для узкого круга лиц. «Чушь». Сказано – и похоронено. «Шедевр». Напечатали, пожали руку. Почему же так? Губящая мысль нужда пожрала половину меня изнутри. Надоело. Встаю и знаю, что путь мой лежит в какое-нибудь кафе. Он, конечно же, туда лежит, но есть и большая нужда. Им что-то не понравилось. Я должен всё исправить. Переписать. Найти эти глупые недочеты, переделать! Стоит перечитать, осмыслить, точно! Какую бредятину я им подсунул, правда! Ха! Смех трясет, берусь за больной живот и чувствую, что вот-вот умру. В груди болит, голова закружилась, а я смеюсь наперекор всему. Ну и глупый ты, писака! Выдумал ты дрянь, скажу тебе как есть. Поверь! Выдавил из себя, в сущности, самую грязь, и что же ты сделал? Какое применение нашел этому шлаку? Вымазал страницы и, внимание отправил! Закинул смешные листы в ящик, думая, что случай вдруг поможет. Ха! Не дрянь ли, а? Конечно! Стоит, непременно стоит всё исправить. «Опять та же ошибка», говорит мне голос. «Опять ты спотыкаешься!». А может! Пускай так, я всё исправлю. Где же рукопись? Раздался гулкий стук. Я подхожу к двери, немного неуклюже. Открываю, на полу лежит пакет, завязанный тряпичной нитью. Заглядываю с интересом – там она и лежит. Чудно! Сначала высовываю голову, полюбопытствовать. Немного, с шалостью почти что детской. Посмотрел в один конец, в другой. Тяну одну из ног и опускаю на пол коридора. Замер. Вслушиваюсь. Пока что тишина. Никто не смотрит даже. Что ж… Медленно-медленно тяну вторую, так же опускаю и стою уже в тени. Дверь я внимательно закрыл, бумаги под рукой. Боюсь подвохи, помню, как меня встречали прошлой ночью, поэтому иду степенно, озираясь, всматриваясь в сухие двери все в пыли, смотрю я вниз, вдруг там нога. Шагаю раз. Шагаю два. Раз и два. Раз и два. Ступня усидчиво ложится на пол, поднимает затхлый воздух с пылью и выталкивает его в сторону. Он никому не нужен. Мой шаг прекрасен, да и к тому же невыносимо живописен. Прогулка занятого вора, который думает о чем-то важном, но, не теряя хватки, точно подсознательно навострил он уши и сливается с подругой тенью, рука об руку идя с ней и шепчась. Живописно, истинно. Вполне себе назвал бы так картину. Вышел бы шедевр! Я так крадусь смешно, на самом деле. Иду и выпучиваю красные глаза. Всё хочется смеяться, не могу я с этим совладать! Хи-хи! Ха-ха! Опять у лампы вдруг остановился. И хи-хи. «Да что же ты делаешь!?» Немного ускоряю шаг, и в спину кто-то смотрит. Коридор велик. Темный. Обволакивающий страхом. Идти мне долго. Бегом не добежать и за минуту до конца спасительного. Пройду ещё два шага и не могу терпеть – смотрю назад. Там никого. Я прижимаю желтые листы поближе и покрепче, ускоряю шаг. Смотрят. Вращаюсь – никого. Шаг сделал, обернулся – никого. Глядит сам коридор. Вдруг слышу шаг я за спиной. Уже не только взгляд! Я ускоряюсь, в панике трясутся ноги. Шаг громче, громче! Да кто ты!? Кричу я в коридор – там пустота. Стою где-то посередине, отдыхаю. Звук испуганного вздоха вдруг обрывает тихий одиночный топот где-то далеко в тени. Бежать! Я в ужасе несусь по коридору, а за спиной какой-то монстр всё пытается догнать. Стремительно, я не спасусь! Впечатываюсь в дверь, вываливаясь вместе с тем наружу. Бумаги вроде спас. Лежу на голой земле. Лежал бы ещё уйму времени, не будь она холодной. У носа вырастает что-то чувственно прекрасное. Сцена, фигура, от которой ударяться в слёзы сложности не составляет. Передо мной стоял цветок. В земле черной и голой. В протоптанной давно тропе растет зеленый маленький цветочек. Никто его не победил. Не сломил и не убил. Я его глажу. Растет он прямо на дороге! У него красивые листки. Сам цветок ещё не распустился. Запах завлекает разум. Я подползаю ближе и жадно дергаю зубами один из листков. Разжевываю, давлюсь слюнями. Кусаю ещё раз. Лишил его конечностей. Срываю стебель и проглатываю остатки. Они уходят внутрь, а на земле осталось ничего живого. Чудно. Кладу я голову на землю эту пустейшую, и слабость бьет внутри. На миг представил, что парализован. Двигать конечностями, это такая забава, однако. Как же я так могу? Захотел, рука согнулась, сжала вдруг черный песок земли и тут же опустила. А я-то сам внутри. За пеленой стеклянных глаз. Я там. Сижу как в клетке. Управляю исполином. Выбираться мне не надо – нужно править. Я так мал. Размером со стебелек, внезапно съеденный. А если подобраться к крупинкам земли ближе, поднести её к зрачку – то я уже, как и она. Невероятно… Затылок окатило жаром, что капли побежали. Не может быть того. Голову вверх поднял, лучик светлый, ослепительный и злой глядит мне в глаз. Сейчас же день… Я вдруг сжимаю свои руки добела иссохшие и будто бы совсем не молодые. Рукопись я спас, отлично. Мне же нельзя при дне… Меня увидят! Я не должен, н-е-е-т, не должен! Как же спастись? Бросаю взгляд налево, там дома, направо почти то же. Где-то невдалеке гремела оживленная площадь. Там и парк почти что рядом. Небо голубое, отражается в моих глазах, и вот они уже не красные. Существенный интерес, неприличный, по сути. Нельзя им быть такими. Красные они, не голубые. Руку двигаю к лицу и закрываюсь от лучей. Я спрячусь. Начинаю в спешке ползти по земле, загребая камни, пыль и грязь. У носа бегают букашки, где-то редкая трава щекочет кожу. Я так ползу долго и долго. Никто не узнает, меня не заметят! Проползаю много метров, озираюсь – оставил длинный след. Гм… С этим стоило бы что-то сделать, но какая же печаль, что мне так всё равно. Ползу я дальше. Вдруг слышу недовольное такое «кхе». После него, конечно замираю. Лежу, накрыв голову руками, лицо же спрятав в траву. Здесь муравьи. Бегают по щекам, раздражают. Я вожу глазами из стороны в сторону и поднимаю взгляд опять – там дом. Высокий, я бы не сказал, но и не низкий точно. На решетчатом балконе стоит старуха и словно смотрит на меня. Я даже не пойму. На щеке уродливая бородавка. С волосками, жирная. В этой бородавке я бы описал всю мерзость человечества. Нет ничего, что было бы противней этой жирной, гадкой бородавки. Она должно быть уничтожила старуху изнутри, и на балконе вижу я не тело, но засохшую давно скорлупку. А бородавка ныне переняла её душу и смотрела на меня она, но не старуха. Старуха умерла, конечно. Когда я копошился в муравейнике усталым своим ликом, это она кряхтела и судила меня взглядом. Грязь и ужас. Пресловутая мерзость. Бородавка вдруг зашевелилась. Я ошарашено гляжу. Она раскрыла маленькие крылышки, лапками почесала хоботок и полетела. Я подползаю к тротуару, силы оставляют меня. Падаю. Глаза рябят, руки трясутся от усталости. Колени заболели, стерлись. Мне не хватает сил подняться. Лежу, упершись исхудавшей стороной лица, хотя они обе такие, в половину планеты нашей. И кажется, что начинаю слышать музыку ожившего города. Ноги-ноги. Ходят, бегают, кружат. Чем-то заняты, вот уж кому явно до меня нет дела. По дороге, у которой я обмяк, может пойти свора учеников, и никто меня не заметит. Какое счастье! Сияющее великолепие эта немая невидимость. Я на что-то способен. Я сросся с травой, стал частью её недвижимого мира. Не нужен ветерок, чтобы я колебался, стукаясь усталой головой о зеленых собратьев. Я могу сам. Я, в целом, человек достаточно понятливый и многое сделаю без всяких там инструкций. Кожа лица немеет, начинает медленно мертветь. Конечности ослабли бесконечно. Я вдыхаю утреннюю пыль, запах которой не похож на ту, что в ночи. Звуки теряются на фоне сумасшедших мыслей, а темнота уютно наплывает. Я расслабляюсь всё сильней и слышу шелест запрятанной бумаги. «Эх!». Приходится искать небесных сил, чтобы двигаться дальше. Сначала, встряхну головой, потом усиленно вдохну, задрав нос к небу – срываюсь на чих. Маленький я, командующий полуживой развалиной из глубины черепной коробки, вздымает руки и кричит, что нужно взяться за дело. Он зазывает одну группку неосязаемых человечков, пискляво приказывает, чтобы они все дружно схватились за канат и потянули ногу. Они лишь жмут плечами и выполняют сказанное. Другой группке откомандовал вторую ногу. Всё живей он зазывал, а человечки подчинялись. Тянули ноги-руки за канаты, я слышал, как мотор внутри кричит от навалившейся тоски, тело поднимается. Выровнялся. Чуть не свалился в ту же бездну, когда поток крови ударил в шею, защемило грудь. М-да… Я смотрю на свои худые руки и понимаю, что скоро умру. Недалеко шумит та площадь многолюдная, живая. Что ж. Надо бы найти местечко, где мысль моя строгая отпустит бренное и примет вдохновение в свои объятия. Бреду на площадь, изредка пошатываясь, ведь мне так плохо. Уже подхожу и всё шумнее. Люди носятся повсюду. Пред глазами пелена и крапинки людских фигур. Все что-то говорят друг другу, может, даже мне. Но я один здесь, нет мне друга среди вас, людишки. Злостно тошнит. Люди кружат хороводом, хватаюсь за живот. Едва не упал. Вышел на площадь, гляжу по сторонам, в сущности, удивленно. Мир этот совсем другой. Далекий от моих худых коленей, вдобавок испачканных в пыли и стертых острыми камнями. Далекий от моих мертвецких рук и впалых ребер. От костлявых пальцев. Я по-настоящему здесь одинок. Все ходят-ходят, толстые мужчины исподлобья на меня глядят, не любят совершенно. А дамы стараются не замечать такое мерзкое пятно. Да и дел у них в достатке, чтобы не придавать значение человеку-растению. В центре площади стояла медная скульптура – наш герой-освободитель, основатель города. Огромный и тёмный он поднимает грозную свою руку в перчатке с мечом и указывает на Юг. Я смотрю туда – но там дома. На голове треуголка. Исполинские ноги покрыты сапогами. Какие красивые сапоги и совсем не дырявые. Мне бы один… В таком я мог бы спать, залез бы я в него и всюду носил, как маленький свой домик. Если вдруг пойдут скорченные толпы – я спрячусь и не вылезу. Если непогода – тоже. Но мне был важен дождь. Какой чудный сапог, самое дело! Я ползал бы руками, и, быть может, отрастил себе ещё бы две, чтоб было легче. Дождь заморосит спасительно, я выберусь и высуну язык язвительно, с любовью к небу. Тьмы станет меньше, голова очистится от нетерпимых мыслей. Я заползал бы в помойные ямы в пригороде и питался б досыта. С таким великим сапогом мне и не надо даже ручки, чтоб подписать договор о смерти для нужды. Я мог бы ползать по песку недалекого берега и пить морскую воду, купая своё тело. А пальцы худосочные срослись бы в клешни. Клешнями легче подбирать тот мусор, что выносит к берегу по вечерам. Забавный случай мог бы приключиться: каким-нибудь неизвестным вечером три взрослых человека, допустим, рыбака заметили тянущийся подолгу след на смоченном песке берега. Они, конечно же, заинтересовались, затем пошли, увидели сапог. Подошли к нему и полились слезами. Из сапога торчало убогое нечто, с четырьмя руками вместо двух, с глазами черными, гигантскими, как блюда. С клешнями и усами мерзко шевелящимися. Рядом лежала палка, её взяли и ткнули в открытый глаз, который белым поблескивал. Глаз сжался. Спрятался в трубку на лице. Клешни прикрыли уродца. Глаз снова вырос. Чудовище съедало последнюю жестянку, изрыгало всё обратно, и принималось снова. Рыбаки разбежались, пока им вслед смотрели два черных, удивленных глаза. Я припадаю в жалости к основанию могучего памятника. Блестящий кафель, с почетными надписями на нём. Я поднимаю голову, рука гиганта вот-вот казнит. Взгляд его вечно силен и властен, я не нахожу слов для восхищения. Подползаю к носкам сапог и, плача, бью по ним, кричу: «Великий основатель! Помоги! Я не прошу ничего! Мне не нужно ничего! Я просто бы хотел хотя б немножечко поспать… Пожалуйста, Великий! Устреми свой меч на мрак усталости в моих челах, освободи от мук!». Тяну я руки тонкие к его ногам. Падаю на них и обнимаю. Целую медные концы сапог и плачу. Затем! Затем. Затем… Я понял, что всё время говорю стихами… Да что ж! Ударяюсь головой о сам сапог. Ещё раз. Получай! Берусь за голову и встряхиваю её сильно. Падаю на колени и бью себя в затылок. Кажется, я слишком необычен. Пора подыскать места для дальнейших сочинений. Ведь в чем моя задача? Исправить гнусный текст, что не понравился издательству. И, может быть, поесть. Прохожу у живой изгороди и дышать стало легче. Кусты обстрижены, забор покрашен. Недалеко я вижу скамью. Не пустую. На ней сидит какой-то человек. Подхожу ближе. И ближе. Силуэт обретает черты. Из пятна вырастает фигура. Почтенных лет мужчина в шляпе и черном костюме. Рядом скамеек больше нет. Сажусь я с ним. Вижу, что ему неловко, но вида он не подает. Заложил ногу на ногу, руки в замок и смотрит в сторону довольно отстраненно. Старается он изо всех сил не замечать меня, но будто смотрит искоса время от времени он в мою сторону. Хитро так. Считая, что его я не заметил. Так мы сидим, головы уставив далеко вперед, наслаждаясь раскосыми деревьями, их шелестом и плавными движениями в утреннем ветру. Слушаем пенье птиц и гогот оголтелых прохожих. Я иногда поглядываю в его сторону, смотрю открыто, точь заигрывая, почти смеюсь от этого, в надежде, что он обернется прямо на меня, уставившись безумно. Но он всё держится. Я даже двигаюсь немного ближе. Он этого не видит сразу. Подпрыгиваю на месте и наскоком надвигаюсь. Руки в замке зашевелились – перебирает пальцами. Большими. Водит туда-сюда, играет, подцепляет остальные и щиплет сам себя. Я отвернулся полностью в другую сторону и жду, когда неудержимое любопытство уже охватит его. Когда он повернется и уставится мне в зрячий затылок. Тут-то я его и поймаю. Однако, ничего не происходит. Я ощущаю взгляд и резко поворачиваюсь. Он также смотрит прямо, играя морщинистыми пальцами. Хотя немного изменился. Опустил голову, изучая эти самые пальцы. Он не уходит. Достал платок из нагрудного кармана и начал протирать очки, а сам глядит почти что исподлобья. Будь я пуглив, я понял бы, что мне не рады совершенно, но я буду стоять своё. Он протер круглые очки, надел и прокряхтел. Вздохнул и отвел голову в другую сторону, пощипывая пышные кусты, я двигаюсь всё ближе. Я опускаю взгляд и сам. Хочется посмеяться от глупой мысли, пришедшей мне на злобу дня. А что, если сказать ему какую-нибудь шалость? Просто в шутку. Что он сделает? Уйдет? Заговорит? Тяну кулак ко рту, чтобы прикрыть смешливый всхлип и думаю, что же сказать. Может сказать, что я его внебрачный сын? Что шли года, и вот мы встретились, папаша!? Ты помнишь, как бросил мать? А!? Ты помнишь, что ты с ней сделал, как оставил умирать в нищете и одиночестве в заброшенном доме и без поддержки!? Ты даже секунды не выделил на помощь! Ты не видел меня, правда? Ты думал, что мы давно умерли, и ничего от нас не осталось. Ничего не помешает тебе перебирать гадскими пальцами на лавке в центре парка, дышать приятным воздухом и мерять новые шляпы. Ты думал, что старые обиды ушли в века и полностью сгинули, но нет! Я здесь, папаша, я пришел посмотреть в твои поганые глаза! А ну-ка повернись! Чего же ты отводишь взгляд? Ты, видимо, не понимаешь, кто перед тобой, да, папаша? Ты и подумать не мог, что на старости лет к тебе выйдет обеленный скелет, по-видимому, чем-то на тебя похожий. Какая неудача! Ты был безжалостен, ты уничтожил жизнь молодой кухарки в том отеле, да что там, ты даже не знаешь её имени. Раз в месяц тебя такого немощного и с виду порядочного навещают уже давно выросшие дети, беседуют и во всем следуют твоим умным советам. Но знал ли ты, урод, что есть ещё на свете такая грязь как мы? А!? Что!? Не находишь слов, папаша? Не можешь выдержать корежащей правды, верно? Всё крутишься, вертишься, пересчитываешь однотонные листы кустов и думаешь, что выглядишь как старый почтенный человек, без гнусности в своей истории. И надо же, тут появляется какой-то человек, что вдруг узнал тебя, нашел и понял, кто ты есть на самом деле. Мы умирали с голоду! Я рос в гнетущем одиночестве и страхе сгинуть от усилившегося ветра, что убьет меня одним лишь холодом гонимого воздуха. Я так страдал… Я тебя ненавижу! Гм… Быть может, мне сказать, что я в него влюблен? Я знаю подноготную этого человека. Знаю скрытые на его взгляд страсти. Я знаю, что для него значит любовь. Ни жена, ни молодая особа, в сущности, не значат для него ничто, когда с ним вместе его любимый мальчик. Не совсем взрослый на вид, но понимающий многое и преданно любящий. Как ручной питомец, которого можно погладить по послушной головке и поцеловать в теплый живот. Я весь твой! Мы должны уединиться где-нибудь на чердаке, красиво всё обставить и говорить. Говорить о литературе и моде. Говорить о глупости женщин и философии. Твои будто бы дряхлые, наделе упругие руки будут гладить мои бедра. Я сниму с тебя черный костюм и оставлю лишь длинный галстук, обвязав его вокруг шеи. Мы будем слушать ароматы твоих сладостных духов, которые ты частенько крадешь у жены, а некоторые покупаешь сам. Тайно, постоянно прикрывая лицо, надвигая на него широкую шляпу. Осенью ты носишь шарф, который я буду носить и летом поверх голого тела. Мы наполним ванну горячей водой, ноздри будут ласкаемы благовониями и в сумеречной тишине, в свечах я поцелую тебя в первый раз, любимый мой мужчина… Вдруг дергаюсь со смеха и говорю того, чего не ждал, не мыслил: