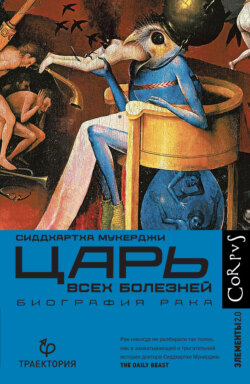Читать книгу Царь всех болезней. Биография рака - Сиддхартха Мукерджи - Страница 4
Часть I
“От черной желчи, застоявшейся”
“Нагноение крови”
ОглавлениеВсе лучшие врачи вселенной
К больному прибыли мгновенно
И, получив по сто монет,
Сказали, что надежды нет.
Хилэр Беллок[8]
Облегчение страданий при ней – насущная задача, а исцеление от нее – лишь пылкая надежда.
Уильям Касл о лейкемии, 1950 [9]
Декабрьским утром 1947 года в сырой бостонской лаборатории ученый по имени Сидней Фарбер с нетерпением ждал посылки из Нью-Йорка. “Лаборатория”, мало превосходящая размерами аптекарскую кладовую (метров шесть на четыре), была плохо вентилируемой каморкой, погребенной в полуподвале почти на самых задворках детской больницы. В сотне метров от Фарбера медленно пробуждались больничные палаты. Дети в белых пижамах беспокойно ворочались на маленьких железных койках. Доктора и медсестры деловито сновали между палатами, проверяя медкарты, раздавая распоряжения и лекарства. Лишь лаборатория Фарбера оставалась пустой и безжизненной – обиталище химикалий и склянок, соединенное с главным корпусом чередой промерзших коридоров. В воздухе каморки висело формалиновое зловоние. Сюда никогда не попадали пациенты – лишь их тела и ткани, доставленные по лабиринту переходов для вскрытия и исследования. Фарбер был патологом. В его обязанности входило исследовать образцы тканей, проводить вскрытия, определять клетки и диагностировать болезни – но не лечить пациентов.
Фарбер специализировался в педиатрической патологии, изучении детских болезней[10]. Он почти 20 лет провел в этом подземелье, одержимо глядя в микроскоп и карабкаясь по академической иерархической лестнице к посту главы отделения патологии. Но Фарбер все острее чувствовал, что патология разобщена с медициной, что эта дисциплина больше озабочена мертвыми, чем живыми. Фарбера начала раздражать роль стороннего наблюдателя болезней, который не лечит и даже не касается живых пациентов. Он устал от клеток и тканей и ощущал себя загнанным в ловушку, заформалиненным в собственном стеклянном шкафу.
И потому Фарбер решил кардинально поменять род занятий. Вместо того чтобы щуриться в окуляр микроскопа, разглядывая фиксированные образцы, он должен проникнуть в жизнь верхних больничных этажей, перепрыгнуть из отлично известного ему микроскопического мира в увеличенный реальный мир болезней и пациентов. Он постарается употребить знания, почерпнутые в исследованиях патологического материала, на изобретение новых терапевтических подходов. В посылке из Нью-Йорка было несколько пузырьков с желтым кристаллическим веществом под названием “аминоптерин”. Фарбер заказал его в свою бостонскую лабораторию в смутной надежде, что оно способно останавливать развитие леикемии у детей[11].
Спроси Фарбер любого педиатра из тех, что обходят палаты там, наверху, возможно ли создать лекарство от лейкемии, ему посоветовали бы даже не пытаться. Детские лейкозы уже более сотни лет удивляли, обескураживали и выводили из себя врачей. Их самым скрупулезным образом изучили, классифицировали, подклас-сифицировали и разделили на группы. В затхлых кожаных переплетах андерсоновской “Патологии” или бойцовской “Патологии внутренних болезней”, обосновавшихся на библиотечных полках клиники, страница за страницей испещрены изображениями лейкозных клеток и их подробнейшими таксономическими описаниями. Однако все эти познания лишь преумножили ощущение беспомощности медицины. Болезнь превратилась в безрезультатно зачаровывающий объект, в нечто вроде экспоната музея восковых фигур, изученное и отображенное в мельчайших подробностях, но не отмеченное никакими терапевтическими достижениями. “Это давало докторам массу поводов сцепиться на консилиумах, – вспоминал один онколог, – но ничуть не помогало их пациентам”[12]. Пациента с острым лейкозом привозили в больницу в вихре всеобщего возбуждения, обсуждали с профессорской помпезностью на обходах, а потом, как сухо отмечал медицинский журнал, “ставили диагноз, делали переливание крови – и отсылали домой умирать”[13].
Изучение лейкемии с самого начала погрязло в неразберихе и отчаянии. В марте 1845 года шотландский врач Джон Беннетт описал необычный случай: 28-летнего каменщика с загадочным набуханием селезенки. “Он смугл, – писал о своем пациенте Беннетт, – ив обычном состоянии здоров и воздержан; утверждает, что 20 месяцев назад у него появилась сильнейшая вялость, длящаяся и по сей день. В июне он заметил с левой стороны живота опухоль, которая постепенно росла, пока через четыре месяца ее размер не стабилизировался”[14].
Возможно, опухоль каменщика и достигла окончательного размера, но состояние его продолжало ухудшаться. Несколько следующих недель пациент Беннетта курсировал по спирали от симптома к симптому: лихорадка, кровотечения, внезапные приступы боли в животе, перерывы между которыми неумолимо сокращались. Скоро в подмышках, паху и на шее стали появляться новые опухоли, и каменщик оказался на пороге смерти. Его лечили пиявками и “чисткой” кишечника, но все без толку. Через несколько недель, на вскрытии, Беннетт уверился, что нашел причину, стоявшую за всеми этими симптомами. Кровь пациента была битком набита лейкоцитами. (Лейкоциты – основная составляющая гноя, рост их числа обычно сигнализирует об иммунном ответе на инфекцию, поэтому Беннетт предположил, что каменщик пал жертвой какой-то заразы.) “Этот случай кажется мне особенно ценным, – самоуверенно писал врач, – поскольку он может служить доказательством существования истинного гноя, образуемого повсеместно в сосудистой системе”[15].
Объяснение было бы совершенно удовлетворительным, найди Беннетт источник гноя. Во время посмертного вскрытия он тщательно проверил все тело, ткани и органы больного в надежде найти следы раны или абсцесса. Но никаких иных признаков инфекции так и не обнаружил. Судя по всему, кровь испортилась – нагноилась – сама по себе: спонтанно, так сказать, изошла истинным гноем. Беннетт назвал этот случай “нагноением крови” и на том успокоился.
Конечно же, Беннетт ошибался относительно спонтанного “нагноения” крови. Через четыре с лишним месяца после того, как он описал болезнь каменщика, 24-летний немецкий исследователь Рудольф Вирхов опубликовал статью о случае из собственной практики, поразительно похожем на историю пациента Беннетта[16]. Пациенткой Вирхова была кухарка чуть старше 50. Лейкоциты стремительно заполонили ее кровь, образовав густые скопления в селезенке. При вскрытии патологам вряд ли понадобился микроскоп, чтобы различить плавающий поверх красного толстый молочный слой лейкоцитов.
Вирхов, знавший о случае Беннетта, не верил его теории. Кровь, возражал он, ни с того ни с сего не станет ни во что превращаться. К тому же ему не давали покоя странности вроде колоссального увеличения селезенки и невозможности найти хоть какую-то рану или иной источник гноя. Вирхов задумался: а что, если кровь сама была ненормальной? Не имея возможности найти универсальное объяснение этому состоянию, но желая дать ему хоть какое-то название, он в конце концов остановился на weifies Blut, “белокровии”; то есть на буквальном описании увиденной им микроскопической картины – миллионов белых кровяных телец[17]. В 1874 году Вирхов сменил это название на более академичное – “лейкемия”, от греческого слова leukos, “белый”.
Переименование болезни из вычурного нагноения крови в невыразительное белокровие на первый взгляд не кажется проявлением научного гения, однако оно глубоко повлияло на понимание природы лейкемии. Любая болезнь на момент открытия лишь хрупкая идея, тепличный цветок, названия и классификации оказывают на нее непропорционально сильное влияние. (К примеру, спустя век с небольшим, в начале 1980-х, переименование связанного с гомосексуальностью иммунодефицита в синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) ознаменовало эпохальный сдвиг в понимании этого недуга[18].) Как и Беннетт, Вирхов не разгадал природу лейкемии, однако, в отличие от Беннетта, он и не претендовал на лавры разгадавшего. Его прозрение состояло исключительно в отрицании. Отбросив все предвзятые суждения и начав с чистого листа, он открыл дорогу новым идеям.
Скромность названия (и стоящее за ней скромное понимание природы болезни) олицетворяла свойственный Вирхову подход к медицине[19]. Молодой профессор Вюрцбургского университета не ограничился тем, что дал название лейкемии. Патолог по образованию, он начал проект, которому посвятил всю свою жизнь: описание болезней человека простым языком клеточной биологии.
Проект этот был порожден разочарованием. Вирхов вступил на медицинское поприще в начале 1840-х, когда почти все недуги относили на счет той или иной незримой силы: миазмов, неврозов, истерий, дурных телесных жидкостей. Загнанный в тупик невидимым, Вирхов с революционным пылом устремился к видимому: к изучению клеток под микроскопом. В 1838 году ботаник Маттиас Шлейден и физиолог Теодор Шванн, тоже работавшие в Германии, заявили, что все живые организмы построены из элементарных структурных единиц, называемых клетками. Вирхов заимствовал и развил эту идею, создав так называемую клеточную теорию биологии человека, в основу которой легли два постулата. Первый гласил, что человеческое тело, равно как и тела всех животных и растений, состоит из клеток. Второй – что клетки происходят только от других клеток, или, по его собственному выражению, omnis cellula е cellula[20].
Эти два простейших, на первый взгляд, принципа позволили Вирхову выдвинуть исключительно важные гипотезы о природе человеческого роста. Если клетки происходят только от других клеток, то организм может расти лишь двумя способами: либо за счет увеличения числа клеток, либо за счет увеличения их размеров. Вирхов назвал эти механизмы гиперплазией и гипертрофией. Гиперплазия обусловлена увеличением числа клеток. При гипертрофии же число клеток не меняется, зато увеличивается каждая клетка – как надуваемый воздушный шарик. Рост любой ткани человеческого тела можно описать моделью гипертрофии или гиперплазии. У взрослых животных жир и мышцы обычно растут за счет гипертрофии, в то время как печень, кровь, кишечник и кожа – за счет гиперплазии. Клетки порождают новые клетки, а те снова порождают клетки, omnis cellula е cellula е cellula.
Объяснение Вирхова звучало весьма убедительно и стало ключом к новому пониманию роста не только нормального, но и патологического, который точно так же может идти путем гиперплазии или гипертрофии. Сердечная мышца, вынужденная проталкивать кровь через перегороженное устье аорты, нередко адаптируется за счет увеличения каждой мышечной клетки, становится сильнее, но в итоге разрастается так, что сердце уже не может нормально функционировать – это типичный пример патологической гипертрофии.
Но Вирхов – и это важно для нашей истории – вскоре наткнулся на ярчайшее воплощение патологической гиперплазии – рак. Изучая злокачественные новообразования под микроскопом, Вирхов обнаружил бесконтрольное деление клеток – крайнюю форму гиперплазии. По мере погружения в архитектуру рака Вирхову все чаще казалось, что опухоли живут своей собственной жизнью, точно клетками овладевает новое, загадочное стремление размножаться. Это был не обычный рост, а образования совершенно нового типа, нового качества. Вирхов прозорливо, хоть и не понимая механизмов процесса, окрестил его неоплазией — нетипичным, необъяснимым, искаженным ростом, – и слово это пронесется через всю историю рака[21].
Ко времени смерти Вирхова в 1902 году из всех этих наблюдений постепенно сложилась новая теория рака. Рак считался болезнью патологической гиперплазии, во время которой клетки начинают самовольно, автономно делиться. Такое аномальное бесконтрольное клеточное деление порождает тканевые массы (опухоли), постепенно захватывающие органы и разрушающие нормальные ткани. Кроме того, эти опухоли способны распространяться по организму, формируя “отпочковывания” болезни – метастазы — в удаленных участках тела, таких как кости, мозг или легкие. Рак многолик: он является в форме лимфом, опухолей молочной железы, желудка, кожи, шейки матки и много чего другого. Но все эти болезни тесно связаны на клеточном уровне: при каждой из них клетки обретают одну и ту же характеристику – способность к неконтролируемому патологическому делению.
Вооруженные этим новым пониманием патологи, изучавшие лейкемию в конце 1880-х, возвращались к трудам Вирхова. Выходит, лейкемия вовсе не нагноение, а неоплазия крови. Первоначальное измышление Беннетта породило необозримый простор для фантазий ученых, которые искали (и исправно находили) самых разных невидимых паразитов, исторгаемых лейкозными клетками[22]. Но как только патологи перестали искать причину в инфекции и навели объективы на сам недуг, обнаружились очевиднейшие аналогии между лейкозными клетками и клетками иных форм рака. Лейкемия наконец открылась им как злокачественное размножение белых кровяных телец – как текучая, жидкая форма рака.
С этим судьбоносным наблюдением изучение лейкозов внезапно обрело ясность и стремительно рвануло вперед. К началу XX века стало очевидно, что болезнь приходит в нескольких формах. Она может быть затяжной и вялотекущей, медленно удушающей костный мозг и селезенку, как в первом описанном Вирховым случае, впоследствии названном хроническим лейкозом. Но может быть и совсем другой по характеру: стремительной и агрессивной, с приступами лихорадки, внезапными эпизодами кровотечений и ошеломляюще быстрым размножением клеток – как у пациента Беннетта.
У этой второй формы заболевания, названной острым лейкозом, выделили два подтипа – в зависимости от вида аномально размножающихся клеток. Нормальные лейкоциты крови делятся на две крупные группы: миелоидные клетки и лимфоидные клетки. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – это рак миелоидных клеток. Острый лимфобластный лейкоз (ОЛ Л) – рак незрелых лимфоидных клеток (рак более зрелых лимфоидных клеток называют лимфомой).
У детей чаще всего наблюдали ОЛ-лейкозы, почти всегда быстро приводившие к летальному исходу. В 1860 году ученик Вирхова, Михаэль Антон Бирмер, описал первый из известных науке случаев этого лейкоза у детей[23]. Мария Шпейер, энергичная и веселая пятилетняя дочь вюрцбургского плотника, впервые попала в поле зрения врачей, когда заснула в детсаду непробудным сном, а на ее коже проступили синяки. На следующее утро у нее появились жар и ригидность[24] шеи. Бирмера вызвали к ней на дом. Он взял у Марии кровь из вены и тут же при свечах рассмотрел мазок под микроскопом. В крови он обнаружил миллионы лейкозных клеток. Той ночью Мария спала беспокойно. На следующий день, после полудня, когда Бирмер возбужденно показывал коллегам образцы exquisite Fall von Leukamie (превосходного случая лейкоза), Марию вырвало алой кровью, и девочка впала в кому. Вечером Бирмер вернулся к пациентке, однако Мария уже несколько часов была мертва. Ее стремительная и беспощадная болезнь длилась от первых симптомов до постановки диагноза и смерти не более трех дней[25].
Хотя у Карлы лейкоз протекал далеко не так агрессивно, как у Марии Шпейер, он был удивительным сам по себе. У взрослых на микролитр крови в среднем приходится около 5 тысяч лейкоцитов, у Карлы же их оказалось 90 тысяч – почти в 20 раз больше нормы. Причем 95 % этих клеток были бластами — злокачественными лимфоидными клетками, производимыми с неимоверной скоростью, но неспособными вызревать в полноценные лимфоциты. При остром лимфобластном лейкозе, как и при некоторых других видах рака, перепроизводство раковых клеток сочетается с загадочным угнетением клеточного созревания. Таким образом, лимфоидные клетки образуются в страшном избытке, но, неспособные созреть, не могут исполнять свои обычные обязанности в борьбе с микробами. В иммунологическом смысле Карла страдала от нищеты при видимом изобилии.
Белые клетки крови образуются в костном мозге. Образец костного мозга Карлы, каким я увидел его под микроскопом после первой встречи с ней, был глубоко патологичен. При всей кажущейся аморфности костный мозг обладает высокоорганизованной структурой – по сути, это полноценный орган, который вырабатывает всю кровь у взрослых людей. В обычном случае полученный при биопсии образец костного мозга содержит фрагментарные костные перемычки с островками растущих клеток крови между ними – как бы ясли для нарождающейся крови. Организация костного мозга Карлы была полностью нарушена. Все пространство заняли слои злокачественных бластов, уничтожившие анатомическую архитектуру и не оставляющие места для производства нормальной крови.
Карла находилась на грани физиологической катастрофы. Количество эритроцитов упало так сильно, что кровь уже не могла полноценно обеспечивать организм кислородом (в ретроспективе стало ясно, что головные боли были первым признаком кислородной недостаточности). Тромбоцитов – клеток, ответственных за свертывание крови, – почти не осталось, и потому появлялись синяки.
Лечение Карлы требовало экстраординарного мастерства. Ей предстояла химиотерапия, которая должна будет убить лейкозные клетки, но заодно нанесет удар и по оставшимся нормальным клеткам крови. Чтобы сохранить жизнь Карле, необходимо было толкнуть ее еще глубже в бездну, через которую пролегал единственный спасительный путь.
Сидней Фарбер родился в Буффало, штат Нью-Йорк, в 1903 году – через год после того, как в Берлине скончался Вирхов. Отец Сиднея, Саймон Фарбер, когда-то был лодочником в Польше, но в конце XIX века эмигрировал в Америку и устроился в страховое агентство. Семья скромно жила на восточной окраине города, в сплоченной, замкнутой и зачастую экономически нестабильной еврейской общине, состоящей из лавочников, фабричных рабочих, бухгалтеров и уличных торговцев. Неустанно подталкиваемые к успеху, отпрыски Фарберов должны были соответствовать высочайшим образовательным стандартам. В личных комнатах говорили на идише, но в общих помещениях дозволялись только немецкий и английский. Фарбер-старший часто приносил домой учебники и раскладывал их на столе, чтобы каждый ребенок выбрал по книжке, хорошенько освоил и представил отцу подробный отчет о прочитанном.
Сидней, третий из 14 детей, преуспевал в этой обстановке высоких устремлений. В колледже он изучал биологию и философию и в 1923 году окончил Университет штата Нью-Йорк в Буффало, заработав на учебу игрой на скрипке в мюзик-холлах. Свободно владея немецким, он обучался медицине в Гейдельберге и Фрайбурге, а затем, добившись больших успехов в Германии, поступил на второй курс Гарвардской медицинской школы в Бостоне. (Окружной путь из Нью-Йорка в Бостон через Гейдельберг в те времена был обычным делом. В середине 1920-х еврейские студенты часто не могли попасть в американский медицинский вуз, зато преуспевали в каком-нибудь европейском, даже немецком, а потом возвращались доучиваться медицине на родине.) Попав-таки в Гарвард, Фарбер оставался там чужаком. Однокурсники считали его невыносимым зазнайкой, а он мучился от необходимости переучивать уже выученное. Он держался формально, даже манерно, был педантичен и властен, выглядел всегда аккуратно, “накрахмаленно”. Очень скоро его прозвали Сид-На-Все-Пуговицы, потому что на занятия он неизменно являлся в строгих костюмах.
В конце 1920-х Фарбер прошел продвинутый курс патологии и стал первым устроенным на полную ставку патологом Бостонской детской больницы[26]. Он опубликовал превосходное исследование по классификации детских опухолей и учебник “Посмертное обследование”, признанный классическим в этой области. К середине 1930-х выдающийся патологоанатом – “доктор мертвецов” – прочно обосновался на больничных задворках.
Однако Фарбера не отпускало желание лечить больных. Летом 1947 года в полуподвальной лаборатории его посетила поистине вдохновляющая идея: он решил сфокусироваться на одном из самых причудливых и безнадежных раков – на детской лейкемии. Чтобы понять рак в целом, рассуждал он, надо начинать с самого его дна, с “подвального” уровня сложности. У лейкемии при всех ее неприятных особенностях есть одно исключительное достоинство: ее можно измерять.
Наука начинается с подсчетов. Чтобы понять какой-либо феномен, ученый сперва должен описать его; а чтобы описать объективно, он должен его измерить. Если онкологию предстояло превратить в точную науку, рак нужно было научиться как-то обсчитывать – найти у него надежно и воспроизводимо измеряемые количественные характеристики.
Именно этой опцией лейкемия отличалась от подавляющего большинства других разновидностей рака. До появления компьютерной и магнитно-резонансной томографий (КТ и МРТ) нехирургически определить изменения размеров внутренней опухоли легких или молочной железы было почти невозможно: нельзя измерить то, чего не видишь. Но лейкемию, свободно дрейфующую по крови, можно было измерять легко и просто – по параметрам клеток крови: достаточно лишь рассмотреть образец крови или костного мозга под микроскопом.
Если лейкемию можно характеризовать количественно, рассуждал Фарбер, значит, эффективность любого вмешательства – например, введения в кровь химического вещества – можно оценить у живых пациентов. Сам Фарбер мог наблюдать, как растет или падает число тех или иных клеток крови, и судить по этим показателям об успехе или провале лекарства. Рак мог стать экспериментальным объектом для него.
Эта мысль заворожила Фарбера. В 1940-1950-е молодых биологов будоражила идея о возможности объяснить сложные феномены с помощью простых моделей. Они считали, что сложную конструкцию проще постичь, если начнешь воспроизводить ее с самых азов. Например, одноклеточные организмы вроде бактерий расскажут, как функционирует большое многоклеточное животное вроде человека. Как громко заявит в 1954 году французский биохимик Жак Моно, что справедливо для Е. coli (микроскопической кишечной бактерии), верно и для слона[27].
Для Фарбера эту биологическую парадигму олицетворяла лейкемия: он собирался переносить выводы, сделанные для этой относительно простой и нетипичной зверюги, на целый раковый бестиарий, многоликий и сложно устроенный. Бактерия должна была научить его размышлять о слонах. Со свойственной ему быстротой и импульсивностью мышления, почти инстинктивно Фарбер принял радикальное решение. В то декабрьское утро ему пришла посылка из Нью-Йорка. Открыв ее и вытаскивая стеклянные пузырьки с кристаллическим веществом, он вряд ли осознавал, что открывает совершенно новый способ мышления о раке.
8
Беллок X. Назидательные истории для детей / пер. Д.А. Налепиной, М. Фрейдкина. М.: Нигма, 2018. – Прим. ред.
9
Castle W. В. Advances in Knowledge concerning Diseases of the Blood, 1949-195011
The 1950 Year Book of Medicine: May 1949 – May 1950. Chicago: Year Book Publishers, 1950.
10
Craig J. Sidney Farber (1905–1975). Journal of Pediatrics. 1996; 128 (1): 160–162.
См. также: Looking Back: Sidney Farber and the First Remission of Acute Pediatric Leukemia. Children’s Hospital, Boston. 2010 (http://www.childrenshospital.org/ gallery/index.cfm? G=49&page=2).
11
Детали, касающиеся аминоптерина и его появления в лаборатории Фарбера, взяты из нескольких источников: Farber S., Cutler Е. С., Hawkins J. W. et al. The Action of Pteroylglutamic Conjugates on Man. Science. 1947; 106 (2764): 619–621; Gupta S. P. K. An Indian Scientist in America: The Story of Dr. Yell-apragada SubbaRow. Bulletin of the Indian Institute of History of Medicine (Hyderabad). 1976; 6 (2): 128–143 и моего интервью с Гуптой (2006).
12
Laszlo J. The Cure of Childhood Leukemia: Into the Age of Miracles. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1995.
13
Medical World News. 1966; November 11.
14
Bennett J. H. Case of Hypertrophy of the Spleen and Liver in Which Death Took Place from Suppuration of the Blood. Edinburgh Medical and Surgical Journal. 1845; 64: 413-423-
15
Хотя связь инфекций с микроорганизмами тогда еще не была открыта, связь между гноем – нагноением – и сепсисом, лихорадкой и смертью, частыми следствиями абсцесса или раны, была хорошо известна Беннетту (Bennett J. Н. Case of Hypertrophy of the Spleen).
16
Virchow R. L. K. Cellular Pathology: As Based upon Physiological and Pathological Histology I Chance E (trans.). London: John Churchill, 1860.
17
Grant С. J. Weisses Blut. Radiologic Technology. 2003; 73 (4): 373–376.
18
Идентификация вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) как возбудителя этой болезни и его стремительное распространение по земному шару быстро покончили с бытовавшим поначалу – и нашедшим благодатную почву в тогдашнем общественном сознании – предубеждением о “пристрастии” недуга к геям.
19
Virchow. British Medical Journal. 1921; 2 (3171): 573—574- См. также Virchow R. L. К. Cellular Pathology.
20
Каждая клетка от клетки (лат.). – Прим. ред.
21
Вирхов не сам придумал этот термин, хотя и предложил целостную характеристику неоплазии.
22
Bainbridge W. S. The Cancer Problem. New York: Macmillan Company, 1914.
23
Laszlo J. Cure of Childhood Leukemia.
24
Ригидность (физиол.) – неподатливость (ограниченная подвижность), обусловленная повышением тонуса той или иной группы мышц. Часто сопровождается чувством перенапряжения и болью. – Прим. ред.
25
Biermer М. A. Ein Fall von Leukamie, 1861 (архивы Вирхова); материал цитируется в Suchannek Н. A Case of Leukaemia with Noteworthy Changes of the Nasal Mucous Membrane. Archives of Otology 1890; 19: 255–269.
26
Miller D. R. A Tribute to Sidney Farber – the Father of Modern Chemotherapy.
British Journal of Haematology. 2006; 134: 4, 20–26.
27
Это высказывание не раз звучало в истории молекулярной биологии и приписывалось – вероятно, ошибочно – Моно, однако происхождение цитаты точно не установлено. См., например, Friedmann Н. С. From Butyribacte-rium to F. coli: An Fssay on Unity in Biochemistry. Perspectives in Biology and Medicine. 2004; 47 (1): 47–66.