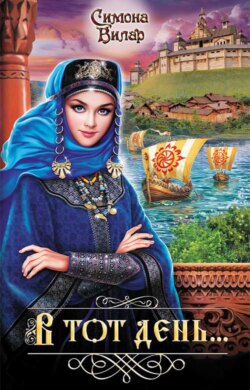Читать книгу В тот день… - Симона Вилар - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
ОглавлениеИ началась подготовка. По всему Киеву, по теремам Горы, по застроенному тесно Подолу, по заселенным возвышенностям Хоревицы и Щекавицы, по урочищам Гончары и Кожемяки, даже по Оболони низинной[33] – везде ходили люди Владимира, кто с дружинниками, кто со священниками, кто просто с толпой нарядных княжеских ближников. И не просто ходили, а угощали медами да винами заморскими, не забывая при этом нарядами похваляться, ссылаясь на свое везение, какое от милости доброго Христа получили. От него, Всевышнего, их благосостояние и удача – так говорили. А кто сомневался, то пояснять начинали, убеждать, а когда и спорить о новой вере.
Сновали в толпе и другие люди от князя, неприметные, нешумливые, – эти просто слушали, что народ болтает, особенно там, где священники растолковывали собравшимся суть постулатов христианских. К каждому из священников были приставлены толмачи, чтобы переводить сказанное. Кто выслушивал внимательно и с интересом – новые сказы всегда людям любы, – а кто и возмущаться начинал. Дескать, какой такой чужой Бог надобен, когда и своих хватает? Ведь исстари так жили.
– Но повалили же ваших богов-истуканов, – возражали княжьи засланцы. – Все видели, как самого Перуна опрокинули. И что? Не побил молниями Перун Киев-град, не случилось никакого ненастья и беды.
– Ну, это еще посмотрим. Помстится еще за себя Перун Громовержец!
– А разве вы ждете этой мести? Похоже, вам хоть бéды да нелады, только бы на своем настоять. А вот истинный Бог учит: прощайте врагов своих. Живите в ладу. А где лад – там и клад. Хорошо заживем, когда смиритесь, и Создатель всего сущего пошлет вам благо и мир.
Чужой Бог казался киевлянам уж слишком милосердным, но при этом – хитрым. Судачили, что, мол, от добра добра не ищут. Спорить начинали. Поэтому люди князя, слушавшие подобные рассуждения, отмечали самых упорных, к ним особое внимание было. Обижать не обижали, но уговаривали и прельщали постоянно. Если же чересчур непримиримые попадались или кто-либо злобу проявлял, то всегда находился повод услать такого, а то и намекнуть… припугнуть.
Вечером докладывали: к вере христианской все больше молодежь склоняется. Молодым-то всегда новое любо и интересно, а за молодежью будущее. Поэтому особенно щедро угощали таких, нахваливали и заявляли, что именно им, молодым да рьяным, грядущее строить, да еще с милостью от князя. «А как же старые наши игры, праздники?» – интересовались парни и девушки. Всем им было любо на Купалу жечь костры и купаться в потемках, на Масленицу печь блины и кататься на санях, в темные ночи Корочуна[34] рядиться в личины духов и требовать угощение по дворам. На это отвечали: «Старые обряды никто не отменяет, будет вам веселье, но с условием, если потом к молитве прибегнете. Так что гуляйте и веселитесь сколько душе угодно. Главное, чтобы старые верования близко к сердцу не принимали».
Но если молодых предстоящие перемены привлекали и вдохновляли, то старики упорно держались за старые верования. Сложно им было, пройдя свой век, сроднившись с привычными обычаями, вдруг столь круто менять уклад жизни. Вот и злились старики, спорили. Однако и они от угощения с княжеского двора не отказывались. Владимир Красно Солнышко – щедрый князь, так почему бы и не угоститься? А вот в кого верить они будут… Это еще как поглядеть.
Везде только и разговоров было, что о новой вере, – и в мастерских, и в теремах, и в лавках, и в лачугах. И все больше ширилась по граду весть, что в определенный день их всех созовут к речке Почайне, какая текла к Днепру по застроенному избами Подолу к гавани Притыке. Готовясь к предстоящему, все суда из гавани отвели, и теперь они стояли рядами вдоль островов и берегов Днепра, упершись птицеобразной грудью в песок побережья. А все для того, чтобы установить на берегу Почайны множество помостов, на которых будут стоять священники и вершить обряд. На возвышенностях же соберутся уже крещеные градцы, дабы наблюдать, как остальной народ обретет истинную веру. Сообщалось, что надо будет войти в воду по грудь, окропиться и крестное знамение совершить. «Какое еще знамение?» – спрашивали несведущие. Им показывали, и многие повторяли, коснувшись сперва лба, потом груди, а затем плеч. «Всего-то и делов? – удивлялись. – Ну а потом к столам пиршественным позовут?» – «Всенепременно», – заверяли их. Как тут было не согласиться? Ведь в Киеве будет такое гуляние, какого еще отродясь не было!
При этом же сообщалось, что, если кто заартачится и не выйдет в назначенное время к Почайне, тот на милость князя пусть не надеется, таких и выгнать из града могут. Пусть тогда разыскивают по лесам и болотам старые капища, где волхвы живут, ожидая новых подношений, чтобы, как и ранее, дурить люд своими гаданиями и предсказаниями пустыми.
«Если предсказания ведунов пустые, отчего вы их так опасаетесь? – спрашивали. – Отчего ни одного служителя старых богов во граде не видно?» – «Так не любы они князю, – отвечали. – И если не хотите судьбу их повторить, идите к Почайне, когда бирючи[35] огласят о крещении. Всяк туда пойдет – и бояре нарочитые, и торговцы именитые, и ремесленный люд, какому выгодно и в дальнейшем на Подоле дела свои продолжать, жить и трудиться в Киеве, да еще и с благословения сильного единого Бога. Один Бог – это как один князь. Всякого защитит, всякого выслушает. Вспомните, как раньше князья воевали друг с другом, а простому люду от того было одно разорение и горе. Так и боги ваши каждый себе требы желал, подарки и подношения требовал, а то и человеческую жизнь. Сейчас же милость Всевышнего на каждого распространится, кто защиту от святого креста получит. А крестики вам подарят, едва из воды крестильной выходить станете. Всякий, кто на себя его наденет, получит оберег такой силы, что никакие старые боги и духи ему уже нипочем станут. Так что и душу свою спасете, и после смерти отправитесь в райские сады небесные, жить там вечно будете новой радостной жизнью».
Что значит жить вечно, люди не понимали. Но сама мысль о дивном будущем после ухода за кромку тешила и была интересна. Однако смущало иное: если под нового Бога идти, то как же пращуры, ушедшие раньше некрещеными? Неужто их теперь и блазнями[36] прозрачными не удастся встретить?
«Можно подумать, что вы раньше с уже ушедшими пращурами виделись после их ухода, – отвечали сомневающимся. – А так каждый крещеный на том свете под защитой самого Создателя будет, и кто знает… Он ведь добр, он всякого услышать может».
И опять пересуды шли по граду, страхами люди делились, но и надеждами.
А потом настал тот день.
Казалось, само небо желало, чтобы все прошло как можно лучше: солнечно и ясно было под синим небом, но не жарко, не душно, тепло. Весь мир сиял ясным светом, музыка играла, гусляры и дудошники устроились на помосте, а там подошли нарядные по такому случаю те из киевлян, кто уже крест на себе носил. Вскоре загудела сурьма[37] и к берегам Почайны с Горы сошли сам князь со своею царицей. На голове Владимира сияла диадема, увенчанная сверху сверкающим алмазным крестом. Такой же крест был и у Анны Византийской. Они ступили на высокий помост, а отроки в белых одеяниях держали над ними навес, украшенный пышными перьями диковинных птиц. Слышалось пение торжественное, священники кадили ладаном.
Анастас, епископ киевский, Иаков Корсуньский и множество иных священников стояли в сияющих облачениях у самой воды и читали положенные молитвы. Киевляне же собирались шеренгами, поглядывали друг на друга – все в новых белых рубахах, босые, чтобы ступить в воду. И много их было – и с подольских улиц шли, и с Горы по спускам шествовали.
Кто-то указал на боярина Блуда – этот всю семью привел, а еще воинов из своей дружины, челядь домашнюю, рабов. Рабам обещали свободу после крещения, говорили, что никто их после принятия новой веры продавать и менять больше не станет. А там и купец Дольма Колояров сын со своими показался. Люди на него смотрели, перешептывались: мол, чего это он тоже к реке идет, ведь крещеный уже?
Дольма шел, точно плыл, – степенно, неторопливо, важно. Кто-то сказал, что этот киевлянин похож на те изображения на иконах, какие попы людям показывали: худощавое лицо, длинные гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор, небольшая бородка, брови темные над ясными глазами. В белой рубахе он смотрелся проще, чем когда разгуливал по граду в пестром корзно и обшитой мехом шелковой шапочке. Купец Дольма привел с собой всю родню некрещеную – и жену Мирину, красавицу писаную, длинные косы которой ниспадали почти до колен; и младшего брата Радомила, или Радко, как того в Киеве называли. Обычно это был шумный, дерзкий парень, известный на всю округу своими проделками, однако сейчас он, как никогда прежде, был серьезен и сосредоточен. А затем все обратили взоры на старшего из их рода, покалеченного дружинника Вышебора, угрюмого и замкнутого, которого катили в кресле на колесах. Он и сейчас смотрел исподлобья, но не перечил, когда Дольма оглянулся и что-то сказал ему, повелев при этом двигавшему кресло холопу подкатить увечного брата к самой воде. Слуг с ним явилось немало – богатый двор у Дольмы на горе Хоревице, да и на Подоле немало людей служат в его лавках. И всех он привел с собой к Почайне.
Собравшиеся киевляне расположились рядами вдоль берега, переминались с ноги на ногу и озирались, будто ждали приказа. Дольма повернулся туда, где выше по течению стоял воевода Блуд с родней. Кивнул тому, словно подбадривая, и сам шагнул к воде.
– Дольма сын Колояров плохого киевлянам не посоветует, – слышалось в толпе.
И когда соляной купец ступил в речку Почайну, толпа колыхнулась, люди стали следовать его примеру. Тут уж и Блуд засуетился, схватил двоих стоявших по бокам сыновей, крикнул невесткам, державшим на руках младенцев, и сам почти бегом кинулся в реку. Статный и тучный, он ворвался в воду, словно могучий степной тур, подняв брызги и едва волну не пустив. Как будто хотел показать, что его дело первое и не Дольме с Хоревицы ему пример являть.
В толпе послышались смешки, но люди уже входили гурьбой в Почайну. У толпы свои правила, и уж если люди стали веселиться, то и самые хмурые в итоге заулыбались. Экое творится на белом свете! Всем народом купаться в теплый день приходится!
Дольма же широко перекрестился, уже стоя по грудь в воде. Поднял руки, призывая своих ближних, проследил, чтобы и увечного брата завезли в воду, улыбнулся. Его родня окружила, а следом и другие пошли. Шумно было, весело. Но в то же время торжественно от пения псалмов, от важности на лицах князя и Анны его, от вскинутых в благословляющем жесте рук священнослужителей. Кто-то успевал прикоснуться губами к крестам в руках попов, а кто и так вошел; плескались, еще не зная, когда выходить. Вся Почайна колыхалась от движения, светло было от множества белых одежд.
Стоя на возвышении, князь Владимир с улыбкой наблюдал за происходящим. При этом он отметил, как величаво и милостиво собрал вокруг себя людей Дольма, как торопливо вел себя Блуд: завистлив воевода, не хотел Дольме первенство уступать. Но главное, что эти двое – Блуд и Дольма – явили пример, не случилось толкотни, люди веселы, улыбаются, плещутся в воде. Где-то ребенок заплакал, но в основном на лицах людей улыбки.
– Слава Господу! – с облегчением перекрестился князь.
Кажись, все идет как надо. Даже стоявшим поодаль стражникам с кнутами и дубинками приходилось только смотреть. Тоже стояли и улыбались. Ладно-то как!
И тут, когда князь уже готов был расслабиться, что-то произошло.
Сперва было непонятно, кто начал кричать. Там, где в окружении родни и плескавшихся в воде киевлян находился Дольма, началась какая-то толкотня, послышались крики, бабий визг, а потом вдруг народ кинулся из реки обратно к берегу, истошно вопя.
– Убили! – кричали люди. – Убили Дольму нашего!
Владимир едва сам не соскочил с помоста. Но натолкнулся на быстрый взгляд Добрыни и замер на месте. А тот уже подсуетился: его дружинники вмиг оказались в толпе, сдержали напор, а там по знаку и музыка громче грянула. И видел Владимир со своего места, что там, где Блуд и находившиеся выше него по берегу киевляне все еще спокойно стояли в реке, обряд вроде продолжался, а там, где Дольма… Тело соляного купца плавало на поверхности лицом вниз, кто-то из родичей подхватил его, пытался поднять. И было видно, как алая кровь заливает белую рубаху.
– Перун покарал христианина! – уже заверещал кто-то.
Толпа качнулась. Удержат ли ее стражники?
Какой-то смуглый богатырь уже тащил тело Дольмы к берегу, народ шарахался, а смуглый выл, рычал горестно. На берегу рухнул на тело купца, но кто-то уже накинулся на него, стали избивать. Этот ли убил? Вон как пинают, даже длиннокосая жена Дольмы замахнулась. Затем подоспели дружинники, растащили всех, кто толпился на берегу, удерживали, стараясь успокоить. А народ вокруг то шарахался, то, наоборот, пытался насесть да поглядеть. Поди угомони их теперь.
И тут – Владимир даже не успел заметить – его царица Анна спешно сошла с помоста и двинулась туда, где происходило столпотворение. Ее расшитая золотом алая накидка и сверкающий венец ярко выделялись среди толпы в белом – словно райская пестрая птица попала в стаю лебедей. И люди, как бы ни были взволнованы и потрясены, расступились, дали ей пройти, стали успокаиваться.
– Оберегайте царицу! – приказал Владимир своим ближникам, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться в толпу. Благо, что стоявший за ним евнух Евстахий неожиданно сильно схватил князя.
– На тебя весь люд смотрит, архонт! Не поддавайся панике. Остальное в руках Господа!
Вот князь и смотрел. Наблюдал за тем, как его порфирогенита прошла туда, где уже в стороне положили тело купца Дольмы. Анна опустилась на колени и, сбросив свою роскошную накидку, накрыла его тело. Сама же осталась коленопреклоненной, сложила в молитве руки. И люди смотрели, успокаивались, указывая на то, что сама супруга их правителя отдает почет и дань погибшему христианину.
– Своего оплакивает, – произнес кто-то.
– Для такой, как она, все христиане свои.
А рядом кто-то сказал, что, мол, идти надо в реку, вон иные не испугались же.
И все продолжилось.
Дольму вскоре унесли от берега за частоколы ближайших усадеб Подола, так что подходившие со стороны новые градцы даже не ведали, что тут случилось, ибо по-прежнему играла музыка, пели священники, выходящие из воды крещеные в мокрых рубахах смеялись и обнимались, поздравляя один другого, хотя сами еще не совсем понимали с чем. Вокруг царило праздничное настроение, люди после омовения шли туда, где чашники князя угощали их сладким вином из ковшей, медовухой поили – тут кому что больше по душе.
– Каждый крещеный иди на пир к князю на широкий двор! – выкрикивали бирючи. – Князь Красно Солнышко всякому собрату по вере будет рад.
И опять плеск в воде, белые одежды, улыбающиеся лица.
Владимир перевел дыхание, поднял руки, приветствуя новообращенных. Иных и окликал по имени, кого узнал. Но осекся, когда увидел вернувшуюся к нему на помост Анну. Он и не ожидал, что у его райской птички может быть такое гневное, непримиримое выражение лица. На щеках ни кровинки, только темные глаза полыхают под сурово сведенными бровями. И голос тверд, как сталь булатная:
– Разберись в этом, муж мой. Сам дьявол тут намутил, чтобы не пустить славян к Богу! Пусть вызнают да накажут жестко и прилюдно того, кто был рукой дьявола.
Ну, дьявол, не дьявол, а кто-то из местных татей[38] уж точно. Об этом и думал Владимир, когда уже вечером, покинув шумное застолье, осмотрел острый шип, какой вынули из гортани Дольмы. Тяжелая игрушка, величиной с ладонь, острая, как жало, на одном конце, на другом округлая, чтобы легче ухватить. Метнуть такой… Не хуже броска ножа получится. А еще шип этот вполне в рукаве можно упрятать. Рубахи крестильные все с длинными рукавами, так что можно схоронить.
– И кто такие кует? – поинтересовался Владимир у Добрыни.
Был он от стола сытый, довольный, диадему давно снял, волосы растрепаны, и на лице румянец после выпитого. Однако голова работала ясно, потому сразу и задал правильный вопрос. Но только ответ на него…
– Да кто угодно, – развел руками Добрыня. – Такие из остатков болотной руды любой кузнец может выковать на продажу, чтобы добро не пропадало. А там и какой-нибудь покупатель сыщется – за такое не сильно дорого берут. Я уже послал людей и к кузнецу Вавиле, и к Гостеславу, и к хазарину Язиду. Мало, что ли, умельцев на Подоле! Делают порой такие цацки, чай, не кистень с шипами. Вещица вроде и не особо нужная, не всякий витязь позарится, а вот простой люд берет охотно. Все же какое-никакое оружие. И в умелой руке…
– Ну, подле Дольмы явно был умелец метать. И как думаешь, воткнули или метнули?
– Да разве поймешь? Там такая толпа была. Но кто на самого Дольму покусился, я постараюсь выяснить. Рядом с ним вроде только свои были. К тому же такой шип издали не бросишь, да еще в толпе мельтешащей. А вот то, что праздник нам едва не сорвали, плохо. Слышал, небось, что в толпе начали кричать? Дескать, сам Перун его поразил.
– Поймали тех крикунов?
Добрыня опустил голову. Под глазами усталые тени: это у князя пир горой на весь град, с кем только не чокался чашей и кого только не поздравлял, а Добрыня весь день улаживал все и выспрашивал.
– Любой ведь мог крикнуть со страху, – произнес он. – Людям втолковали, что теперь они под рукой Христа и старые боги им уже не в помощь. Однако привычное верование так просто не отпустит. И если бы не царица твоя, поразившая люд своей кручиной по убиенному, то еще неизвестно, что бы началось. Молодец она у тебя, княже.
Владимир откинул волосы с чела, взглянул на Добрыню как-то странно.
– Она-то молодец. Но и условие поставила. А желает царица, чтобы мы нашли того, кто убил христианина Дольму во время обряда.
Казалось, князь ожидал, что Добрыня удивится, начнет оправдываться да объяснять, что-де в таком столпотворении и неразберихе… Но тот молчал. Стоял, припав спиной к растянутой на стене волчьей шкуре, покусывал травинку и о чем-то размышлял. Владимир, глядя на него, добавил:
– Они все этого хотят – и Анна, и ее приспешники византийские. Говорят, что раз такое противостояние в Киеве творится, то им опасно оставлять тут порфирогениту. Она же… слова за целый день не молвила. С пира рано ушла, все молится перед образами.
– Она напугана, княже, – вынув изо рта изжеванную травинку, молвил Добрыня. – Она же сделала все, что могла, для этого крещения – сюда из самого Царьграда прибыла, с тобой обвенчалась, иконы привезла, мастеров, чтобы храмы строить, книги ученые для будущих христиан. А все, выходит, зря. Так что права твоя суложь[39] христианская: надо будет разобраться да выяснить, кто задумал такое злодеяние совершить в сей великий день, кто христианина Дольму жертвой избрал, едва не сорвав обряд. И как найдем такого – казним прилюдно. Чтобы наука была, чтобы никто более не посмел.
– Ты думаешь, что Дольму порешили для того, чтобы сорвать крещение?
– Ну, мало ли… Может, и так. А может, иначе все.
Добрыня вздохнул глубоко, потянулся всем телом. Потом шагнул к Владимиру, посмотрел в глаза.
– Все что угодно может быть, княже. Дольма ведь удачлив был, у такого враги всегда найдутся. Но нам обязательно надо найти злоумышленника, чтобы народ успокоить. Явного убийцу или того, кто скорее всего таким может выглядеть. И доказать его вину надо основательно, чтобы все о том узнали. А потом этого головника[40] надо выставить перед всем народом, разъяснить, что и как, да казнить прилюдно. Чтобы знали – всякий крещеный под особой защитой князя и мстить за убийство чада Христова он будет строго.
Они оба какое-то время молчали. Из-за дверей донеслись веселые голоса, смех, потом в створку постучали. Раздался зычный голос боярина Блуда:
– Княже, иди к нам! Там скоморохи такое вытворяют! Ты должен на это поглядеть.
Владимир резко открыл дверь, что-то негромко сказал Блуду, но, видимо, столь значимое, что тот перестал улыбаться, ушел.
– Блуд сегодня герой, – молвил, повернувшись, князь. – Там, куда он людей увлек, все гладко прошло, вот и гордится собой, веселится. Может, это его люди порешили Дольму? Ну, чтобы Блуд нынче гоголем расхаживал.
– Навряд ли, – покачал головой Добрыня. – Блуд рисковать зря не стал бы. Да и далеко он был, его люди при нем и все в стороне. А вокруг Дольмы кого только не было. Но чтобы такое убийство совершить, – Добрыня опять взял в руки тяжелый металлический шип – всю ладонь воеводы он занимал, – надо рядом находиться. Вот и следует начать расспросы, может, кто и видел что-либо.
– Это в такой-то толпе? Думаешь, до того людям было?
Но сам призадумался. А затем стал говорить о том, что со своего помоста успел углядеть. Владимир хорошо видел, как Дольма зашел в реку, а с ним братья его. Сбоку от купца его жена Мирина была. Кто-то толкал кресло с Вышебором… Там еще челядинцы были, много, человек восемь-десять. А следом и другие люди подтянулись. Дольма же, когда зашел, повернулся лицом к берегу, стал махать, подзывая остальных… Все вокруг плескались теплой речной водой, лес рук, как водоросли. Потом Дольму загородили от князя, он уже и не смотрел.
– Так, говоришь, вокруг в основном родичи и челядинцы купца соляного были? – уточнил Добрыня. – Это уже что-то. Ведь чтобы шип метнуть, да так метко угодить в самое горло, надо стоять где-то поблизости. Думаю, что и впрямь кто-то из своих метал, не из толпы. Ладно, разберемся, – сказал Добрыня и шагнул к выходу.
Но князь удержал его:
– Ты, что ли, со всем этим разбираться будешь, вуй[41]?
Добрыня медленно повернулся. Рот его кривился в усмешке.
– У меня что, дел больше нет? Найду, кто лучше моего все вызнает. Дело ведь непростое.
– Вот-вот, непростое, – даже притопнул ногой Владимир. – Анна, она ведь не дурочка из чащобы. Ей, знаешь ли, нужно, чтобы все разумно и доказательно было. Она в любую жертву, нами указанную, не поверит. А еще хуже будет, если евнух этот заартачится и начнет придираться, требовать разъяснений. Так что головник наш должен быть представлен как сама истина непреложная.
– Значит, так и сделаем, – уже взявшись за дверное кольцо, произнес Добрыня.
Но, видимо почувствовав на себе взгляд сестрича, не ушел, вернулся.
– Ты помнишь волхва Озара, княже? Того разумника, что уже не единожды нам в непростых делах помогал. Помнишь, как у твоего воеводы Волчьего Хвоста коня увели, да так, что никто в городе этого не заметил? Знатный был конь, целое стадо коров пегих стоил, вот Волчий Хвост и лютовал тогда сильно. А волхв Озар, помнится, порасспросил люд да сам присмотрелся, что к чему, и указал, кто мог коня так ловко вывести под носом у всех. Люди говорили, что Озар – великий ведун, а он, как выяснилось, просто сметливым да наблюдательным оказался.
Владимир чуть усмехнулся:
– Я помню то дело. Озар по остаткам на земле определил, что в усадьбу Волчьего Хвоста немало дегтя принесли, а на момент поисков его почти не осталось. Вот и вышло, что светло-рыжего скакуна боярского перекрасили и как вороного вывели за город. Купцы булгарские тогда на такое решились. Насилу их догнали уже за Вышгородом да отобрали скакуна.
– А помнишь, когда требы с капища всех богов стали исчезать, то именно он, порасспросив служителей и охранников капища, по их оговоркам и недомолвкам все же выяснил, кто из своих же волхвов воровать решил, – поддержал разговор Добрыня. – Или когда еще при Ярополке Блуд к нам хаживал утайкой, именно Озар по следам глины на его плаще проведал, что мы с воеводой этим столковались и вели дела против твоего брата.
– Помню, – помрачнев, кивнул Владимир.
Блуд действительно помог ему, а Озар чуть не сорвал все дело. Хорошо, что у волхва хватило ума самому прийти к Владимиру и сообщить, что он вызнал, а также посоветовать, как вести сговор с Блудом, чтобы до Ярополка дело не дошло. Но тогда, подозревая, что Ярополк склоняется к христианству, Озар хотел помочь именно Владимиру, его сторону принял. Однако теперь, когда Владимир не только сам крестился, но и намерен христианскую веру по всей Руси расширить, волхв Озар вряд ли захочет помогать ему. Волхв – мужик разумный, к нему не единожды обращались, если дело путаное было, но он предан старым богам, его не заставишь…
Когда князь сказал об этом Добрыне, тот лишь задумчиво пожевал травинку. Молчал какое-то время, прежде чем начал говорить:
– Озар, как и иные волхвы, сейчас у меня под присмотром. Говорил уже, в Варяжских пещерах их содержат под надзором. И еще поразмыслить надо, как с ними поступить. Я даже подумывал порешить их всех, чтобы не мутили народ да не мешали нам. Но потом… Волхвы многим не милы из-за своей заносчивости и жадности. И теперь, когда новые ростки веры начали прорастать, много ли найдется таких, кто их слушать и защищать станет? Так, может, сказать Озару, что, если подсобит… отпустим их ко всем лешим? Пусть таятся себе да волхвуют в чащобах, куда наши руки пока не доходят.
– Он согласится?
– Ну, за своих он горой. Да и вольного воздуха глотнуть захочет после прозябания под землею. Еще замечу, что ему самому будет интересно это дело распутать. Видел я его при деле. Какое там волховство или чародейство! Кикиморам на смех! Он думает, разбирается и сопоставляет. Умный мужик Озар. Этот справится. И все по полочкам разложит.
– Хорошо бы. Нам ведь самой Анне и ромеям ее про это дознание пояснять придется. Так что давай, Добрынюшка, тащи своего служителя.
Но когда дядька князя уже взялся за кольцо на двери, Владимир его остановил:
– Только сдается мне, Добрыня, что ты не прав, рассчитывая, что отпущенные волхвы нам вреда не наделают. Непросто будет, если они уйдут в народ и начнут внушать простым людям неприязнь к христианству.
Добрыня зло выплюнул травинку, посмотрел на князя своими темными жгучими глазами.
– А какое дело дается просто, княже? Просто только советы раздаются. Но мы-то с тобой знаем – удачу в жизни можно получить только через великие трудности. Не иначе. И выигрывает в конечном счете лишь тот, кто не отказывается от намеченной цели. Так что, если мы с тобой не откажемся от задуманного, все получится, как бы нам ни мешали. Клянусь в том своей христианской верой!
Казалось, в тот день город будет гудеть до полуночи. Но стемнело – и люди, впечатленные произошедшим, потрясенные и утомленные, довольно тихо и мирно разошлись по домам. Была пора месяца серповика – его еще серпнем[42] называли, – и ночи уже стали ранними и темными; в народе говорили: и конь успеет наесться, и всадник – отоспаться.
Когда Добрыня шагнул в лодку и его повезли вдоль киевских берегов по течению в южную сторону, град Киев на возвышенностях лишь кое-где высвечивал редкими огнями. Тихо было, только река плескалась да совы тонко кричали в прибрежных зарослях.
Варяжские пещеры находились в стороне от поселений града. Вроде и не так далеко, однако Добрыня, подуставший за день, успел даже подремать в пути. Впрочем, он вмиг очнулся, когда его ялик заскреб днищем по песку у побережья, и осмотрелся. Вверх уходили крутые склоны, поросшие лесом, во мраке терялись глубокие лощины между ними. Именно здесь был проход в подземные углубления, где содержали пленных волхвов.
Добрыня выпрыгнул из ялика, свистнул негромко. И тут же навстречу вышло несколько стражников – трое или четверо. Вообще-то, тут их было нынче немало, дабы охранять плененных служителей старых богов и следить, чтобы никто не посмел помочь им выбраться на свободу. Причем все сторожа были из христиан – другим бы охранять волхвов не поручили.
– Нам уже доложили, что все прошло благополучно, – молвил один из них. – А эти, – кивнул он за плечо, – все время что-то бубнили в подземелье, твердили, что гроза налетит, град будет, ветер все порушит. Вот уж глухари токующие! Им бы только пугать да угрожать. На деле же день сегодня был ну чисто медовый!
Добрыня ничего не отвечал. Прошло все ладно – и бог с ним. Ему еще надо было одно дело решить, а там и на покой можно, отдыхать, отсыпаться.
В Варяжских пещерах, расположенных на подступах к Киеву, еще исстари делали остановку северные торговые гости. Прятали свое добро в узких переходах пещер, сюда же пленников-рабов свозили, каких покупали на торгах перед дальней дорогой в южные пределы. Однако давно это было, с тех пор кто только не укрывался в подземных переходах. Правда, в последние годы они пустовали. Вот и решено было свезти сюда волхвов и удерживать их, чтобы не мешали князю творить свои дела в Киеве стольном.
Добрыне протянули зажженный факел, он взмахнул им раз, другой, чтобы лучше разгорелся, и шагнул под низкий свод, уходящий вглубь горы. При свете факела видел уводивший во тьму длинный коридор, который кое-где был выше роста человеческого, а местами такой низкий, что приходилось нагибаться. Сыро тут было, в нос бил запах плесени и нечистот. Там, где коридор расширялся каморой, можно было увидеть дружинников-сторожей – свет воткнутых в стену факелов отражался от их пластинчатых доспехов, отсвечивал на оружии.
– К Озару меня отведите, – приказал Добрыня.
Они уходили все глубже под землю. Порой за проемами, забранными решетками, из глубинных расширений слышалась какая-то возня, один раз донесся дикий крик с подвыванием, из-за кованых прутьев протянулись худые когтистые руки.
– Прокляну! – вопил кто-то. – Самим Громовержцем прокляну! Ни сил, ни удачи больше не познаете! Кожа с вас слезет, глаза вытекут!..
– Свят, свят, свят, – перекрестился охранник.
И к Добрыне:
– Чем только нам не грозят эти окаянные.
Волхва, называвшегося Озаром, Добрыня нашел в узком подземном углублении, сыром и промозглом. Он сидел под стеной, обхватив колени и опустив кудлатую голову с длинными волосами, слипшимися сосульками. При свете огня закрылся ладонью, сощурился.
– Никак сам дядька князя пресветлого пожаловал, – произнес волхв, когда присмотрелся.
Добрыня воткнул факел в расселину в стене и сказал стражнику:
– Иди, оставь нас.
Тот помешкал.
– Ты будь с ним осторожнее, воевода. Сейчас он смирный, а до этого одного из наших чуть не задушил. Пришлось заковать.
Что Озар в цепях, Добрыня заметил. Сказал:
– Буйствовать будешь, я просто уйду. Но если выслушаешь, может, и столкуемся.
Он знал, что Озар не глуп, с ним можно было иметь дело. Но не стоило забывать, насколько тот опасен. Это сейчас, сжавшийся, грязный, облепленный сырой известковой грязью, волхв казался убогим, однако силой обделен не был – вон какие руки, какой разворот плеч, пусть и поникших.
Добрыня говорил с ним негромко – не хотел, чтобы стражи знали, о чем беседуют. Сам же поведал все – и о многолюдном крещении, и о том, что Озару надо будет расследовать, кто погубил соляного купца Дольму.
– И ты, Добрыня, решил это мне поручить? Мне? Ты, многомудрый советник князя, явился просить об этом меня? Волхва?
Озар казался удивленным без меры.
Добрыня, поправив пряжку на поясе, стал разглядывать изможденного служителя старых богов.
– Тебе уже приходилось выполнять такие поручения, ведун. Ты разумный, вот и справишься.
И тут Озар захохотал – громко, торжествующе. Его раскатистый смех, казалось, заполнил все низкое темное пространство под землей.
Добрыня лишь закусил губу, чтобы не сказать грубое слово. Пусть ржет сколько пожелает, главное – чтобы согласился.
Озар смеялся долго, как будто издевался. Пока смех не перешел в клокочущий надсадный кашель.
– Несладко тебе тут, Озарушка, словно земляной червь корчишься, – хмыкнув, сказал Добрыня. – А я тебе дело верное предлагаю. Разве не возрадуешься уже тому, что выведут тебя на свет божий, на солнышко, позволят вымыться, обрядят чисто и накормят? Жить станешь в тереме богатом. Что скажешь? Это ли не благо?
– А если откажусь?
Добрыня присел подле него на корточки. Несмотря на длинную, слипшуюся клочьями бороду волхва, которая прибавляла ему возраст больше положенного, само лицо Озара под разводами грязи было еще молодое, с ровным носом и выразительными скулами. Он смотрел на Добрыню, казалось бы, с насмешкой. Но Добрыня неплохо знал Озара: умный, чертяка, знает себе цену. И наверняка уже сообразил, что раз Добрыня к нему пришел, то, видать, дело серьезное. Шутка ли – во время христианского крещения убили уважаемого во граде купца, да еще того, который народ за собой увлек.
– Зачем тебе отказываться, Озарушка? – миролюбиво заметил Добрыня. – Ты князю службу сослужи, а за мной дело не станется. Волю хочешь получить? Хочешь. Причем я тебе предлагаю не только самому освободиться, но и собратьев твоих, демонам поклоняющихся, отпущу куда глаза глядят. Я слово тебе в том даю.
Теперь Озар смотрел на Добрыню серьезно и задумчиво.
– Слово Добрыни на вес серебра. Я это понимаю. Но поверишь ли тому, что я вызнаю?
– Разумно докажешь, я и послушаю. А как справишься – пойдешь ты, куда ноги понесут. Да и собратья твои… Я ведь могу приказать порубить вас всех тут. А так спасешь их.
И тогда Озар улыбнулся. Зубы у него были ровные и крепкие, на темном грязном лице сверкнули, как жемчуг скатный.
– Разве есть у меня выбор, Добрыня? Ты выбора мне не оставляешь. Хотя, видят боги, мне и самому любопытно будет узнать, что там и как вышло. Добро, воевода. Что ж, вели снять с меня цепи. Тогда и по рукам ударим.
33
Населенные местности древнего Киева.
34
Корочун отмечали в самую долгую зимнюю ночь с ряжеными и колядками. Этот обычай надолго сохранился и на Рождество.
35
Бирючи – городские глашатаи.
36
Блазни – призраки.
37
Сурьма – большая сигнальная труба или большой рог, издающий громкий звук.
38
Тать – злоумышленник, злодей.
39
Суложь – жена. В период многоженства – главная супруга, потом – просто законная жена.
40
Головник – преступник, убийца.
41
Вуй – дядя по матери.
42
Серпень – август.