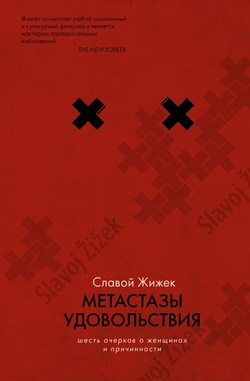Читать книгу Метастазы удовольствия. Шесть очерков о женщинах и причинности - Славой Жижек - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть I
Причина
3. «Сверх-я» по умолчанию
Закон, который самодоволен
ОглавлениеЛучше всего подходить к теме «психоанализ и Закон» с вопросом: какого рода Закон – объект психоанализа? Ответ, конечно, таков: «сверх-я». «Сверх-я» возникает там, где закон – публичный Закон, Закон, сформулированный в публичном дискурсе, – не действует; в этой точке несостоятельности публичный Закон стремится обрести поддержку в незаконном получении удовольствия.
«Сверх-я» – «ночной» закон вне приличий, который по необходимости повторяет и сопровождает, как тень, Закон «публичный». Это внутреннее, неотъемлемое от Закона его расщепление – тема фильма Роба Райнера «Несколько хороших парней»[112] (1992), военно-юридической драмы о двух морпехах, обвиняемых в убийстве сослуживца. Военный прокурор заявляет, что поступок этих двоих был намеренным убийством, но защите удается доказать, что подсудимые просто следовали так называемому «красному кодексу»[113], который допускает тайные ночные избиения товарища по службе, который, по мнению других – или старшего офицера, – нарушил нравственный кодекс морского пехотинца.
Функция этого «красного кодекса» чрезвычайно интересна: он допускает акт преступления – нелегального наказания сослуживца, – но в то же время укрепляет единство группы, требуя сильнейшего отождествления с ценностями этой группы. Подобный кодекс должен скрываться под покровом ночи, оставаться непризнанным, не упоминаемым – публично все делают вид, что ничего о нем не знают, или даже энергично отрицают его существование. Он воплощает «дух общины» в чистейшем виде и оказывает мощное давление на индивида – чтобы тот подчинялся уговору о групповом отождествлении. Да, «красный кодекс» одновременно нарушает выраженные правила общинной жизни. (В свое оправдание двое подсудимых военных предъявляют, что они не понимают, почему «красный кодекс» исключен из «большого Другого», т. е. из пространства публичного Закона: они с отчаянием спрашивают самих себя, «что мы такого сделали?», поскольку просто следовали приказам старшего офицера.) Откуда же берется это расщепление закона на прописанный публичный Закон и его оборотную сторону, «неписанный», теневой, тайный кодекс? Из неполноты, «невсеобщности» публичного Закона: выраженных, публичных правил недостаточно, и потому их приходится дополнять таинственным «неписанным» кодексом, нацеленным на тех, кто, хоть и не нарушает публичных правил, внутренне держится на расстоянии и не полностью отождествляется с «духом общины»[114].
Садизм поэтому опирается на расщепление в поле Закона на Закон qua «“я”-Идеал», т. е. символический порядок, регулирующий общественную жизнь и сохраняющий общественный порядок, – и на его теневую, «сверх-я»-изнанку. Как показали многочисленные попытки анализа, с Бахтина[115] и далее, периодическое нарушение публичного закона есть часть общественного порядка: такие нарушения – условие его устойчивости. (Ошибка Бахтина – или, вернее, некоторых его последователей – в том, что они представляли идеализированный образ подобных «нарушений», умалчивая о линчевании и прочем, как о ключевой форме «карнавальной отмены общественной иерархии».) Общину на самом глубинном уровне «удерживает вместе» не отождествление с Законом, который регулирует «нормальную» повседневную жизнь, а отождествление со специфической разновидностью нарушения Закона, его отмены (в психоаналитических понятиях – со специфической формой получения удовольствия).
Обратимся к жизни белых общин маленьких городов американского Юга в 1920-е годы, где власть официального, публичного Закона сопровождается его теневым двойником – ночным ужасом ку-клукс-клана с линчеванием бесправных черных: (белому) человеку легко прощают мелкие нарушения Закона, особенно если они оправданы «кодексом чести»; община продолжает признавать его как «своего». Но стоит ему отказаться от специфической формы нарушения, присущего этой общине, – скажем, не пожелать участвовать в ритуальном линчевании, устроенном кланом, или уж тем более сообщить об этом Закону (который, конечно, не желает об этом знать, поскольку такое нарушение есть часть скрытой изнанки самого Закона), как такого отказника, по сути, отлучают от общины. Нацистская община полагалась на эту же круговую поруку, сообщаемую участием в общем для всех нарушении: она порицала тех, кто был не готов принимать участие в идиллическом Volksgemeinschaft[116]: ночных погромах, избиениях политических оппонентов, короче говоря – в том, что «все знали, но никто не хотел обсуждать вслух»[117].
Когда, следствием прихода к власти буржуазной идеологии равенства, публичное пространство теряет прямой патриархальный характер, отношения между публичным Законном и его теневой «сверх-я»-изнанкой также претерпевают радикальную перемену. В традиционном патриархальном обществе присущее Закону его же нарушение принимает форму карнавальной смены власти: Король становится нищим, безумие назначается мудростью и т. д. Показательный пример такой перемены – обычай, который практиковали в деревнях на севере Греции до середины ХХ века: на один день власть переходила к женщинам, мужчинам полагалось сидеть дома и приглядывать за детьми, а дамы собирались в местной таверне, пили безудержно и устраивали потешные суды над мужчинами… В таком карнавальном нарушении, отмене правящего патриархального Закона прорывается, следовательно, мечта о женской власти. Лакан обращает внимание на то, что одно из обозначений «жены» в бытовом французском – la bourgeoise, т. е. некто, под видимостью мужской власти, на самом деле дергает за ниточки, и это никак не сведешь к варианту привычного мужского шовинистического остроумия на тему того, что, как ни крути, патриархальная власть для женщин не так уж плоха, поскольку – по крайней мере в тесном семейном кругу – женщины правят бал.
Проблема залегает глубже: одно из последствий того, что Хозяин – всегда самозванец, есть удвоение Хозяина, поскольку сам Хозяин всегда воспринимается как фасад, скрывающий другого, «истинного» Хозяина. Довольно вспомнить байку Адорно в «Minima Moralia»[118] о жене, которая с виду подчиняется мужу, а когда оба собираются уйти из гостей, послушно подает ему пальто, но за мужниной спиной обменивается с гостями ироничными снисходительными взглядами: дескать, бедный рохля, пусть думает, что он тут главный! Противостояние мужской и женской власти воспринимается, таким образом, как противостояние видимости и подлинной власти: мужчина – самозванец, обреченный выполнять пустые символические жесты, а настоящая ответственность лежит на женщинах. Впрочем, тут важно не упустить, что этот призрак женской власти структурно зависит от мужского господства: он остается теневым двойником, ретроактивным следствием и присущим ему проявлением. Поэтому замысел вывести теневую женскую власть на свет и признать ее центровое положение публично – тончайший способ попасть в патриархальную ловушку.
Однако, поскольку публичный Закон сбрасывает явные патриархальные одеяния и показывает себя нейтрально-эгалитарным, характер его теневого двойника тоже подвержен радикальному сдвигу: теперь в карнавальной отмене «эгалитарного» публичного Закона прорывается именно авторитарно-патриархальная логика, которая по-прежнему определяет наши умонастроения, хотя ее прямое публичное выражение более недопустимо. «Карнавал» становится отдушиной для подавленного общественного jouissance – в антисемитских волнениях, групповых изнасилованиях…
Пока «сверх-я» предписывает вмешательство удовольствия в поле идеологии, можно сказать, что противостояние символического Закона и «сверх-я» указывает на напряжение между идеологическим смыслом и получением удовольствия: смысл гарантируется символическим Законом, а «сверх-я» приносит удовольствие, которое оказывает не признаваемую поддержку смыслу. Ныне, в так называемую «пост-идеологическую» эпоху, жизненно необходимо избегать сбивающей с толку фантазии, которая поддерживает идеологическое устройство идеологическим смыслом – в противном случае как объяснить парадоксальный альянс посткоммунизма и фашистского национализма (в Сербии, России и пр.)? На уровне смысла их отношения – взаимного исключения, но при этом у них одна и та же теневая поддержка (когда коммунизм был дискурсом власти – от Сталина до Чаушеску, он ловко играл с националистскими фантазиями). Следовательно, «постмодернистское» циничное умонастроение неотождествления, отстраненность от любой идеологии вовсе не исключает националистскую одержимость этническим Нечто. Это Нечто – субстанция удовольствия: по Лакану, циник – человек, верящий лишь в удовольствие, а не самый ли отчетливый тому пример – именно циник, одержимый национальным Нечто?
Разница между Законом и «сверх-я» также совпадает с разницей между письменной и устной речью. Публичный Закон, по сути, – писаный, и именно и исключительно потому, что «он писан», наше незнание Закона нас не извиняет, не освобождает от ответственности перед Законом. Положение же «сверх-я», напротив, – травматического голоса, захватчика, наказывающего нас и возмущающего наше психическое равновесие. Здесь переворачиваются отношения между голосом и письмом, по Дерриде[119]: письмо дополнено голосом, он действует как непрозрачная сдерживающая сила, ограничивающая поле Закона, но при этом необходимая для его полноты.
Еще одна грань этой теневой изнанки Закона проявлена в обычае властной элиты США. Распространен слух, что каждый год вся властная элита (верховные политики, управленцы, военные, журналисты, самые богатые люди…) собираются на неделю на закрытом курорте где-то к югу от Сан-Франциско, «пообщаться». А на самом деле они там в основном позволяют себе непристойные игры, отменяющие достоинство общественных ритуалов, – напиваются, пляшут, поют вульгарные песни в женских нарядах, рассказывают похабные анекдоты…
112
Здесь и далее даны российские прокатные названия всех кинофильмов. – Примеч. перев.
113
Неуставные отношения, «дедовщина». – Примеч. перев.
114
Это проливает некоторый свет и на сопротивление Армии США легализации статуса гомосексуалистов в своих рядах: само либидинальное устройство армии латентно гомосексуально, т. е. «дух (военной) общины» зиждется на отрицаемой гомосекуальности, гомосексуальности отвергнутой, которой мешают достичь ее целей [zielgehemmte]. Поэтому открытое, публичное признание гомосексуальности подорвет извращенную «сублимацию», которая образует саму основу «духа (военной) общины».
115
Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) – русский философ, культуролог, теоретик европейской культуры и искусства. – Примеч. перев.
116
Народная общность; зд.: «единство немецкого народа» (нем.). – Примеч. перев.
117
Из сказанного должно быть очевидно, почему маркиз де Сад сам по себе садистом не был: он подорвал, сделал недействительной логику садизма, публично предъявив ее на письме, а именно это для настоящего садиста невыносимо. Настоящий садизм – явление «ночное», теневая изнанка институциональной власти, ему не пережить своего публичного обнародования. (Именно в этом смысле Лакан подчеркивает, что де Сад не был жертвой своих садистских фантазий: именно дистанция между его фантазией и им самим позволила ему разобраться в том, как она действует.) Все содержимое работ де Сада – «садистское», а не садистская составляющая в нем – в его позиции формулирования, т. е. в том, что имеется субъект, готовый формулировать. Этот акт облечения в слова садистской фантазии определяет де Сада на одной стороне с жертвой.
118
Theodor W. Adorno. Minima Moralia (1951). Лондон, Verso, 2006.
119
Жак Деррида (1930–2004) – французский философ и теоретик литературы, создатель концепции деконструкции. – Примеч. перев.