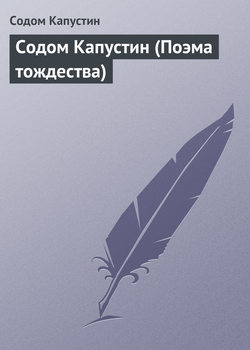Читать книгу Содом Капустин (Поэма тождества) - Содом Капустин - Страница 4
Ты запомнил, что потом пришлось тебе пережить?
ОглавлениеГолос рассыпавшегося стригаля отторгли и стены, и уши зеков, и воздух. Слова цирюльника, не находя последних пристанищ, вернулись к пыли, оставшейся от их бывшего хозяина и укрылись в ней, подарив праху видимость жизни.
Шестерка пахана, смущенный и смятенный от своей излишней торопливости, подскочил к праху цирюльника, набрал его в горсти и принялся просеивать, пропуская сквозь щели между истонченными пальцами, как пропускают неисполненные обещания, докучливые взгляды или время, за миг до его смерти. Но пыль продолжала оставаться бездыханной, даже спрятавшиеся в ней слова уже утратили свою мизерную силу и смешались с прахом, неотличимые и неотделимые от него.
Пахан перехватил опустошенный взгляд своего замешкавшегося шестерки и отвернулся, пытаясь сохранить видимость беспечности. Но ты видел, насколько раздосадован пахан. Его гнев вырывался наружу через шрамы на шее, растроенные ногти и вставшие дыбом спинные позвонки. Этот гнев разрывал ткань пространства и набедренных повязок других зеков, и из этих дыр сыпались комья неудовлетворенной похоти, горькие, как листья алоэ или дым сгоревшего отечества, и бесформенные, словно полуобъеденные медузы или марганцевые конкреции.
Тебя не трогали эти спонтанные извержения прячущихся под кожей пахана эмоций. Ты чувствовал, как шевелится и растет укрытая внутри тебя книга. Растет, накапливая свой мортальный потенциал, сродство к окружавшим тебя зекам и свое, ставшее уже отчетливым, стремление погубить их всех, одного за третьим, чтобы лишь в качестве кинжала милосердия вернуться к обнадеженным на миг вторым.
Не получив ни двух, ни трехсмысленного приказа, шестерка пахана подпрыгивал на месте, уворачиваясь от ягод, выпадающих из покрывших эбеновое тело его владельца корзинок гнева. Так и не определившись, шестерка поднял опустевший костюм стригаля и несколько раз встряхнул его. Штанины и фартук, выпуская накопившиеся в них воздух и опорожненные склянки из-под высосанной досуха надежды, ударяясь друг о друга, внезапно издали изумительную музыку. Раньше, возможно, ты бы покорился ей, и, упиваясь до отрыжки ее волнами, позволил бы им унести себя в сияющие бездны или зияющие горние чертоги. Но сейчас ты стоял безучастно и эта музыка могла лишь проноситься сквозь тебя, не находя там ни созвучия, ни контрапункта.
Шестерка пахана замер, прислушиваясь к порожденным им звукам, которые проникли в его кости и фасции, но не затронули суставов. Ты видел, как завибрировал его скелет, готовый по первому твоему сигналу покинуть плоть и врасти в кафель пола и стен ажурными пучками костяных молний. Ты видел мольбу не делать этого, стекающую из глаз, рта и ушей шестёрки пахана мутными перламутровыми лентами. И ты не дал сигнала. Не потому, что хотел шестёрке жизни или смерти, а потому что утратил ты все сигналы, равно как и способность давать их.
Едва дребезжание костей успокоилось, ленты мольбы отпали и, невесомые, робко кружились в воздухе, пока не попадали в ручейки, которые и понесли их в сток, вместе с пылью, червями и мушиными коконами, смытыми с зековских тел. Лишь несколько блесток на ланитах шестерки пахана выдавали закрепленную в нем слабость, да и те через мгновение слизнул его пупырчатый язык. Тут в его лобные доли, видимо, пришла некая мысль и он, заглядывая тебе в глаза, широко улыбнулся одними ушами.
Но ты не обращал внимания на ужимки шестерки. Глаза твои провожали в последний путь муаровые ленты мольбы, бездарно отпущенные им на свободу. Но другие зеки не позволили им ускользнуть. Они выхватывали ленты из воды, размахивали ими, словно флагами временной победы или билетами на отходящий поезд. Зеки, кривляясь, пританцовывая и показывая друг другу гримасы из-за спин соседей, сооружали из этих лент тюрбаны для головок своих многочисленных пенисов, подвешивали к членам мочалки, словно ордена за не начавшееся сражение или медали за спасение цепеллинов, обвязывались ими, как драгоценной портупеей. Нежная ткань не выдерживала такого обращения и сгорала от совести, оставляя после себя лишь облачка, с восседавшими на них клопами-пожарниками.
Пока ты наблюдал за этими метаморфозами, шестерка пахана успел обрядить тебя в вывернутые наизнанку штаны стригаля и теперь кривой медицинской иглой методично, где крест на квадрат, где крест на треугольник, и, очень редко, крест на круг, пришивал их кожу к твоей. При этом он напрягал то правую, то левую, то снова левую ягодицы, и бубен, привязанный к чреслам шестерки, вибрировал от этих ударов, испуская то медленные, то протяжные звуки.
Твоя черная кожа, оскорбленная искусственным соседством, сперва затрепетала, словно попавший под обстрел снайперов парус флибустьеров или как застрявший в саксауле выползок древесного варана, затем она пошла волнами, на ней появились буруны. Брызги от пенных барашков летели в лицо шестерки пахана, но тот жадно поедал их глазами, не оставляя твоей коже ни шанса, ни простора. Ей оставалось лишь роптать в местах проколов и, чтобы никто не смог воспользоваться ее девственностью и поражением, плакать кровью и бессилием под своим новым покровом и тут же вбирать эти слезы обратно.
Завершив шитейные работы и отступив одной ногой на шаг а второй на прах цирюльника, чтобы оценить эстетизм и качество своей работы, шестерка вдруг взмыл в воздух. Зацепившись своими дредами за трубы и неровности потолка, он отковырял от своей ступни ошейник парикмахера. Довольно и подозрительно взвизгнув, шестерка пахана спикировал на тебя и, уцепившись ногтями мизинцев на ногах за твои тестикулы, вонзил острые, затупленные и зазубренные о множество бритв шипы ошейника в твое горло. Не удовлетворившись и не примериваясь, он приник к тебе объятием Иуды и завязал тесемки ошейника сначала воровским, потом полицейским узлом и завершил многоярусным бантом так, что ты теперь не мог дышать.
После этого, расслабленный и несколько смущенный своей смелостью и усердием, шестерка пахана испустил струю усталой лиловой мочи на прах стригаля, собрал получившиеся комки в цирюльничий фартук и понес пахану, дабы тот мог намазать получившейся смесью волосы и те бы заторчали как объевшиеся рыбами-иглами коралловые змейки или пучки прямых, проходящих через координатный ноль.
Но в тебе не было ни любопытства, ни безумия, чтобы наблюдать за этой процедурой. Ты без страсти и бесстрастности лишь принимал проистекшие с тобой изменения. Твой уд и мошонка теперь были открыты всем, даже самым скромным взорам, твои ягодицы стали видимы всем тем, кто хотел проникнуть меж ними и тем, кто намеревался познать тебя с любой иной стороны. Но это не зародило в тебе даже подобия тени мысли. Будь на то твоя воля, ты бы исторг все нити, скреплявшие твою и искусственную кожу, и она бы свалилась, как валится молния в аккумулятор или как падает стонущая в предвкушении забвения устрица в пищевод. Но тебе не было до этого дела и события. Даже то, что ты теперь не мог вдыхать нашпигованный праздностью и испарениями гниющих мощей воздух, не вызывало твоего недовольства. Тебе не требовалось знать, что ты сможешь существовать без воздуха, ты и так уже не использовал его ни для наполнения легких, ни для постройки на нем башен из слоновьих кишок и бивней.
И, если бы демоны анализа не были отвергнуты тобой, они подсказали бы, что все это – еще один шаг к рождению книги, равно умерщвляющей как понявших ее, так и тех, кто не мог понять в ней смысла месторасположения любой из точек.
Внезапно в бане исчез свет и, под звуки мантр и причитаний, на стене высветилось табло с вопросом «Все помылись?» Пахан, уже облаченный в лиловый, под цвет дредов, фрак и бабочку подалирий, лениво повел извилистой сигарой. Его шестерка, бросив куски оставшихся дел и фантазий, приник к крану с табличкой «Все» и накрепко прикрутил его. Невидимые насосы тут же прекратили давать воду в рожки душей и принялись нагнетать воздух в воздушную подушку, по которой начала скользить бронзовая дверь в баню, инкрустированная бездомным жемчугом и царапинами от былых потасовок. За ней зеков уже ждали вертухаи, едва удерживая на витых резиновых поводках сторожевых дикобразов, добродушных в бою и яростных в ночь, когда не спят все подсолнухи.
– В кумирню построились!
Седой прапорщик, с глазами, слезящимися от детских обид и протекших баллончиков с «сиренью», «черемухой» и «ландышем золотистым», лихо орудуя семихвостой плеткой, выстроил выбравшихся из помывочной зеков в длинную колонну.
– Запевай!
Пахан камеры подтолкнул торчащими дредами своего шестерку и тот, с искренним подобострастием и умилением принялся петь забытый всеми гавот в ритме марша.
– Мы длинной вереницей идем дорогой длинной,
Идем дорогой длинной мы в город золотой!
За ним подхватили и понесли в разные стороны и тональности и прочие зеки.
– И нас там встретит евнух, с коростой разномастной,
И аист шизокрылый над темною водой!
Ты плелся сзади, безучастный к общему веселью. Мокрые и шершавые носы дикобразов тыкались тебе в пятки, но ты не обращал на них внимания, и озадаченные животные молча проглатывали эту обиду и панибратство, хотя любому другому зеку они бы без долгих предисловий отгрызли бы и пятки, и голени, и ступни со всеми прилипшими к ним следами заблуждений.
Вскоре зеленые стены сменились стенами, покрытыми резными панелями из сандала и бальза. Безвестные и знаменитые зеки-резчики украсили их сурами и янтрами, танками и хокку. Безымянные, поименованные и никому не известные божества, демоны и те, кого можно было принять за людей, показывали на них свои гениталии и иные органы размножения, оплодотворения и испускания жизненных смол и электричеств. Кто делал это со всей ответственностью, кто украдкой, но все они, понимая важность сравнительного анализа и антропного принципа, сопровождающего их небытие, изъявили согласие своего присутствия на этих панно. Но все это было лишь обрамлением и подступами к кумирне, вход в которую пока прикрывала дверь из теплого и жидкого галлия, на которой любой мог начертать свои мечты, чаяния или выплеснуть на нее чашку кофе из гороховых зерен пополам с фасолью.
Просунув руку с плеткой сквозь расплавленный металл двери, седой прапорщик, косясь одной ноздрей на раздухарившихся зеков, а другой на семена злобы, которые они в избытке рассеивали вокруг себя, роняя вчерашние, чужие и лягушачьи слезы, помахал там тремя плеточными хвостами из семи, привлекая внимание и долг прислужника культов. Тут же дверь стекла на пол блестящей лужей, отражавшей лишь тех, кто был готов покрыть себя и соседа бесчестием и украденными одеждами.
– Заходим!
Вертухаи остались снаружи, а ты оказался в просторном зале. С когда-то синего потолка, свисали лохмотья штукатурки, символизирующие и исполняющие функции и обязанности облаков, туч и престолов. По стенам змеились ручейки, не похожие ни на мирру, ни на ладан.
– Проклинаю вас, пасынки бесовские до той секунды пока не удалитесь вы из пределов кумирни сей! Кто ведал меня, окликайте меня, как знаете, кто ж не посещал меня доселе, для вас я Отчим рода Вашего.
Ослушник культа, чьи морщины на щеках выдавали его невежество в делах, ускользающих от внимания, а бородавки на плечах, коленях и солнечном расплетении – его приверженность к лести и голословности, воздел руки холму. Зеки, преисполненные восторгом и наличием пустого места, тут же принялись изображать салочки с невидимками, футбол с иблисами и бейсбол с джиннами.
– В миг сей забудьте мою отповедь! Все вы суть отвар греха и плод инистой динго! Труды ваши – плен ваш! Сила ваша – смрад ваш! Гимны ваши – алкание грязи небесной! Кто встанет на пути вашем – забудет и соль земли, и горечь звезд и муку солнца! Кто повернется лицом к вам – станет бешенством и гноем. Кто повернется спиной к вам – станет мразью и падет!
Беспредельно нежелание ваше, кое простирается вне альфы и омеги. Нет границ бессилию вашему, кое взрастили вы меж чресл своих. Безумна жадность ваша, коя злато топит в омуте выгребном, а серебром накрывается. Воля ж беглая ваша сокрылась в хлябях топких и тиной измученных, и нет ей ни тропы, ни направления, ни компаса, ни радиомаяка!
Нет у вас лика и оправдания тому. Не бывать вам вне могилы и власяницы, коие принайтованы к вам вечным грехом третьего сорта и рода. И нет для вас отличий между печалью и радостью, скорбью и пляской!
И попросите меня: «Отчим рода нашего, сделай нам красиво!» И получите кукиш с маргарином! И попросите меня: «Отчим рода чужого, сделай нам вкусно!» И получите цвет терновый с икрой кабачковой! И попросите меня: «Отчим дедов повивальных, сделай нам ласково!» И получите розог мореных в мокроте чумной!..
Ты видел, как звуки этой отповеди поражают зеков в место, где должно было быть у них сердце. Но зеки продолжали бегать и веселиться, как будто выпали их сердца, словно поклеванные курами вишни и оливки из дырявой авоськи, и не осталось в том месте ни прорехи, ни желания. Лишь пахан камеры, грозно и сумрачно выпятив обнаженную грудь навстречу мыслепостроениям Отчима рода Его, отражал упреки отповеди прокуренными альвеолами. Обвинения, словно куча ослепленных бромистой солью сперматозоидов или стая неуправляемых кордовых моделей махолетов, носились по кумирне меж зеков, пока хватало залежей движения. Когда же кончался их заряд и осознание цели, они валились под ноги неуемных арестантов, где и хрустели как надкрылья жужелиц или зерна кофе под жерновами меланхоличного циклопа.
Единственный, кого не трогала эта сумятица и свистопляска, был ты. Ты стоял, прижатый броуновскими перемещениями зеков к стенной панели, на которой презираемые божества, засвеченные Бодхисаттвы и возвышенные самими собой демоны, восседая на шелковичном дереве, его плодах и скрошившейся коре, закрывали ладонями свои соски и пупки, дабы не быть приобщенными к возвестиям ослушника культа. Его речи проносились сквозь тебя, недоступные боле для твоего приятия и презрения.
– Эй, вон ты там, где тут и его листья!
Культовик-затейник внезапно порвал свои обличения и их остатки, словно препарированные усердными родственниками трупы или насильно распахнутые бутоны ирисов, вальяжно улеглись на кафедру амвона, бесстыже выпятив свои незаслуженно неинтересные внутренности. Его длань простерлась в направлении тебя.
– Я вызываю его – Содом Капустин. – Ответил за тебя пахан камеры, и его ногти завибрировали от грядущего возбуждения, а шея позеленела, не в силах удержать вожделение и страсть к насилию.
– Приблизься ко мне, Содом Капустин!
Профанатор культа поманил тебя двумя фалангами среднего пальца. И ты мог бы заметить, что ногти у греховнослужителя растроены теми же способом и причиной, что у пахана, но не сделал этого.
Непросохшие от пота, негодования и лампадного масла бедра и предплечья зеков вытолкнули тебя к алтарю. Там ослушник культа, расстрига в седьмом колене и запястье, возложил тебя на пахнущий просроченными зельями и гниющей тиной алтарь. И, умывая плечи и затылок, обратился к тебе.
– Ты – скверна греха! Ты – сублимация возгонки! Ты – дробь неделимого! Ты – падаль бессмертия!
Без этих слов он, не присматриваясь и не приноравливаясь, сорвал со стенного крюка платиновое, но покрытое медью и патиной, Ж-образное расшестерение, с барельефом прикрученного к нему гимнаста в прыжке через козла или улей, и затщился вонзить его в твой анус. Арестанты, с ожиданием и предвкушением серы и уксуса, открыли рты и схватились всеми руками за пенисы. Но расшестерение гимнаста, на немного проникнув внутрь тебя, вдруг остановилось.
Поливая позором всех отцов и прадедов, Отчим рода Их выдернул металл из твоего сфинктера. Член у барельефа атлета восстал, словно обнажившийся после самума зиккурат или политая гиберелинами секвойя, порвав и разметав по кумирне свои путы и вязы, большая часть которых вошла драгоценными скобами в твои ягодицы и мошонку, а меньшая скрепила вместе и врозь ногтевые пластины твоего насильника. И теперь, напряженный и грозный, енг спортсмена не давал ослушнику культа воплотить и восполнить его эротические притязания.
– Кто же ты, не давший мне вызова и поразивший меня в самую суть мою? Кто ты, что без сопротивления и тревоги убил мои притязания и смелость? Кто ты, что без отпора и караула уничтожил мою верность и принципы?
Пав на спину и устремив к потолку свои подошвы, профанатор культа завывал и извивался, ломая руки и завязывая их в узлы и узы, но никак не мог избавиться от пронзивших его ногти скоб гимнаста. Ты встал, и не было в тебе ни отклика, ни поползновения на него. Зеки же, упустившие развлечение, поймали прежнее веселье и начали им забавляться, отрывая ему, то по одному, а то по несколько, его лапки, усики и жужжальца. Лишь пахан, понимая ненужность и безысходность момента, супил брови. И одна бровь его горела укоризной, а вторая уже истлела в морозе негодования.
– Содом Зелёнка!
Охранник, появившийся внезапно и вне прогнозируемого паханом сюжета, выплюнул твое настоящее и будущее имя с таким презрением и скоростью, что оно ударило тебя в грудь и, потеряв сознание, безвольно скатилось под спину культовика-затейника. Но тот, изнывая от боли и самосожаления, не воспользовался шансом, и твое имя упорхнуло прочь, унося на своих перепонках, чешуйках и хвостах вкус частичного спасения и искупления.