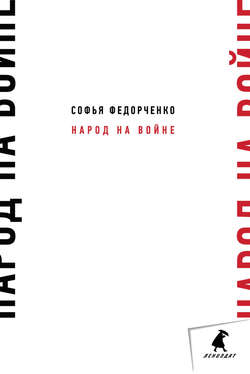Читать книгу Народ на войне - Софья Федорченко - Страница 1
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Софья Федорченко и «русский народ»
ОглавлениеЛитературная биография Софьи Захаровны Федорченко (1880—1959) довольно своеобразна[1]. Федорченко родилась в Петербурге в семье актрисы, французской цыганки, много гастролировавшей и приезжавшей в Россию лишь дважды в год. Поэтому до семилетнего возраста будущая писательница воспитывалась в крестьянской семье в селе Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии. С семи до двенадцати лет Федорченко жила в Париже в семье отчима, инженера-технолога З. А. Гониондзкого. Затем путешествовала с ним по разным губерниям России. После гимназии Федорченко поступила на юридический факультет Киевского университета, но его не закончила. Когда началась Первая мировая война, она отправилась на фронт и работала там сестрой милосердия с 1914 по 1916 г. После Февральской революции, по утверждению самой Федорченко, она вернулась на фронт, «работать по помощи населению, пострадавшему от войны». В годы Гражданской войны она жила в разных регионах Украины и Южной России. В 1922 г. Федорченко переехала в Москву и стала заниматься профессиональной литературной работой.
Известность пришла к Федорченко вскоре после публикации ее первой книги «Народ на войне: Фронтовые записи», изданной в 1917 г. издательским подотделом Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского земского союза. В предисловии к этому изданию (а также к журнальным публикациям его фрагментов) Федорченко утверждала, что в книгу вошли подлинные записи солдатских разговоров, собранные на фронте в 1915 и 1916 гг.:
«Материалы для этой книги собраны мною на фронте в 15 и 16 годах. Была я все время среди солдат, записывала просто, не стесняясь, часто за работой, и во всякую свободную минуту. В большинстве это беседы солдат между собой. Можно было иногда записывать и при них, так как солдаты привыкли видеть, что сестра всегда что-нибудь пишет (то температуру, то назначение, то „на выписку“, то письма), и, не обращая на это никакого внимания, разговаривают. Лично мне интересного говорилось меньше, особенно молодыми солдатами. Они всё старались под мой уровень подладиться, всё думали, что „простое мне не понять будет“, а когда начинали говорить на подходящем, по их мнению, языке, было скучно, и записывать не стоило. Пожилые солдаты, те чаще рассказывали мне, даже диктовали иногда. Так я записала некоторые песни про войну, сказки, заговоры, предания: они не все вошли в эту книгу».[2]
* * *
В 1920 г. в первом томе эмигрантского журнала «Современные записки» Федорченко опубликовала подборку из тринадцати сказок, которые тоже были якобы записаны на фронте. В редакционном предисловии говорилось, что публикуемые тексты «взяты из огромного материала… собранного Софьей Федорченко на войне, где она работала как сестра милосердия. Материал этот записывался на привалах, по дорогам, в вагонах, в лазаретах, часто подслушивался украдкой. На прилагаемые сказки нельзя смотреть как на запись строго научную. Они, как и весь собранный Федорченко материал, есть лишь живой свидетель того, что в народе не иссяк источник творчества».[3]
Книга Федорченко была высоко оценена критикой и неоднократно переиздавалась в первой половине 1920-х гг. «Ее называли „драгоценным памятником нашей эпохи“, „подлинной правдой о войне, о русском народе“ (Я. Тугендхольд), „огромным складом народной мудрости“ (И. Машбиц-Веров), „энциклопедией народной души“ (Л. Войтоловский). Популярный в то время журналист И. Василевский (He-Буква) утверждал, что „ни историк, ни социолог, ни беллетрист, ни политик не имеют права не знать этой книги“»[4]. Большевистский критик А. К. Воронский писал в 1922 г., что «Народ на войне» «показывает, как в старой русской армии зарождался, развивался и зрел стихийный большевизм: протест против войны, нежелание воевать во имя непонятных целей, массовое озлобление против командующих классов и тяга к новой жизни без войн, царя, помещиков и капиталистов, тяга к науке и просвещению»[5]. Фрагменты из книги Федорченко использовались другими авторами, писавшими о войне и революции, в том числе и А. Н. Толстым. Подобные заимствования можно встретить и в позднейших памятниках советской литературы. Короче говоря, «Народ на войне» имел несомненный успех, главным образом – как оригинальная документально-этнографическая книга.
В 1925 г. Федорченко издала продолжение «Народа на войне» с подзаголовком «Революция»: предполагалось, что в этом томе собраны записи, относящиеся к периоду между февралем и октябрем 1917 г. В конце 1920-х Федорченко работала над третьим томом книги – «Гражданская вой на» – и даже читала его отрывки собратьям по цеху, в частности – Михаилу Булгакову и Леониду Леонову. Однако «Гражданская война» увидела свет только в 1983 г. в одном из томов «Литературного наследства», а писательская карьера Федорченко неожиданно оказалась под угрозой.
Дело в том, что в 1928 г. вокруг книги «Народ на войне» разгорелся скандал. Писательница призналась, что на самом деле никаких записей на фронте она не вела и написала первую часть своей книги в Киеве и Москве – по памяти. Между тем до этого признания публикации Федорченко воспринимались большинством читателей как документальные, чуть ли не стенографические записи аутентичных солдатских бесед. В очерке, посвященном истории «Народа на войне» и предназначавшемся для одного из литературных альманахов, Федорченко вспоминала:
«Я решила написать „правду о войне“, и решила написать только правду, даже если всей правды мне написать и не удастся.
Сперва думала писать нечто вроде военного дневника. Но, при пробе этой формы, может быть, от отсутствия опыта, было мучительно неловко говорить о себе „я“ наряду с тем, что я хотела сказать о других. Особенно трудна мне была эта форма при твердом моем решении сделать героем книги народ, – „простой народ“, да еще и целиком, не как-нибудь. Решила же я писать именно „простой народ“ потому, может быть, что на войне я была только с ним, да и литература того времени этот самый „простой народ“ излюбленно измызгивала.
Итак, пробовала я разные формы, даже роман. Это бы ло совершенно ужасно. Три дня я перебирала и то и се. А потом, в аванложе театра, под „Черную Пантеру“ Винниченки, я написала первый отрывок из „Народа на Войне“ (…я повылез, слышу…), каким-то неожиданным способом, с непривычки я даже слегка испугалась – влезши в шкуру рассказавшего мне этот случай солдата и абсолютно забыв себя самое. <…>
Писала я быстро, почти без поправок, просто выбрасывая недостаточно „правдивое“ (и в смысле, и в языке). Печатала собственноручно, одним пальцем, неистово медленно. А отдать на сторону такую книгу в то время было опасно „политически“.
И так, только через шесть месяцев, моя первая книга была готова. Что делать с ней, чтобы ей поверили? И решила я от книги этой совсем отойти, чтобы никто не стал рассуждать, талантлив автор или нет, – а просто приняли бы книгу как документ, что ли. Может быть, я просто струсила, не знаю. Но я твердо решила сказать, что все это почти стенографические записи, и отдать книгу эту как не свою. Помню, я все думала тогда, что если бы был жив Толстой, отдала бы я ему с радостью свою работу, а он бы поверил, написал бы, цитируя мою книгу, – вот какой народ на войне, – и была бы правда услышана, и стыдно стало бы писать и печатать ложь и пошлятину. И не было бы никаких эстетских обсуждений, которые меня в то время неистово шокировали. <…>
Конечно, когда хвалили форму книги или, особенно, песни, мне иногда хотелось сказать, – ей-богу, и я тут виновата, чтобы похвастаться, что ли. Это вот приносило мне некоторую боль. Хуже было другое. Что, с этих дней, с „Народом на Войне“ стали обращаться, как с сырым материалом, из которого каждый брал себе на потребу, что хотел и что мог, – это мне было страшно приятно в то время. Это было в целях моих, может быть.
Но вот то, что некоторые писатели в своих книгах, „творчески“ переделывая, стали печатать песни из „Народа на Войне“, которые были написаны мною, и только мною, в полной моей одержимости, – и выдавать их за народные, ими, этими писателями, слышанные, – это меня просто убивало. Так как они-то, писатели-то эти, ведь прекрасно знали, что этих песен они не слышали никогда. Веришь мне, что я их слышала, так хоть упомяни книгу, откуда взял, – а не говори, что слышал сам!»[6]
Признание писательницы вызвало резкую критику Демьяна Бедного, выступившего в феврале 1928 г. в «Известиях» со статьей «Мистификаторы и фальсификаторы – не литераторы. О Софье Федорченко» и назвавшего «Народ на войне» «жульничеством» и «мошеннической подделкой». Там, в частности, говорилось: «Внимательный, критически настроенный читатель записей С. Федорченко может допустить, что записи не всегда, быть может, точно передают то, что было услышано Софьей Федорченко, но что Федорченко все это действительно слышала и в меру своих способностей добросовестно зафиксировала, разве можно было в этом сомневаться?.. Теперь оказывается: ничего не было! Никакого народа!
Всё Софья Федорченко из своего пальчика высосала! Мистификация! Фальсификация! Поклеп на народ. Жестоко обмануты были те, кто этим записям „услышанного“ доверился»[7]. По не лишенному оснований предположению А. Н. Трифонова, столь резкий отзыв «советского классика» мог быть вызван его собственными литературными планами: по-видимому, Бедный намеревался заняться стихотворным переложением «Народа на войне» и, возможно, уже занимался этой работой до разоблачения мистификации Федорченко. Аналогичная история произошла с поэтом десять лет спустя, когда он пересказал в стихах «уральские сказы» Павла Бажова, а потом внезапно обнаружил, что они вовсе не являются аутентичным рабочим фольклором.[8]
Как бы то ни было, скандал сильно повлиял на репутацию Федорченко. Переизданий «Народа на войне» после 1928 г. больше не выходило, а сама писательница, согласно ее признанию в письме Корнею Чуковскому, «сгоряча, в первую минуту» сожгла «6 листов новой книги своей»[9]. Однако Федорченко не оставила литературных занятий и продолжала сочинять прозаические и поэтические произведения, преимущественно – для детей. Ее перу, кроме того, принадлежит историческая трилогия «Павел Семигоров», первая часть которой появилась в 1942 г., а последняя была издана уже посмертно – в 1960 г. В 1940-х гг. Федорченко вновь стала активно печататься. Во время войны она опубликовала поэму «Илья Муромец и миллион богатырей», «солдатские сказки» и пьесы. Работу над третьей частью «Народа на войне» Федорченко продолжала и в послевоенное время.
* * *
Итак, «Народ на войне» – это вовсе не стенограммы солдатских разговоров, как думали многие читатели двух первых томов книги, а литературная мистификация. Трудно сказать, насколько искренней была Федорченко, рассказывая о мотивах «документальной атрибуции» своей прозы. Публикация «солдатских сказок» в «Современных записках», о которой сама писательница в советское время предпочитала не упоминать, дает основания и для несколько иных предположений. Если «Народ на войне» действительно можно счесть попыткой рассказать правду о происходящем на фронте, скрасив повествование своего рода «фольклорным колоритом», то тексты из «Современных записок» уже никак не связаны с военной тематикой, за исключением выдуманных обстоятельств их записи. Сами по себе эти сказки не имеют даже отдаленных сюжетных параллелей в восточнославянской сказочной традиции – в лучшем случае можно предположить косвенное (и, возможно, опосредованное литературными источниками) влияние отдельных сказочных мотивов. При этом они изобилуют имитациями «народного» стиля, ни в коей мере не соответствующими реальным речевым практикам русских крестьян конца XIX – начала XX вв. Можно предположить, таким образом, что Федорченко не только стремилась избежать «эстетских обсуждений» своих первых литературных опытов, но и сознательно экспериментировала с популярными в начале XX в. прозаическими и стихотворными псевдофольклорными формами.[10]
Впрочем, по крайней мере – в отношении «Народа на войне», такие художественные интенции писательницы вполне объяснимы. В эпоху Первой мировой войны на страницах печатных изданий Российской империи появляется большое количество якобы фольклорных текстов (главным образом – песен и частушек), призванных продемонстрировать патриотизм и боевой дух русского народа[11]. Собственно говоря, подобные манипуляции воображаемыми образами «народа» и фальсифицированным фольклором вообще характерны для культуры образованных элит в России XIX – начала XX вв., особенно – в пореформенное время. Несколько десятилетий спустя, в эпоху нового закрепощения русских крестьян коммунистической диктатурой, эта тенденция завершится монструозным проектом по созданию «советского фольклора» – своего рода сталинской фабрикой по производству «устно-поэтических» текстов, восхваляющих лидеров государства и «советскую действительность».[12]
«Солдатские» песни и частушки, придуманные Федорченко, представляют собой, таким образом, полемику с аналогичными фальсификатами «патриотической» направленности. Если, скажем, в сборнике «Солдатские частушки» поэта Василия Лехно[13] можно прочитать что-нибудь вроде:
Немцу дома не сидится,
Понаскучил ему «бир»;
Знать, желает немец биться, —
Коль наскучил ему мир.
Ну а наши-то ребята
Не боятся немчуры, —
Как изловят супостата,
Отчухрают за вихры.
Ах ты, немец-остроус,
Я усов-то не боюсь,
Меня усом не спугаешь, —
Я российский, а не трус, —
то русские солдаты, «по версии Федорченко», пели совсем не о победах и героизме своих армий, что, по всей видимости, было несколько ближе к реальным настроениям на фронте:
Не обрался я беды,
Как попал я вот сюды.
Не пришелся я по нраву,
Никогда не буду правый.
Нету хуже взводного,
Для кого невгодного,
Все ругается, да бьет,
Да со свету сживет.
По окопу немец шкварит,
По сусалам взводный жарит,
Не житье, а чисто ад,
Я домой удрать бы рад.
А домой не удерешь,
Дезертиром пропадешь.
Вместе с тем степень общей «этнографической достоверности» и первой, и тем более последующих частей «Народа на войне» также довольно сомнительна. Не останавливаясь подробно на лексико-стилистических и содержательных особенностях «солдатских нарративов» из книги Федорченко, замечу, что они вряд ли могут выдержать «проверку на аутентичность». Так, открывающие книгу рассказы о том, «как шли на войну», не содержат ни одной детали, соотносимой с формами и топикой рекрутской обрядности конца XIX – начала XX вв.[14], что опять-таки заставляет усомниться в их хотя бы отдаленной связи с подлинными разговорами и воспоминаниями рядовых Первой мировой войны. Вряд ли стоит думать, что фронтовые впечатления Федорченко совсем не отразились в «Народе на войне», однако ни о каком «документализме» здесь говорить нельзя: перед нами не стенограммы устной речи, а ее имитация, зачастую излишне пестрая и вычурная.
Все это заставляет задуматься не о социально-этнографической, а о литературной генеалогии книги Федорченко. Полагаю, что писательница совсем не случайно вспомнила о Льве Толстом в своем очерке 1928 г. и что одним из «предшественников» русских солдат из «Народа на войне» можно считать толстовского Платона Каратаева с его «тривиализацией» военных невзгод и страданий, иррациональным и дискретным сознанием, противопоставленным «позиции интеллигента, рассматривающего мир сверху»[15]. Такой «выбор оптики» позволяет Федорченко рассказать свою «правду» о войне – о насилии и смерти, физических страданиях и голоде, сиротах и калеках, мародерстве и изнасилованиях, бедствиях мирного населения – посредством суггестивной модернистской прозы, лишь имитирующей, но вовсе не воспроизводящей подлинные речевые практики. Надо сказать, что не все современники воспринимали «Народ на войне» в качестве этнографического документа. В этом отношении симптоматично мнение Сергея Эйзенштейна, сравнивавшего Федорченко с Джойсом и писавшего о специфическом «кинематографизме» ее книги: «Федорченко любопытна для нас в структурном отношении. Новые киновещи „пишутся“ в близкой ей манере. На логически не мотивированном, ассоциативном переходе от темы к теме. <…> Желающим работать в подобном плане многим может помочь „Народ на войне“. В этом отношении Федорченко – более доступное, правда сказать, и менее богатое „издание“ Джеймса Джойса. <…> Федорченко и Джойс очень близки современной кинематографии. Правда, более чем наполовину еще „имеющей быть“. Та же „деанекдотизация“ и непосредственное выявление темы через сильно действующий материал. Совсем стороной от сюжета, только еще из добросовестности фигурирующего в произведении. Та же „физиологичность“ детали. Крупным планом. При чисто интеллектуальном эффекте – отвлеченном выводе через их физиологическое посредство».[16]
Я не намерен вдаваться в «эстетские» дискуссии, столь пугавшие Федорченко, и рассуждать о сравнительных достоинствах и недостатках «Народа на войне» и «Улисса». Читатель волен самостоятельно решить, какое место книга Федорченко занимает в истории русского и европейского литературного модернизма. Как бы то ни было, и популярность, и литературное влияние «Народа на войне» все же стоит объяснять ореолом этнографической аутентичности, сопутствующим этой книге и по сей день. Об этом, в частности, говорят многочисленные заимствования (как правило, без указания источника), сделанные из «Народа на войне» разными авторами в разное время. Можно сказать, вероятно, что книга Федорченко стала значимой частью интертекстуального пространства «народа» и «народности» в советской литературе. Вместе с тем «Народ на войне» оказывается необычной и примечательной частью солипсических дискурсивных конструкций, при помощи которых образованные элиты в России XIX—XX вв. пытались вообразить и репрезентировать «безмолвствующее большинство» – неуловимый, пугающий и притязательный «русский народ», своего рода «смутный объект желания» интеллигентов и самовластных правителей.
А. А. Панченко