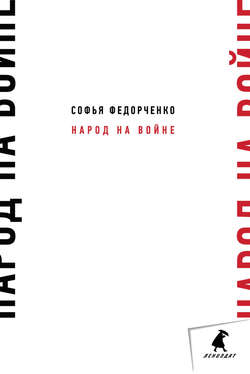Читать книгу Народ на войне - Софья Федорченко - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга первая
Народ на войне
VI
Как о «врагах» говорили
ОглавлениеУбивал я немцев много,
А врага не знаю.
По показанной дороге
С ружьецом гуляю.
По совести сказать, не вижу я врага ни в каком человеке. Ну что мне немец, коли он меня ничем не обидел? А знаю я, что не солдатское это дело так рассуждать. Войну воюем, так уж тут нечего сыропиться. Только с чего эта война, не пойму. И придумалось такое: вот послало его ихнее начальство, вроде как нас. Ото всего оторвали, где жена, где изба, где и матушка родна; что мы, что они – оба без вины. А ему и еще тяжче: говорят, хорошо у них в домах. Как кинешь?
Я к оконцу: стук-стук… Баба отперла, робкая бабенка, дрожит, молчит. Я хлеба прошу. На стенке шкап, оттуда хлеба да сыру достала и вино стала на машинке греть. Ем, аж за ушами трещит. Думаю, нет такой силы, чтобы меня с того места выманить… Опять в оконце: стук-стук. Баба, ровно и мне, отперла. Гляжу, австриец в избу ввалился… Смотрим друг на дружку, кусок у меня поперек, хоть рвать впору… Что делать, не знаем… Сел, хлеб взял и сыру. Жрет, так убирает, не хуже меня. Вино бабенка подала горячее да две чашки. И стали мы пить ровно шабры какие. Попили, поели, легли на лавке голова к голове. Утром разошлись. Некому приказывать было.
Я прошел вперед, не заметил, как отделился… Подходит немец, да вот так и подходит, мерным шагом… А я и забыл, что бить нужно, встал, жду… Очень важно идет… Подошел, взял меня за грудь и на себя зачем-то тянет…
Оба мы одурели… Тут я, как почуял железо на его груди, холодное что-то, так первый в себя пришел и кулаками его обоими промеж глаз. Он сел, а я тогда винтовку поднял да его прикладом по тому же месту… Лица не видно, что крови… А что делать дальше, не знаю. Вот не знаю, что делать, коль ребят своих кругом нет. Не стоять же коло него!.. Каску с него подобрал, свалилась, да назад… Свою часть уж не нашел. Вот тебе и подвиг…
А как немец кофий пьет
С сахаром внакладку,
У него война идет
Ровно бы впрохладку.
Как окопы с оконцем,
А в стене картина,
Как постели с матрацом,
Не натрудишь спину.
Смешно немцы говорят – гав, гав. Хуже нашего. А народ умный, грамотный. Хоть пьют, однако без буйства. Только сердцем противу русского – ку-уды! Не отходчивы. Нашему немец башку проломит – так и то дружок; а у него мизинчик сыми, три дня потом привыкает – никак не простит. Обидчив.
У него ружье что пушка,
У нас пушка что хлопушка.
Ероплан у них не дóстать,
У нас – курка мокрохвоста.
Как галета ихня – мед,
С нашей – круглы сутки рвет.
У них баня хороша,
А нас сутки гложет вша.
Их начальник что картина,
Наш дерется как скотина.
Для них музыка играет,
А нас матерно ругают.
Немцу взводный ручку жмет,
А нам взводный морды бьет…
Я с какой угодно нацией разговорюсь. Я ему головой – «здравствуй», значит. Ну и руку. Ладно, знакомы. А после ему хлеба в руку, папироску в зубы. За руку возьму – рядком посажу. Тут дружба, тут всякий разговор. А все равно, что немец, что француз.
А у нас теперь все немца хвалят. По-нашему теперь, что немец, что ученый мудрец – все едино… А все с того началось, что сами больно глупы оказались… Вот уж верно, что – молодец посередь овец, а противу молодца – сам овца…
Немецкий царь до нас рать свою спосылать задумал. Собрал старого да малого, глупого да бывалого, хилого да здравого, робкого да бравого: «Идите, люди немецкие, на Русь великую; воюйте, люди немецкие, вы землю русскую; испейте, люди немецкие, вы кровь горячую; умойтесь, люди немецкие, слезами бабьими; кормитесь, люди немецкие, хлебами трудными; оденьтесь, люди немецкие, мехами теплыми; согрейтесь, люди немецкие, лесами темными».
Прицелился, пальнул, он – в землю, я к нему – не дышит. Я к ему в кобуру, за револьвертом, а там папиросы… Так верите, братцы, словно зверя ухватил, словно ожгло меня – до того жаль немца стало.
Люди – очень с лица несвойские. На голове шерсть растет, нос шлепкой, губы титьками, кожей как грех черны, и только зубы светятся.
* * *
Когда первый раз сюда пришли, нехорошо обитатели нас держали. В уме своем еще не поняли того, что русские сильнее, не додумались. Я на постое тихо-мирно у семейства жил и все старательно исполнял, чтобы никого не обидеть. И воду им таскал, и ребят нянчил. Однако волками смотрят… А второй раз – так просто смеются в глаза. Да и я уж не такой стал… С дочкой старшей любовь силком закрутил… Муж-то ее на войне, сама красивая… И очень меня потом ласкала охотно, я тогда здоровый был… Постоял, насмутьянил, детей до крови выпорол и уехал… А в третий – так ноги лижут… Знает кошка, чье сало съела… Ну да я их теперь прямо-таки презираю…
Я в его целюсь, не знаю кто, а сильно желаю, чтобы немец был. Целюсь с сучка, долго примерялся и выстрелил очень успешно… Повалился – не пикнул, и немец оказался… Здоровый как бык…
Я ненавижу врага до того, что по ночам снится. Снится мне, что лежу будто я на немце, здоровый, черт, и убить не дается. Я до штыка – он за руку. Я до глотки – он за другую. Не одужить, да и только! Я ему в глаза пальцами лезу, глаз продавил да дырку к мозгам ищу… Нашел да давить… А сам всей кровью рад, аж зубы стучат…
Итальянец плохой солдат. Ты только посуди, чего ему воевать?.. Солнце круглый год греет, плоды всякие круглый год зреют, руку протянул – апельсин… Работать не надо, земля сама родит, все есть, чего ему воевать?.. А немцы голодом живут, у них все машина, а машиной сыт не будешь… Вот и рвут что есть силы… А мы народ мирный, нам только обиды не делай, мы себя прокормим… Чужого не надо…
* * *
Очень хорошо с немцами говорить, образованный народ. Одно тяжеленько, что по-русски не маракуют. Да про настоящее все понять у друг дружки можно.
Именья у меня с войны немного. Грабить не грабил, а что деньги чужие есть, так то дадены жидовкой: заступился. Я приглядываюсь, а они старого жида в пейсах – столетний жид, сухой, пейсатый, на ногах чулки белые, а волос аж дожелта седой, – так земляки его нагайками через изгородь скакать заставляют. Я до них: «Бога не боитесь, старый жид-то, грех какой…» Они пустили, а жидовка мне лопочет да деньги сует. Я взял. Десять крон.
За стеной тихо сперва было, и мы с Семеном притаились. Кто его знает: свой али враг? Только вдруг слышим: ой да ой! Ох да ох! Я и пытаю Семена: «Помирает ктой-то, верно, помочь, что ли?» А Семен мне: «Нишкни, пропадем». А тот все ахахаханьки да охохошеньки. Я и говорю: «Душа, – говорю, – не терпит, так помочь хочу, да и больно по-нашему ахает, по-русски». Пошел, а там немец здоровый, брошенный, животом мается. Я его тер, тер, покуда не оттер. Отошел, с нами не пошел, стал своих дожидаться. А нас так очень благодарил, как мы с Семеном уходили к свету.
Я ему руки держу, и грудью навалился, и ногами его ноги загреб. И так мне несподручно, так времени мало, дышать неколи, и одна дума: жаль до смерти, что рук-то у меня только две. По-старому слажены, а на немца той старины не хватит…
У немца башка ровно завод хороший: смажь маслицем да и работай на славу без помехи. А мы что?.. Перво-наперво биты много. Вон мне и по сей день, кромя побоев, ничего не снится. Учить не учат, бьют да мучат…
Сидит и не смотрит, волк волком. Я ему миску подставляю. «Ешь!» – говорю. Не глядит и головой закрутил. А знаю, что как пес голодный… К вечеру голову свесил, а от пищи носом крутит… Насильно потом кормить стали, нос зажмем да и зальем чего-нито. Сперва реветь пошел, ревет и ревет. А к утру сам запросил и здорово жрать начал. Как приобык, сказывал, что смерти от русских ждал, а добра никакого…
Связал я ему руки, а когда до леску дошли, я его поясом за ноги спутал, что коня. Говорю: «Садись, отдыхать станем». Он сел, я ему сейчас папироску в зубы. Усмехнулся, а сам аж синий… Спрошу: «Офицер?» – головою кив; спрошу: «Солдат?» – головою кив… Не пойму, курю и в думке прикидываю, как бы познатнее представить, чтобы наградили… Выкурил. «Вставай, – говорю, – пойдем». Молчит… Я опять сурово, он молчит… Смотрю, усмехается, и папироска в зубах потухла. Тронул – а он мертвый…
Как стемнело, мы и пошли. Они нас под руки к себе… Ну и живут, сукины дети… Чисто дворец царский, а не окопы… Сейчас это нам кофию да рому. Калякают кто как умеет: камрад да камрад… Офицер ихний бумажки раздавал так вежливенько. Взяли, не грех, всё больше неграмотные, так чего обижать? Попили, поели, про все погуторили, пора и честь знать – домой. Только засели – бежит от них солдатик, благим матом вопит: «Рятуйте, рятуйте, смерть мени будэ»… А это один землячок, как в гостях-то был, до его винтовки больно привык… Так заскучал, что с собой ее взял… Ну, дали назад. Плакал, как спасибовал, а то расстрел… Через полчаса и мы по знакомцам-то огонь открыли… Дружба дружбой, а и служба службой…
Знают немцы такое свое слово особенное. Ладится у них все не по-нашему. Ни в одеже в ихней, ни в питье да пище, ни в оружье каком не видать пороку. И дородные: видно, в свою меру жили. И что за слово у них за такое? Может, и мы бы то слово нашли, да приказу нету…
Облак ходит, облак темный,
А у нас враг неуемный,
Не уймешь его штыком,
А уймешь его умком…