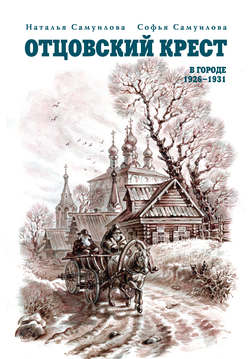Читать книгу Отцовский крест. В городе. 1926–1931 - Софья Самуилова - Страница 8
От редакции
Глава 5
О певчих и пении
ОглавлениеОтец Сергий имел очень хорошее мнение о Михаиле Васильевиче, как человеке и сослуживце, но находил, что как регент он оставляет желать многого. Большинство прихожан разделяло его взгляд. Прихожане еще помнили «старого регента Жукова», умершего от туберкулеза несколько лет назад. В последнее время Ефим Иванович не мог долго стоять; хором управлял его сын Борис Ефимыч, перешедший потом в Старый собор. Он регентовал, а отец сидел на клиросе и поднимался только в самые ответственные моменты. «И при Борисе хорошо пели, сразу как будто и не заметно разницы, – рассказывали любители пения, – а как Ефим Иваныч встанет да взмахнет руками – хор будто подменят, совсем по-другому звучит!»
Уж если Борис Ефимыч не мог угнаться за отцом, то Михаилу Васильевичу и вовсе было до него далеко. Вдобавок, не только наших приезжих, привыкших в селе к благоговейному поведению певчих, но и многих из здешних старожилов коробило то, как держались певчие на клиросе: они стояли спиной к алтарю, улыбались, перешептывались, особенно во время чтений. Регент отчаянно размахивал руками, точно все пение зависело от силы его размаха, а так как он стоял на самом виду, то внимание молящихся отвлекалось – невозможно было не следить за его движениями.
– Михаил Васильевич, если бы вы постарались делать, как другие регенты, говорил ему о. Сергий. Вот в Самаре, в Петропавловской церкви, есть регент. У него весь хор стоит лицом к алтарю, а он сам сбоку и чуть впереди их, вполоборота: и ему их видно, и им его. И совсем не машет руками, только чуть-чуть шевелит пальцами да иногда бровью, а певчие поют, как хороший музыкальный инструмент. И смотреть, и слушать приятно.
– Не умею я так, – отвечал Михаил Васильевич.
Он, и действительно, не умел, да и не считал нужным что-то менять, находил все вполне нормальным. Сам вчерашний певчий, он в разговорах на клиросе не видел ничего особенного. Когда же ему со всех сторон начали делать замечания, он уже не мог справиться с избаловавшимися людьми. При Ефиме Ивановиче Жукове на клиросе была строгая дисциплина, при Борисе Ефимовиче она ослабела, а поступивший потом регент, о котором составилось мнение, что он неверующий, и совсем распустил певчих. И уж, конечно, не Михаилу Васильевичу с его мягким характером было взять хор в руки.
Связывало его и то, что певчие с хорошими голосами, при первой же попытке призвать их к порядку, фыркали: «Уйдем в Старый собор». Там, правда, им не было такой свободы, они не были там единственными и незаменимыми, но грозить – грозили, а некоторые даже выполняли угрозу. С этим тоже приходилось считаться.
Чуть ли не основная беда Михаила Васильевича как регента состояла в том, что он не мог добиться подчинения от собственной жены. Свое первенствующее положение в домашней жизни она перенесла и на клирос. «Главный регент», – язвительно звали Прасковью Степановну обиженные ею певчие, а за ними и все прихожане. Неплохая женщина, хорошая семьянинка и хозяйка, благодаря привычке командовать мужем, она потеряла чувство такта и на клиросе сделалась нетерпимой и несправедливой. Частенько, не стесняясь тем, что это замечает вся церковь, она настаивала на исполнении именно тех вещей, которые нравились ей, пела все лучшие партии, затирая других дискантов. Особенно обидно было невестке о. Александра, Жене Моченевой, обладавшей удивительно красивым голосом, мягким, но не очень сильным. В хоре резковатый, громкий голос Прасковьи Степановны совершенно заглушал ее, а солировать ее не допускали. Дело дошло до того, что вмешался церковный совет и потребовал, чтобы Жене дали исполнять соло «Ныне отпущаеши». Когда начали готовить «На реках Вавилонских», только благодаря вмешательству того же церковного совета дискантовая партия была отдана Жене. Молящиеся получили незабываемое наслаждение. Чистый, серебристый голосок Жени, с глубоким чувством повторявший «Аще забуду… забвена буди…», вызывал слезы на глазах; как будто слышалось пение самих иудейских пленников. Мне он слышится и теперь, спустя сорок лет.
В известной мере Прасковью Степановну оправдывало то, что она действительно любила пение. Некоторые песнопения она исполняла так, что ее приятно было слушать. Когда она пела «Благословлю Господа на всякое время» за Преждеосвященной литургией или «Реку Богу: заступник мой еси», голос ее терял обычную резковатость и звенел неподдельной искренностью. Заметно было, что она сама переживает те чувства, которые передает.
Были удачи и вообще в репертуаре хора. Прежде всего «Святый Боже» Угорского распева, который с искренним удовольствием слушала даже Соня, особенно тяжело переживавшая переход «от греческого пения к итальянскому», как определил отец Сергий. Хорошо, со вкусом, которого не хватает многим более видным хорам, пели «С нами Бог», Крещенские песнопения и прокимен «Море виде и побеже». Да и «На реках Вавилонских» с Женей Моченевой производило сильное впечатление. Правда, о последнем о. Сергий говорил, что он значительно выиграл бы, если бы вместо бесчисленных повторений на разные лады каждой фразы, из них взяли бы только по одному, наиболее сильному варианту. И добавлял: «А камней-то сколько навалили, это уже совсем лишнее!.. Теряется чувство меры, основным звучанием становится не скорбь, а жестокость».
Отец Сергий горячо любил пение и, несмотря на эти недостатки, вместе с Костей старался не пропускать ни одной спевки. Возвратившись, он иногда с удовольствием напевал понравившуюся ему мелодию, а иногда комментировал: «Марш какой-то!» И, расхаживая по комнате, наглядно доказывал, что под эту музыку очень удобно маршировать. А однажды пропел фразу из песнопения (не буду указывать, из какого, чтобы не смутить тех, которые его услышат) и спросил Юлию Гурьевну и Соню: «Что это?»
– Что-то очень знакомое, но что не могу припомнить, ответила Юлия Гурьевна.
Отец Сергий еще раз пропел мелодию, уже без слов, а затем со словами, «переводя на русский язык»: «Ле-он мо-ой, ле-ен!» – и добавил с горечью: «Вот чем нас потчуют новые-то, модные композиторы!»
– Как много значит в церковном пении правильный темп, – говорил он в другой раз. – А у нас то торопятся, чуть не захлебываются, слова не выговаривают, особенно на левом клиросе, то как воз в гору тащат. Некоторые регенты, особенно второстепенные и третьестепенные, медленность и вычурность считают торжественностью. Чем больше праздник, тем больше они стараются насовать всяких концертных «номеров» с бесконечными, а часто и бессмысленными повторениями одних и тех же слов. Затянут службу, а потом начинают пропускать стихиры, не считаясь с тем, что некоторым стихирам, по их содержанию, цены нет. Понравилось им это «Ныне отпущаеши»! Я прошлый раз по часам заметил, ровно пятнадцать минут пели. Сколько стихир можно бы пропеть за это время, если бы не увлекались итальянщиной! Эти все сложные «Херувимские» да «Отче наш» – «птички» – хороши для духовных концертов, какие устраивались раньше во внебогослужебное время, а не для самого богослужения. На концерте можно полюбоваться и голосами певцов, и искусством, с которым они справляются с разными, чуть не оперными, фокусами. А за богослужением нужно другое, нужно, чтобы еще пение создавало и усиливало молитвенное настроение – его «птичкой» не достичь. Наши лучшие духовные композиторы: Иоанн Дамаскин, Косьма Маюмский – знали этот секрет, и лучше их гласовых напевов ничего не придумаешь. А у нас в последнее время привыкли гласовое пение считать за ничто. Какие-то деревенские регентишки и хоришки и то норовят петь «понотно» (хотя в нотах почти ничего не смыслят), а так называемое «простое» пение оставили левому клиросу. А оно, кстати сказать, совсем непростое, далеко не всякий хор сумеет как следует исполнить его, не подменяя всякими «придворными» и тому подобными распевами. Конечно, если поют два старика да три старухи, хорошего не получится. А когда на него, хотя бы и в селе, обращено должное внимание, то споют так, что заслушается. А вот у епископа Тихона в его миссионерской школе пели по-единоверчески молодые, звучные голоса, – куда до них нашему хору! И в семинарии у нас, бывало, все больше гласовое пели (нотное очень мало, и только настоящих церковных композиторов, вроде Архангельского), – а сколько людей приходили слушать!
– Да, я тоже очень любила семинарское пение, – подтверждала Юлия Гурьевна, – очень любила туда ходить. Да и, вообще, мне больше нравится мужское пение.
– Это еще новый вопрос. Женские голоса по природе резкие и страстные, они заглушают мужчин. Чтобы они не преобладали в хоре, а украшали его, женщины должны составлять примерно четвертую часть поющих, а в современных хорах бывает наоборот – мужчин четвертая, а то и пятая часть.
На квартиру к новому батюшке частенько заходил по-соседски один из церковных попечителей, Григорий Амплеич Калабин, маленький, худенький и очень горячий старичок. Как-то так получалось, что он почти всегда попадал во время обеда.
– Садитесь к столу, Григорий Амплеич, – приглашали его.
– Спасибо, не хочу, – солидно отвечал он. – Сейчас только пообедал. Щи с горохом ел.
Он брал стул и усаживался чуть поодаль от стола, аккуратно устроив между ног довольно увесистую палку.
Разговор начинался с текущих соборных дел, переходил на воспоминания о недавнем прошлом, снова возвращался к собору и т. д. Григорий Амплеич был ярым противником обновленчества, в 1923 году вместе с другими членами церковного совета привлекался к суду за сопротивление, оказанное уполномоченному ВЦУ, и очень любил об этом рассказывать.
– Ведь оправдали нас, – говорил он. – Значит, и суд согласился, что по-другому мы не могли поступить. А что же было терпеть, когда Варин к нам в собор лез? Мы замок навесили, а он со своими явился, хотели ломать. Тут, конечно, народ сбежался, попечители пришли, не дали. Я вот этой палкой!..
Его глазенки возбужденно блестели, палка внушительно стучала об пол, убедительно подчеркивая наиболее острые моменты рассказа. С языка, по адресу Барина, с силой срывались эпитеты: «чубук»… «лоскут»… – самые резкие выражения, которые позволил себе употреблять маленький попечитель. Можно было поверить, что противники у Барина оказались не из смирных.
Григорий Амплеич стоял в церкви на левом клиросе, подпевал там дискантом, как его когда-то учили в школе, и имел свой идеал церковного пения. Он не забирался в дебри теории, а рассуждал попросту, требовал, чтобы пение было «церковное, а не как в театре», и чтобы певчие ни своим поведением, ни самим пением не нарушали церковного благочиния.
– Не могут начать сразу! – горячился он. – Священник возглас даст, а они «докают» да «микают», камертон разогревают.
Эта привычка не беспокоиться о непрерывности богослужения, задавать и перезадавать тон иногда в самые важные моменты, даже во время Евхаристийного канона, волновала и о. Сергия. Еще больше его возмущало то, что даже в эти моменты регент и певчие считаются только с собой, по собственной фантазии выбирая то очень быстрый, то очень медленный напев.
Во время Евхаристийного канона, хотя бы и не сам служил, хочется сосредоточиться, углубиться, – говорил о. Сергий, объясняя, почему не выходит в это время исповедовать. Он и в селе перестал руководить хором отчасти для того, чтобы не рассеиваться. – А то читаешь тайные молитвы и прислушиваешься, как певчие такую-то и такую-то ноту возьмут.
В селе он мог не следить за пением, знал, что певчие возьмут нужный темп и кончат одновременно с ним, а если поторопятся, то и повторят последние слова. А здесь?
– Я евхаристийные молитвы читаю, в это время все должно идти по порядку, в привычном ритме, чтобы не нарушалось молитвенное настроение, – жаловался он. – А тут читаешь и слышишь, что на клиросе молчат: спели что-то быстрое и меня поджидают. Тут невольно начинаешь нервничать, торопиться. А то еще хуже, дойдешь до самого важного момента, скажешь начало стиха, нужно возглашать: «Приимите, ядите!» – а певчие все свои рулады выводят. Вот и сохрани тут молитвенное настроение перед самым Пресуществлением!
Он ненадолго замолкал, чтобы дать почувствовать серьезность сказанного, особенно если его собеседником был Михаил Васильевич, потом продолжал.
– Рассказывали про митрополита Филарета Киевского, что ему однажды пришлось служить в присутствии императора Николая Первого. Придворные перед началом шепнули митрополиту что, мол, его величество торопится, нужно кончить литургию за час. А он два прослужил и на сделанное ему замечание ответил: «В присутствии Царя Небесного я не могу помнить о земном». Знаете, что Николай Первый из себя представлял? А вы хотите, чтобы я к певчим приноравливался!
По поводу какого-то такого «Господи, помилуй», в котором сопрано выделывает замысловатые коленца, один слушатель высказался так: «Посмотрел бы я, как она запоет „Господи, помилуй“, когда смерть пред собой увидит; пожалуй, забудет все эти выкрутасы-то».