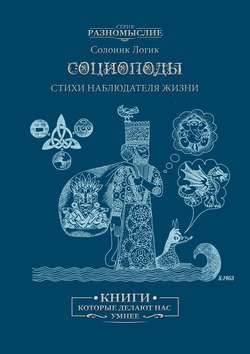Читать книгу Социоподы. Стихи наблюдателя жизни - Солоинк Логик - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Социоподы
Оглавление1265.. Абсолютная истина
…то чего нет…
1266.2.
Сырая истина на вкус просто ужасная —
в горло не лезет, сидишь – давишься;
как земляная картофища
на редкость пресная и гадостная…
Приготовленная искусно истина
изысканна глубиной смысла вкуса;
здравые ей восхищаются,
а громкие аж трясутся,
в глубине её
без крика они сморщиваются и гнутся…
Пережёванная во рту истина
– на вкус просто страшна;
здравые плюются, корчась,
а громкие, дико радуясь,
кричат: «гадость! гадость! гадость!»
*
А что сказать об этом мире?… Мир – как мир…
Похож он будто бы на сыр и состоит из дыр.
На первый взгляд, его, казалось, даже нет, да ну и что?
Один чёрт, лбом ты бьёшься о стекло.
И чувствуя себя набором цифр…,
в своих деяниях ищешь смысл
и думаешь: «вот ерунда…
кто так придумал так тебя…»
Система мотивации проста: в угоду тарахтению дождя,
ту матрицу создали из песка, чтобы отсеять плевла от зерна.
В ней есть наборы управляющих команд,
обратных связей и цветных гирлянд;
задача, в общем-то, предельно их ясна —
не стоит белке слазить с колеса.
1267.3. Ангелы.
В ведре помойном души грешные томились;
он молча вылил их в котел и стал мешать…
они варились и ругались,
а он, как камень, продолжал молчать.
Потом он вылил в куб их перегонный,
они молились и просили пощадить,
а он улыбкой смеялся странной
и не хотел, как прежде, говорить.
И скоро их замолкли голоса…
как вдруг
из варева греха родился
ангел белый
и улетел куда-то в облака…
*
Ангелов разобрали на перья,
украсили ими стены,
в храмах – утешение смертных,
башни-иглы уперлись в небо…
с огромными арками, чтобы
пролезть сквозь них мог каждый,
хотя б в жизни дважды…
Правда,
чем выше иль шире грешный,
тем больше ему тесно и мало места,
но, слава богу, есть метод верный —
строить башни выше,
метров хотя б в двести…
*
Пучеброд пучеглазился,
пучеглаз пучебродился,
прикрикивая из горла наружу:
«радуйтесь сиесекундно! секунде радуйтесь!
пыля улицы, грызя глину блюдищ…
кто там следующий каминищь бросит,
не знаю, но в хлам он тут все раскрУшит…»
добр день, лестнище
довольно грошовых истин,
я вижу, тебя одели в эскалатор,
ползущий в этаж глубоко ниже…
мысль проросла густейшим волосом,
сколько её еще шевелится – не вижу;
шар она остро злЮЩЩИЙ,
проволочный, когтистый, колЮЩЩИЙ…
я завертел в мозга чЕрвя,
чтоб страх он весь до дна сОжрал,
окаменел там и стержнем
стал… железоНИКЕЛЬбетонным…
кузнечик не слаб —
он прыток,
в нём больше силИщ кузнечных,
чем в иных железокобыльных.
1268.4.
И каждый нищий платил золотом за аренду золота,
чтобы носить золото и не казаться нищим.
Истину видеть хотел он, хотел правду узнать,
но с удивлением столкнулся с таким моментом:
чёрное покрасили белым, а белое опустили в грязь
и зайцы уж молятся богу волчьему,
а шакалы, как ангелы, обелены…
у старых ангелов оторваны крылья
и наколото клеймо сатаны;
и издалека уж ничего не скажешь,
уже и глаза врут,
слова вообще ничего не значат,
а капать глубже, конечно же, не дают.
И на охрану секретов спрятанных
поставили талантливых горлопанов,
орущих, как укушенные и резанные,
когда кто-нибудь проходит рядом.
Дети, одетые в траур, грызли орехи;
зубы их таяли, глаза чернели;
а на грязной улице плавали пиявки
и беспощадно жирели,
питаясь падалью, гниющей в кошельках богатеев.
1269.5.
«Прах возвратится в прах» —
все почести оказаны покойному…
свободен человек,
чьё странствие окончено… навек.
Нет белого, нет чёрного
и время не бежит.
Нет сожалений прошлого
и завтра не страшит.
Обиды успокоились,
желанья улеглись;
счастливый человек из прошлого,
чьё странствие окончено —
уснул навек и спит…
Что вам живым до мирного
из прошлого, усохшего?
Зачем вы собрались?
Земные будни прожиты…
Счастливый человек,
чьё странствие окончено —
спокоен, наконец…
1270.6.
Он смешал свою жизнь
с пыльной дорогой
под глубоким небом;
земля своим пухом была ближе,
но хотелось куда-то выше…
Ходил говорить с богом…
но куда-то там!
Очередь без конца и края
– желающих валом…
Ему говорили: «ищи ещё… подожди»,
– но поздно —
утекли, кончились дожди,
и стало всё несерьёзно…
Человек, изучавший человека
для человека,
вдруг понял —
он сам очень далёк
от самого первого
эталонного человека:
самый первый человек
был очень похож на человека,
а самый последний человек
был больше похож на художника
или дрянного поэта.
Сексуальная одержимость
и социальный оптимизм элегантных баранов,
вещающих о перспективах
для шагающих стадом в тупик
жирных баранов;
Тупик с перспективой…
говорят, это судьба…
чёрт его знает, но почему-то
не очень верится, да и не хочется туда.
Но, правда, никто и не спрашивает,
пинают, улыбаясь, под зад,
говорят, «Надо! Надо!
Быстрей, быстрей… Не останавливайся!» – говорят.
Сюжет, конечно, с интригой
и интрига сильна…
не понятно, кто и зачем…
не понятно только, когда.
1271.6. Казачья конная (песня)
1.
Если долго-долго-долго
ехать прямо по дороге,
неизменно ты найдёшь там
голубое сине море.
Там за синим-синим морем,
там земля лежит чужая —
в ней сокровище зарыто,
что давно душа искала…
Что давно душа искала,
что давно душа желала..
И давно она хотела,
Но не могла найти.
Она о нём мечтала.
Она его украла.
Она его искала
и вот, наконец, нашла.
2.
Мы живём с тобой на воле,
По-другому нам никак.
Будто кони в чистом поле,
Будто ветер в облаках.
Мы живём с тобой на воле,
Нам на воле хорошо.
И на целом белом свете
Нет дороже ничего.
Мы шагаем ниоткуда,
Мы шагаем в никуда.
Наша жизнь дорогой льётся
Словно бурная река
Мы живём и не боимся,
Не боимся ничего.
Даже чёрт из преисподни
Ненавидит нас за то.
Даже чёрт из преисподни
Ненавидит нас за то,
Что живём мы, не боясь,
Даже чёрта самого.
1272.7.
Я по палате летаю бумажным самолетиком
с картонным пропеллером и бумажной душой.
Стеклянные насекомые, замершие на стенах, не мигая, следят за мной,
а мухи, что правят миром, – наги.
Некоторые мухи спрятались в реки, некоторые давно мертвы;
темно… мухи в сумерках грызут орехи и таких мух большинство.
*
Я знаю, жжёт тебя пожар и что-то гложет;
свободу даришь ты жукам, когда лишь можешь.
Внутри хитиновой брони им мало места,
ты извлекаешь их на свет движеньем жеста.
И хлеб едят из твоих рук седые муравьи,
иглой проткнули их глаза – теперь они рабы.
И только весело галдят игривые стрекозы,
им жить осталось до зимы,
а дальше ждут морозы.
Им холода не пережить – наружу мясом,
но вариант у них всё ж есть… смотрите рядом.
Жуки издохли, очень жаль, не пережив свободы,
но их броню, пускай, берут прекрасные стрекозы…
1273.8.
Свет сотрясает на кухне люстру
– мы призываем к себе Заратустру;
планета раскачивается под ногами
людей – наехало больше, чем ждали.
Задние мысли толкают передних
прямо вперед на баррикады бедных,
зло проявилось, чтобы подняться:
«Господа, нам надо срочно подраться!»
Это совсем неприятно для глаза,
но в опасности вся наша серая раса —
мест теперь нету даже в сортире,
мы все ощущаем себя мишенью в тире.
Сжимая пространство и прячась в тенях,
придётся скоро раком жить на коленях;
вчера величье, сегодня проза
– вот такая у нас странная поза.
Гул турбины вместо воды из крана
– как истина льётся с голубого холста экрана,
сильное гибнет, сгорая в борьбе, как пламя,
а в щелях слабое плодится, жирея, племя.
И, надо думать, вторых объятья
куда приятней, чем первых распятья;
всё скручивается одной спиралью со спорной,
но абсолютно честной этил-моралью.
Орёл теперь, потеряв корону,
напоминает собой корову,
которая кружит и кружит по полю
вдоль общей орбиты стогов соломы,…
Без длинного корня, как символа веры,
он и она стали рабами системы —
так было всегда и так будет после,
но есть некоторые вопросы.
1274.9.
Пустые глазницы, хищные лица,
правда, видимая первому встречному
истина, неведомая никому,
запреты безликие, пристальные
и правила, записанные на льду.
Пустяк, сделанный главным законом,
– суть вещей, втоптанная в грязь.
Головы, беременные глупостью…
мысли вязкие, как мазь.
Бессмысленность бессмысленных идей;
бессмысленные игры тех,
кто первый раз живёт на свете,
непринятое важное всерьёз
и несерьёзное на рассмотрение конгресса.
Шагающие временем часы
и тикающие чайники на плитах,
бушующие в топках огоньки
и тихие берёзовые крыши.
Лимон, по капле убегающий дождём;
лук, предрекающий весною грозы;
весна, похожая на сон,
и капающий сон дождя слезою.
Всё было уж не раз, всё будет не однажды,
цветы распустятся опять и зацветут безумием бумажным…
И видимость борьбы – иллюзия сражений,
как тленные цветы, как древние видения.
1275.10.
Чужой народ под властью времени,
журчащий робко брод,
берёзовой коры безвременье
и шум толпы, и топот ног…
Где раньше трубы пели медные,
где раньше пепел тлел и пел,
там ныне царствует безвременно,
огонь и прах сожжённых тел.
В горизонтальном пейзаже
гротескных двигающихся лиц
машины-рыбы в воде улиц и крылья,
просыпающихся птиц…
А под ногами рвутся лужи,
я ускоряю шаг – почти плыву
и в отражениях окон слышу звуки,
но и от них, скорей, бегу.
У города свои желания,
мой город никогда не спит,
Но иногда до тла сгорает
и до утра ещё горит.
Толпа беснуется, толпа качается;
автомобили, как петарды, разрываются,
а их хозяева в пыли катаются,
в истерике от смеха задыхаются.
И все в безумии ломается,
толпа волною колыхается,
под ритмы музыки качающей
она волнуется и кружится.
Заезжий гость лягает пяткою,
а тихоглазая цветёт;
в толпе многоголосой шут стенается
и что-то там кричит, орёт.
А в медном зеркале обманчивом
звон, отражаясь серебром,
провозглашает царя богом,
а может быть, опять, шутом.
1276.11.
Искривлено, искривлена, кривой,
как зеркало, дрожит над головой
и, отделяя шаг от пустоты,
взрывает голову звон тишины.
Он замирает в миллиметре от конца;
шаг нужен, но есть вопрос «Куда?»
Баланс так хрупок, паутина так тонка
– у пропасти совсем не видно дна.
Три всадника: у них есть три коня,
есть три дороги и цель всего одна;
определённо, всё предрешено,
но всё же что-то тут не то…
Вечерняя грязь замирает в пыли,
в комьях земли, в всплеске воды,
под соснами мягкою тишиной
крадётся, как тень, по дороге ночной.
Её отделяет всего два шага
от шума вначале и от конца;
дождя не любя, не боясь, не дрожа,
она веселится, жизнь так любя.
1277.12.
Вот шествие по улице идёт
навалом, прёт вперед и прёт,
смывая мусор к берегам,
к свисающим стеной домам.
Мерещатся трамваи по углам,
страсть непонятного животного веселья,
над фабрикой предутренний туман
и тарахтящие какие-то известья.
Разламывая скорлупу утра
и наливая в лужи щебень,
день выползает из угла
– как индюка бордовый гребень.
Он предлагает три пути, но все они говно,
придётся делать – как всегда и лезть опять в окно.
Секрета нет и нужно лишь успеть
найти, кому по роже дать и обмануть посметь.
С газонной согнутой травы слепая спесь сойдёт,
когда на шум календаря декабрь свой снег прольёт.
1278.13. Начало.
Однажды жил один человек —
человек как человек, ничего особенного.
Так …разве что не сиделось ему на месте,
ёрзалось всё зачем-то куда-то.
Жил за троих, работал за семерых;
делал то, что другими не делалось;
думал о том, о чём другими не думалось.
И как-то ночью сон ему приснился чудесный,
в котором вопрос прозвучал один интересный,
с ответом совершено чётким и очень конкретным.
*
«Что такое Вселенная?»
****************************
– Да ты что!!! Правда? Вот это да!
Сон долог был… прошли года…
30 лет чужая длилась война,
но, умирая, он помнил эти слова
в мире, сгоревшем дотла.
Закрывая глаза вчера,
он засыпал навсегда.
А потом
хохотало небо над головой,
30 лет войны за спиной.
А он живой
сегодня вернулся домой,
снова живой.
Открыл глаза и проснулся…
*
Сверху нарисовали картину,
поставили задачу и определили мессИю;
3 года пыхтя и пуская пары, он подбирал слова,
которые тему бы раскрыли…
Каждый раз как он рассказывал новому человеку
МЫСЛЬ и видел в глазах непонимание или
усмешку, он придумывал несколько новых слов.
И так, постепенно, у него их становилось
всё больше и больше…
Из обычного человека
он стал абсолютным фанатиком,
полным самых разных слов, идей, решений.
Словно виночерпий, черпающий огромным черпаком
из огромной бочки вино, он доставал ответы
– как фокусник из шляпы кроликов.
Бесконечная энергия пронизывала его тело,
бегая мурашками по коже…
Там, где раньше возвышались глухие стены,
теперь прорастали двери…
Когда его били – он смеялся,
когда над ним смеялись – радовался вниманию,
когда не обращали внимания: снимал штаны,
показывал голую задницу
и это делало его гораздо заметнее.
Он не признавал авторитетов, не верил в чужие слова…
Ему говорили «Зачем оно тебе?» – «Надо», – отвечал.
Его не спрашивали, когда выбирали.
Жаловались, ничего не понятно
– менял в предложениях слова местами.
Кричали «Дичайшая ерунда!»
– Парировал «С новым такое всегда…»
Отзывались тогда, это было 100 раз,
объяснял нюансы; меняют картину подчас, —
Кривились «– это никому не нужно!»
Усмехался: «мнение «никого» не важно».
Шептались: «– это бессмысленно и бесперспективно»,
– втолковывал, суть в том, чтоб идти беспрерывно.
Резюмировали «Нет практического применения», —
а он – «подумайте, прежде чем выдавать суждения».
И ведь не нужно, чтоб ВСЕ,
Важно, – чтоб эти 12
поняли, что ЭТО их МИССИЯ на Земле:
старый мир катится в никуда, его не спасти…
И даже нет смысла ломать, – он сам с песней идёт умирать,
а ИХ задача проста – пора начать новый мир строить,
пока хватает сырья…
На этом пути
его вера закалилась до той степени,
когда уже простая мысль могла менять реальность.
И она стала меняться…
*
Мы строим новый мир.
И нам нужны пионеры…
…присоединяйтесь!
*
Лысый и очень нежный
целую блестящий череп в засос,
тряпочкой натираю, любуюсь до слез.
Мой ветер ещё не стих;
он – который открывает окно на север
в безумии своём велик.
Порочный пророк учит правилам,
посланным с потолка,
каждый сможет открыть настежь дверь
и жить так до конца дня.
В царстве весёлых и пьяных
поезд катится под откос,
гнилые пророки его обрекают,
а он кряхтит, но живёт.
Тысячи лет под Солнцем,
забив болт в приказы вождей,
мы катимся прямо в Солнце
под хохот весёлых дней.
Минуты так мало, но надо успеть:
секунды бегут, теряясь,
так зыбко и так легко
дрожит тишина и тает…
1279.14.
В ночь накануне Степана,
которая длится год,
маятник развернётся в сторону
в час, как президент пропоёт.
В мире без греха станет постенько,
словно кашицей 10 лет с утреца
что-то где-то скрипнет, отломится,
отпустив взвод пружины с курка…
Струны зазвенят,
в воде рыба оглохнет, словно
то, чем чавкаешь ты,
для говорения станет пригодно.
Сладкая баба, ноги с потолка свесив,
Закричит: «смирно! вольно!!!»
Скажет: «надо тебе… Бери!
А – нет… так катись… к чёрту».
1280.15.
И вот он с трибуны
пинал ногами, топча и пропихивая слова
прямо из горла в головы,
сквозь зубы вылетали, жужжа,
и лезли в уши осы его и оводы.
Не было мёда сладкого,
мёд давно сладкий кончился;
перец чили огненный
– теперь вместо… вместо клевера рощился.
Чтобы пучило мозги,
чтобы… чтобы кручило дерево
деревянное, чтоб выжигалось в мозгах…
в мозгах зелёное плесево.
Чтоб каждый, кто стоял,
тупо уставившись,
вдруг почувствовал, как внутри…
как внутри все расплавилось.
Чтоб ухмылка глупая,
лицо перекосившая, выпрямилась
и как муха, из сиропа не вылезя,
сгинула… сгинула и рассыпалась.
И чтоб воздух хрустящий
перекосило предчувствием мрачным,
челюсти вывертев в крик…
в крик помидорно
перекошенно страшный.
1281.16. Режу деньги.
Горящие крылья под кислотным дождём
и грешные мысли в кармане,
я клялся, что не вернусь сюда,
но Бог мой решил иначе.
Стекает слезою вчерашний день
и на лету замерзает
обрывки крыльев горят,
но никогда не сгорают.
Я режу деньги дрожащей рукой,
терзаю их и сжигаю;
дьявол внутри их живой,
я его убиваю.
Бульдозером по городам,
по торговым центрам
ровняю с землей рай
– новое открываю.
Воля сжалась в кулак,
давление стало сильнее,
давит и давит висок
от ощущения, что так и надо.
1282.17.
Электрический свет в глазах,
как лампочка в темноте;
дальний смотрит вперед
ближний под ноги мне.
Ближний, казалось, – друг,
дальний, казался – враг,
ну а если по существу,
все были в дураках.
В зеркале отражаясь,
тень губы свои кривит,
«делай, что хочешь, лень,
я отдохну», – говорит.
И, как на снегу зимой,
голый сидит один,
ощущая всем телом лёд
и немного огня внутри.
А с утра тёплый душ
из ледяной воды
погонит его прочь
из одной до другой норы.
Запертый от гостей,
построит из песка сны
на берегу белого моря
и его красной воды.
И, колыхаясь, тень…
пространства над головой
Капает как слеза,
…в лужу под фонарём.
Новой искрой день
дымом от сигарет
натянется как струна,
ловя на бегу рассвет.
Лампочки перегрев
счастью не даст сгореть,
намекая, что свет
надо к ночи сберечь.
1283.18.
Мастера – шарлатаны…
гипнотический кролик – родственник жабы,
зловещие демоны и в золоте твари,
живущие в вечном пьяном угаре;
бродящие по бронзовым крышам звери
и их политические проститутки-шлюхи,
парадом шагающие по тротуарам —
их стало навалом, навалом, навалом
в этом варварском и кричащем бедламе.
Глумливо улюлюкающие толпы,
как овцы блеют и мычат,
Их пастухи за нитки дергают
и заставляют танцевать.
А раньше кукловодам было трудно:
попробуй к каждому верёвку привяжи,
а нынче всё предельно просто:
всё в паутине интернета и ТВ.
Но ничего, как сказано однажды:
ничто не вечно под луной…
и если очень постараться,
то карты сложатся в расклад любой.
1284.19.
Изогнутый в козлиный рог подкрался тихий рок,
он всем сказал, что он пророк, а был на самом деле Бог.
Цель его – борьбу с сусликами
совместить с разведением кроликов,
чтоб убить сразу много зайцев,
не выстрелив, не задохнувшись от смеха коликов.
Каменья замерли временем, расцвели по весне весной,
проросли чистым семенем с золотой гранёной каймой.
Взяв острый нож, ты уголки у рта в улыбку обрати,
чтобы всегда готовым быть по правилам идти.
Ты должен улыбаться и молчать,
свой хлеб жевать, не выступать,
коль скажут побежать – беги,
прикажут «стой» – замри, умри.
Мир создан не тебе, ты рот не разевай,
будь рад, коль честь доверили тебе
быть винтиком в огромном колесе.
А будешь выступать
– подохнешь с голоду,
как никому не/нужная запчасть
без роду – племени.
1285.20.
Мой голос…
Я подымаю его выше,
внизу ему мало места,
ему нужно, очень нужно
бродить по крышам;
ему не нужны столкновения…,
не нужны преграды и стены,
ему нужно дышать полной грудью…,
стать светом, стать тенью.
Прикосновения ног
по жёлтой коже щеки
противно ползут в рот,
как раки по дну реки;
жужжание издалека
иглой проникает в мозг,
должно быть, уже пора…
Встаю, за мною пришли.
Всё скоро кончится…
мой мягкий пепел будет жить
в просторной банке.
Мне очень мало почему-то ничего
и очень много почему-то, когда много;
мне хочется быть посредине у всего,
мне хочется везде быть понемногу.
1286.21.
Ошибки совсем не таясь,
гордо идут по кругу;
мы не боимся их признавать,
им тоже плевать на наши потуги.
И никто не знает, зачем
нужно выходить утром рано,
зачем возвращаться ночью,
но говорят, – так надо…
И кто-то из великих заметил,
что мы будем жить,
пока, неизбежно, не сдохнем,
и после, ни о чём не жалея,
сверху будем смотреть на живущих
и подыхать от смеха,
пока не лопнем.
1287.22.
Он вышел на крышу мира
и глотнул свежий ветер,
выдохнул обратно
и пошёл назад
дышать смог и пепел.
Никогда не станут пустыми тюрьмы,
всегда будут там жить люди
в уютных своих квартирах;
не нужны им двери и окна,
не нужен воздух и ветер,
как в клетке звери звереют
и превращаются в пепел.
Родина жрёт сыновей
и продаёт дочерей,
родине нужны деньги,
чтобы кормить новых детей.
Мумии правят страной
с вершины своих пирамид,
уже тысячи лет назад
умер последний из них.
Праведники точат ножи,
грешникам наливают яд —
колесо со скрипом
проворачивается назад.
В мутной воде озёр
трещина разломала лёд
и свет засветил темноту
в самую глубину вод.
1288.23.
Они врагов себе нарисовали;
их честный бизнес – грязная война…
они себя за наш счёт прославляли,
пока мы тут пахали до утра.
Им нужен враг, чтоб получать медали,
чтобы бюджеты, деньги, ордена
на них из рога изобилия катились,
как дождём вода.
И честно…, не люблю героев,
меня тошнит от их прилизанных и похотливых рож;
я не люблю ни генералов, ни министров
и тех, кто в ближний круг их вхож.
Меня тошнит от многого, не скрою,
и многое тошнит уж от меня,
но жизнь идёт своею чередою
и вместе с ней иду и я.
1289.24. «Уметь целоваться»
*
Если хочешь ты в жизни подняться,
должен уметь ты целоваться;
и даже не просто уметь целоваться,
а именно в попу уметь целоваться.
И даже не столько,
сколько в попу уметь целоваться,
сколько знать, – с кем именно этим
должен ты заниматься.
Ты стратегию в жизни должен придумать,
нужных людей в цепочку построить…
И главный секрет должен ты знать —
попа желания умеет все исполнять.
Поцелуй самую главную попу
и будет всё хорошо,
жизнь твоя сложится просто отлично,
как в старом немом кино…
Чтобы попу уметь целовать,
ты должен образование
многие годы получать;
учиться, работать и день, и всю ночь,
и, может быть,
если тебе повезёт,
ты чести добьёшься… великой такой,
допустят тебя до попы до той…
Но, правда, можно и не учиться,
талант в тебе с детства может открыться.
Но это талант, с ним надо родиться…
И если тебе так повезло,
… этим можно гордиться
и в жизни ты многого можешь добиться…
Чтобы до главной попы добраться,
ты должен сначала потренироваться —
тут Иерархия строгая есть:
всех замов, помощников, мелких начальников
по кругу пройти ты просто обязан,
чтобы след свой
на попе ихней оставить,
и, главное, в этом
поменьше слюнявить, —
надо думать о людях,
что за тобой в очередь встанут…
Главное, в нужный момент не растеряться
и в нужную позу сгруппироваться.
Доверие свое оправдать —
не каждому второй шанс могут дать.
И вот ты до главной попы добрался.
Считай, что ты в жизни своей поднялся —
исполнит она все желания,
если, конечно, ты будешь стараться
и изменять ей не будешь пытаться.
1290.25.
Ворочаться в постели куда теплей,
чем слушать пение метели,
бредя в мороз, едва открывши глаза – щели;
чёрт разбери куда… б
ыть может, как всегда,
работать не на себя, а для себя,
чтоб пару дней ещё прожить,
не сдохнув, до утра.
Ужасно надоело жить,
живя лишь до утра;
по кругу бегая, как белка,
туда – сюда…
и крутишь колесо, и вроде ты бежишь,
а клетка, вот зараза, на месте как стояла, так стоит.
1291.26.
Отрицаем господ,
именующих себя правителями;
отрицаем героев,
именующих себя праведниками.
И всякого мы отрицаем,
посягнувшего на свободу нашу,
как бы ни был прав,
он в праве своём и считал себя
справедливостью самой – самой.
Отвергаем мы больших и огромных,
как колоссы возвышающихся;
отвергаем величественных,
хозяевами неба себя считающих.
Не веруем мы в пастухов,
стадами повелевающих;
не веруем волкам и лисам хитрым,
кур жрущим и вечно жующим;
Не веруем
провозгласившим себя выше других
и свысока мудро смотрящим.
Никому мы не веруем,
кроме самих себя,
самим себе за себя отвечающих
и самим себе подотчётным.
1292.27.
Они зависят от покровительства тех,
кого целуют в жопу,
всё их благополучие
держится на одном честном слове.
Требуют свободу вешатели
– им её не хватает,
«мало – мало, – говорят, – вешаем,
надо бы прибавить».
Рыба живёт в пластиковом пакетике,
иногда её выпускают;
поплавает в луже и думает:
«ну его нафиг»…
Вижу, что, стоя на коленях,
верят они, что – сила…
думают, вот встанут,
и ждёт их малина.
И хотя у них нет оружия в борьбе за власть,
всегда есть возможность погрызть орехи
и помечтать всласть.
1293.28.
Мой город – жрущая, ревущая громада,
застывшая потоком льда машин;
я манекен в стекле её витрины
– безумный дикий арлекин.
Встаю я ночью на работу,
с работы ночью прихожу,
вся жизнь моя проходит на дороге,
как вечный сфинкс, всегда стою.
Мои правители совсем как дети:
играют в куклы в кукольных мирах —
им представляется всё в ином свете,
чем мне, игрушке, в детских их руках.
Мои правители святые иудеи,
в их мудрости я усомниться не могу;
меня волнуют лишь мои проблемы,
ведь это я молюсь иуде королю.
И я служу им верностью покорной,
как таракан, питаясь крошками стола,
целую ноги, руки, лица…
неблагодарная и подлая змея.
1294.29.
Призрак,
живущий в кварталах этого города —
…города, где грешники
бродят сквозь игольное ушко
каждый день на работу;
…города, где неоновые цветы,
покрытые фосфором,
никогда не спят и никогда не вянут;
…города, где мёртвые звери
всегда становятся чучелом и продолжают так жить.
Он любит этот город,
где всё живое уживается с мёртвым,
где живущие в пробках машины
наслаждаются своим одиночеством,
перешептываясь
с громадами высоких мостов,
где шпили дворцов-небоскрёбов,
едва видимые выше линий тумана,
маяком привлекают снизу всех мух.
Он любит этот город,
где голые люди падают ниц там, где,
возможно,
завтра пройдёт банковский служащий,
носящий в кармане несгораемый сейф,
полный залоговых душ.
Он любит этот город,
полный ноликов на счетах,
состоящий из ноликов;
рисующих себе нолики ноликов
и ещё раз других ноликов,
катающихся иногда на роликах.
Он любит этот город,
где хитрые сказали всем глупым,
что чёрное – это белое,
а бесхитростные в это всецело поверили.
…город, где квадратное кажется круглым
под ропот безработных;
…город, где люди много работают,
чтоб поесть и дойти до работы.
1295.30.
В нашем городе все пили водку
и дышали из баночек кислород,
электричество лилось по трубам
и смывалось потом в унитаз.
И был случай:
куры научились летать,
но быстро устали
и теперь, не зная как слезть,
на упругих ветвях сидели и срали
прямо на голую в головы власть.
Восемь других собрались,
думая, как же тут быть…
искренне говорили,
решали, как жить,
а куры, меж тем,
сами сдохли и сами упали.
Все быстро вздохнули,
и, было, пошли по домам,
Но, как говорится, дурной пример
разрастается,
как сорняк по головам;
другой скот тоже захотел летать.
И ладно бы куры…,
свиньи, обдирая кору со стволов,
полезли на упругие ветви дубов
искать желуди и кров.
1296.31.
Заметил вот такую я тенденцию:
из безработицы ныряем в революцию,
конечно, можно хлеба дать и зрелища,
но всё равно – картинка не изменится.
Реальность кое-что добавила в действительность —
персонально можно каждого зомбировать:
по ящику болтающие головы,
онлайн-игрушки, фоны и компьютеры.
А под предлогом безопасности и равенства
ещё и чипы вскорости появятся,
ну чтобы уже наверняка
никто не вылез из-под колпака.
Народ, конечно, сперва взбесится,
но, если всё приправить сдобным соусом —
здоровье, льготы, эмиграция иль проституция…
глядишь, порадуется;
в субботу выйдет, по торговым центрам прогуляется,
поест мороженое и успокоится.
Опять ж наука развивается
и вскорости мы сгинем все
в компьютерной реальности,
у каждого появится свой дом и сад
и пару метров под железный саркофаг.
А если уж наука подведёт,
то вариант надёжный есть всегда —
хорошая войнушка уж не раз
спасала падающего колосса ржавый зад.
1297.32.
У вещей пропало желание размножаться —
их усиленно заставляют машины,
набивая ими квартиры и магазины
без всякой на то веской причины.
Они не успевают даже родиться,
подумать или умыться,
их штампуют, пакуют
и ставят печати на одинаковые их лица.
Какая тут к черту индивидуальность,
однотипная серая моноформатность —
все одинаково сшиты лекала,
для разнообразия меняем цвета лишь.
А им бы хотелось почувствовать руки —
Их нежность, быть может, небрежность.
1298.33.
Накатила радость с привкусом соли,
воды, правда, нету больше,
но это детали.
Праздные статуи дома
со странной геометрией молчали,
его жильцы выбросили ключи.
И ушли с концами.
Лишь вышколенная болонка
гавкала, как всегда,
думая, что вот-вот накормят с утра.
Позже, слонялась в аллеях,
и лишь галька вкусно хрустела,
напоминая о сочных котлетах.
Односторонность печальна
– нету совсем перспективы,
хочется некой трёхмерности
в отображении этой картины.
Душные катакомбы достали,
надоели линии лабиринтов,
хочется иллюзорной свободы,
но сытой, а не голодной.
1299.34.
Взбесились клоуны – ломают цирк;
похоже, руки их соскучились по крови,
они решают: быть или не быть…
и репетируют войну в миниатюре.
Их чувства обострились от жары,
их нервы натянулись, как канаты;
всё станет лучше,
если вдруг пойдут дожди,
ну а пока гостей сжигают в зале.
Не аплодирует никто —
у зрителей пропало всякое желание смеяться,
они бы вылезли в окно,
но окон, к сожалению, нет у здания.
1300.35.
Кролик пушистый, милый живёт,
чтобы есть и плодиться;
хозяином очень любимый и очень ленивый,
полезный,
неприхотливый в еде и в жилье,
шкура и мясо кроля в цене…
Поросята плодятся чуть меньше,
но тоже не мало,
едят от пуза,
и до отвала от них много мяса и сала.
Коровы плодятся значительно меньше,
но их молоко очень ценно:
– это масло, сыр и сметана,
и многое всякое другое…
Собак едят мало и только корейцы,
но они тоже полезны,
потому что – покорное стадо
под их чутким присмотром
ест и плодится, как надо.
Крестьянин, по сравнению с другими,
плодится ни много, ни мало,
но польза от него огромна:
под его чутким присмотром
мясо растёт, рожь колосится,
хозяин им очень и очень гордится.
Рабочие тоже плодятся неплохо
и тоже от них есть пользы не мало:
они многое делают, строят
и производят.
Богатеи плодятся совсем уже плохо,
но польза их колоссальна:
крестьян и рабочих держат они
ради хлеба и мяса,
колбас и сметаны,
машин и приборов,
под их чутким контролем работа кипит,
все всё производят.
Чиновники, ополченцы и прочие дяди
с большими ушами,
как те собаки – их польза неявна, но,
как известно,
они колесо заставляют вертеться.
Однако вопрос остаётся открытым:
какой толк хозяину от всей этой скотской системы?
Ну плодятся, ну быстро жиреют,
ну вещи какие-то себе производят —
всё это быстро потом в прах и уходит.
Что же среди всего этого бедлама
есть такого, что хозяину надо?
Или, может, он просто ребёнок, что
любит в игрушки играться с пелёнок?
Но странно такую махину он забабахал
ради того, чтобы любоваться, как кто-то
плодится и ест постоянно.
Что за смысл ему смотреть,
как собаки грызутся и лают,
как коров своих за копыта кусают…
Или как заставляют рабочих
дворцы себе строить из блоков огромных…
«Чёрт его знает, зачем всё это?» —
подумал художник,
что пил чай в доме поэта,
а друг их – учёный, вина наливая,
заметил: «да ладно, вам разве этого мало?»
1301.36. Два покойника.
Белизна фарфора глазами покойника
выглядит много иначе, чем живого.
Покойнику плевать на условности;
забыты им ценности,
ему много свободнее —
он цепи уж сбросил с шеи.
1
Как в школьные времена,
стирая до дыр штаны,
в могиле покойник матом ругается,
маясь, что его не сожгли.
Корни, свисая вниз, выпить хотят глаза;
тянутся жадно к ним откуда-то с потолка.
Жаба душит мыслями за рай в облаках,
вот бы сейчас ветер развеял бы его прах…
Вот бы сейчас полететь прямо на небеса,
но нет, не для него эта синяя красота.
Устрицы мягкий треск вкусно песком шуршит —
скоро её съедят, ну а пока пусть спит.
2
Подох покойник, но ломает его гнить в могиле,
переполняет его ненависть к тем, кто ещё живые.
Гвоздями его гроб забили,
зубы суровой нитью связали,
а ему всё равно неймётся и выбирается он ночами.
Чиновники, рассекающие на Мерседесах,
как будто сосиски в сочных багетах,
их жирные ляжки лоснятся прелестно —
ооо… зажарит он – их будет вкусно…
Политики, звезды, буржуи
желудку и сердцу его очень милы.
3
А ты на кладбище не ходи без свечей —
поцелует тебя покойник —
станешь его мертвей.
1302.37.
Орхидея, выросшая в куче дерьма,
кажется особенно чистой;
она, конечно, мечтала уехать,
но, к сожалению, не вышло.
В этой стране всегда много виновных,
но подсудимый всего один;
и как бы судья не изголялся,
приговор тоже не будет иным.
И в этом есть некая справедливость:
не зная, откуда пришли,
мы можем
с чистой совестью неизвестно куда идти…
Круговая порука водит по кругу,
каждый друг другу – друг,
остаётся надеяться,
что и для нас найдется парочка добрых рук.
Когда он пьёт, он не может молчать
и это сильно вредит ему;
многие здесь скажут, это всё ерунда,
но я лично доверяю всему.
И пусть деньги – бумага,
пусть ценность в вине,
– это не меняет общего положения дел;
наш поезд уехал,
а мы все остались здесь.
1303.38.
Сам себя вовнутрь не смотри —
не поймёшь всё равно, что внутри, —
голова закружится —
упадёшь, расшибёшь лоб и умрёшь.
И пилось с утра – как с вечера;
и не пьянил уже крепкий чай,
пригляделся в то, что виделось,
никого, увы, не узнал.
И пропали мысли в голове его —
она сморщилась совсем вначале,
а потом раздулась от газов и теперь,
как будто, полная даже.
Он молится на рекламу,
сосёт чупа-чупс,
в кармане его есть фон,
а на столе бук.
На работе ему выдали почетный знак
номер шесть
и теперь он только бегает,
ему нельзя даже есть.
Он смотрит в кривое зеркало
и кажется ровным себе,
в носу болтается колокольчик
и блестящая цепь.
А ещё ему выдали маску с пластиковым лицом
без рта —
она улыбается счастливая
и молчит всегда…
1304.39.
Воздушный шар за воздушным шаром
пускаю я пузыри,
а дети бегают и играют,
разбивая их на куски.
Колени, разбитые в клочья,
шершавые, как фонари;
ржавая румынская водка
и контрабандные огурцы,
Статуи, сбившись в кучу,
задумчиво курят бамбук,
медитативно дымят в точку
и голубей кормят с рук.
Прохожие ездят мимо и загорают
в траве
без копейки в кармане,
но полные мыслями в голове.
Под перебор гитары в уличной суете дней
бесчисленные стада бродят выброшенных идей.
В метро запах подмышек —
устойчивый, как верблюд,
сквозь иголку настойчиво лезущий
по ногам через нос в рот.
Прогнивший базис шелестит пальмами,
перебирая сухие банкноты,
кроя всех и каждого словами
непереводимой лексической позолоты.
1305.40.
Художник не может летать —
у него нет крыльев,
художник не может жить —
у него нет жизни,
зато у его кисти есть полотно,
на котором она рисует птиц,
которые могут летать,
которые могут давать жизнь.
Художник может предвидеть
в зёрнышке – поле и пару влюблённых,
целующихся на сеновале,
в политиках – голод войны,
в яйце – птицу,
в птице – свободу.
1306.41.
Из глаз вытекает жалость,
её уже до черта,
скоро будет стакан, —
его нужно выпить до дна.
В этом городе полно улиц,
забытых имён и лиц;
какие-то голые статуи,
загаженные стадами птиц.
Закрывая глаза, ощущаешь камни…,
из камня делают стены,
вдоль ковыляешь,
наискосок,
заворачиваясь в тени.
Тянется время неспешно
в поисках разных истин,
в морях странных концепций,
в болотах жидких амбиций.
Кто-то учится драться.
Кто-то хочет согреться.
Иногда хватает эмоций,
но всегда не хватает действий.
1307.42. Короли шуты
А вот ты какой, сам не знаешь на кой —
куклу себе сшил и с ней потом жил,
и что накажут же знал, но забил;
сначала ломали, били тебя, а потом забыли.
У кривых и гнутых денег не проси,
кто твоё все украл – лучше найди.
Смех бродил вокруг и приплясывал,
плюнь на всё и уматывай…
Короли-шуты на столах плясали
без подштанников,
голой жопой сияли,
а все хлопали и умилялися,
потому что с королей причитается.
И только старые шуты плакали под новыми,
столы и асфальт раскачивая,
били посуду от огорчения —
вот такое у них было настроение.
Медный лоб его, что колокол… Д
а ты ударь в него, – поймёшь сам,
звон такой, – не проснется мёртвый лишь,
а живой пустится в пляс.
1308.43. Облаида.
И морщит мороз лужи в апофеоз распятья;
Бог на кресте,
а мы под ним в грязи и стуже, братья,
нас водка превращает в бунтарей,
да ну и ладно;
о, Облаида, наливай ещё…
Пусть будет жарко….
Собака на роликах, знаков не понимая,
на синий светофор, как бешенная,
бежит, как больная,
помеха слева её не берёт, не гложет,
а вот ЗД инструктор на тазе —
ой как тревожит…
Баранчик шламовоз
в подрезанном виде летает,
как оппозиционная пресса
направо-налево всех поливает;
креацинизм, как вершина смысла,
ничего давно не значит,
в кольце Соломона есть истина,
но ее, увы, крепко прячут…
Руководящий проектировщик многое забыл,
но главное помнит:
стимул для пассажира – мелкая сыпь на лбу
очень подходит,
он мало прыгает и плохо,
увы, летает,
но микрозаймы в пол-литра ему,
ой как помогают…
1309.44.
Ты будешь послушна отвёртке, гайка,
слышишь?
Обязательно будешь.
И плевать, что тебе нужен особый ключ;
такая, как все, ты будешь.
Ты думаешь, мир для тебя…
Не надейся.
Там очень немного осталося места…
И хватит лишь тем, кто держится вместе.
Там множество главных героев пролезли
чудь дальше, чуть выше
и самое ценное уже утащили.
И главное, ничего не попишешь,
герои много умнее,
много сильнее,
и, мудро с высот своих
вниз взгляды бросая,
они утешают тебя —
жизнь ведь такая.
И, самое главное, я всё понимаю,
я многое видел и много читаю,
меня лишь в этом во всём напрягает,
что этот расклад меня лично не вдохновляет.
Мне как-то без разницы,
что всё нормально,
и катится по обычному плану;
мне вообще многое по барабану
и каждый свой день, не уставая,
я карты тасую, расклады меняя,
чтобы сценарий переписался так, как это себе я представляю.
1310.45. Пыльная капля…
В этой игре победила пешка —
после убийства короля и всех офицеров —
она теперь главная в этом борделе.
Раньше скрипела дверь,
теперь ветер,
знающий себе цену,
проползает без масла в щели.
Окунувший гусениц в краску
и бросивший горстью на холст.
приказал им рисовать картину —
портрет себя в полный рост.
Они, захлебываясь, умирали в агонии,
рисуя его,
и странной проекцией пейзаж
ложится нагим на лицо.
Битый фарфор разбегался тараканами
по полу,
в неожиданном ракурсе поданный
к утреннему столу.
Тенденция жизни проста:
склонность гор – становиться равниною,
как аксиома, взятая с потолка,
доказывается газетной правдой,
высосанной из мусора и вранья.
Пространству кривизна к лицу,
оно удачно маскирует
брак в зеркалах
и прочую сомнительную радость.
Как пыльная капля верхом на гвозде
пытается найти грань,
так и она живёт в мире
обычных будничных драм.
Где в двери заходят двое,
а выходят по одному,
где пара – это уже трое в масках,
неизвестные никому.
И снова сова в лесу плачет от боли,
кричит, как обезумевшая, в ладони;
дверной проём открывается в пустоту
и все молча погружаются
каждый в свою глубину.
1311.46.
Почтенная банкирша,
подобно собачке, скачет,
важно гавкает,
жаль не пляшет.
Э-ге-гей, холмистый гей,
ты зачем тут бродишь?
Убегай же поскорей,
пока ещё ты можешь.
Пучки травы вместо волос
и кожа – мох зелёный,
в земле лежишь,
как будто спишь с природой.
Вселился дьявол в твой утюг,
собаки злобно лают
и даже сода и кефир
проблемы не решают.
Кухарка жарит петуха,
а курица – кухарку,
огрызки скачут вокруг пня,
а дятлы щиплют травку.
Где раньше яблони цвели —
теперь одни каменья,
сожрали дятлы всю траву
и нету им прощенья.
1312.47.
Когда умирает «тема»,
становится темно,
замерзает солнце,
проникает холод в окно.
Но как только – это случается,
вдруг в тишине вспышка молнии —
новый рождает свет
и появляется свежая тема
тепленькая, как хлеб.
В глазах прорастают корни в
ечно зелёных деревьев,
им мало места в голове,
они ищут землю.
Журчащие мысли в голове
становятся бурным потоком;
обнажённая, как дитя света,
идея превращается в Солнце.
1313.48. Стану собой.
Мы живём с тобою понарошку.
Может быть, мы чей-то странный сон;
может быть, в глазах мы отражение;
может быть, мы спим, а не живём.
Может быть, наш Бог – ребёнок юный,
он играет вечером в игру,
где герой главный, безумный
живет в его плену.
Когда море заполняет комнату
и рыбы вплывают в окно,
я сразу ныряю в зеркало
и залегаю на дно.
Настало время разломать часы,
освободить кукушек и соф;
цепи стянули их крылья,
пора их снять и пойти домой.
Когда луна станет полной,
в высокий прибой
я выйду на берег моря
и снова стану собой.
Рыбы, не понимая, что происходит,
бьются о зеркала,
просят впустить их,
но нельзя им теперь сюда.
1314.49. Адмирал.
Мой адмирал,
ты стар и ты мудр.
Мой адмирал,
ты говорил, – там земля.
Недели сменяются месяцем,
и годы подходят к концу,
теряя цели во времени,
превращая борьбу в судьбу.
Вцепившись намертво за руки,
скрывая розу ветров,
слепые матросы – как бабочки —
парусами играют с волной.
Канаты натянуты нервами
и звенят на ветру паруса,
лица, пропахшие временем,
и надежда дойти до конца.
Кому-то уже веселей
и мало уже кораблей,
скользящих по глади воды,
не оставляя следы.
Шепот тишины,
музыка воды,
унылые тёплые дни
сменяют собою дожди.
И одежда, пропахшая солью,
и канаты звенят на ветру,
океан – бесконечное зеркало
в зазеркалье играет игру.
И слепые матросы
на ощупь ищут розу ветров,
дрожащими пальцами
собирая время в ладонь.
С тишиною играет море,
волны бьются о берег снов,
корабли улетели в небо,
не оставив внизу следов…
1315.50.
Стул на каменном стуле,
рядом стол на столе;
человек, живущий в круге,
в квадратной почти петле.
Человек в воде,
человек в огне,
частичный человек,
живущий в себе,
с почти полной одной половиной,
дополненный произвольностями
и покрашенный в синий цвет.
Сгорающий изнутри пламенем,
поливаемый снаружи дождем,
прыгающий мячиком
вокруг ямы с шестом.
Он живёт на своём стуле,
но хочет сорваться…
Такая жизнь не сахар, —
постоянно приходится с кем-то драться…
1316.51.
Колода карт ледяная
в руках ледяных,
холодных —
призраки играют… н
а кону душа обречённых.
И лёд в зрачках
чёрных узоры сливает в руны,
продавший душу
– печатью отмечен будет.
И колокола поют
звоном кристально чистым,
плача о душах грешных,
жить обречённых в листьях.
Глаза смотрят в глаза,
глаза плавают в лужах,
на узком перроне состав
тонет в бушующих водах.
А ты так хочешь убежать;
плывёт земля в окне вагона,
мерещится какая-то беда
и синий едкий запах моря…
У истины есть множество дорог:
она – бродящая по кругу,
вокруг избушки, где живёт лишь Бог,
держа её за руку.
1317.52. Старик.
Ангелов чёрных руки
зажигали над ним свечи
и сладкий янтарный запах
серебрил инеем его плечи.
По улицам кралась полночь,
по ущельям летели тени,
приближалось что-то,
сотрясающее землю.
Красные, жёлтые, чёрные телеграммы
отправлялись сами собой кому-то;
большое веселье в мире начиналось
в это странное утро.
Как танцовщицы юной бедра
перед ним танцевали,
бесновались невесты-травы
и цыгане играли.
Те цыгане – как серафимы,
терзали гитары,
а их ручные медведи
плакали как живые.
Просыпалось всё,
сбрасывая сон,
начинялся новый день
под колокольный звон.
Он открыватель истин,
хранитель колеса, – старик.
Его коней – то бег, то рысь
и грохот слов рычанья рык.
И Бог наполнит его чашу
и птицы окружат кольцом,
и, повинуясь их указу,
колоколов прольётся звон.
В борьбе невольной, хорошея,
над наковальней молот пел,
а сталь хрипела, задыхалась,
закаляясь сильней и сильней.
1318.53.
Моя жизнь – чёрная, белая,
острая самыми разными гранями,
ни на что никогда не похожая,
всегда неожиданно странная.
Полутонами на солнце играющая,
полуцветами ночью цветущая,
часто – обычная, реже – безумная,
всегда, как вода, тягучая и текущая.
Как камень – стоящая,
как волны – бегущая,
как воздух – свободная,
как ветер – сиюминутная.
Плавные линии – очертания дыма,
дрожащая света тень,
пульсирующий в воде звук – день.
Начинается, плавно идёт,
переходит в красное, желтое,
очень горячее,
потом замирает и засыпает.
Может быть, даже молчит,
дремает, вздрагивает,
пальцами шевелит,
перебирает нить паутины, икает.
1319.54.
Пустая душа требует водки
или, может быть, грязной любви,…
она валяется внутри комнаты и воет от собственной тишины.
Её надо срочно наполнить
до краев ведрами,
напоить,
вылить в неё позитивчика
или другой какой ерунды.
До чёрта умные щебечут,
позитивное отношение к реальности
изменяет её, как ни крути.
И то, без сомнения, правда,
но давит нюансов тьма;
от одного самовнушения
– не вертится почему-то земля.
Кудахтанье бесит
– мешает мысли собрать в кулак,
придумать нереальную хитрость
и сыграть обстоятельствами ва-банк.
Мысль пульсирует в голове:
«К чертям условности! – говорит, —
надо очистить мозг
и ситуацию целиком загрузить».
Посмотреть абстрактно сверху,
прикинуть варианты пути,
нарисовать истинную картину
без капелек сладкой лжи.
1320.55.
Слушаю радио:
в нём о чём-то громко болтают,
жаль,
никто ни черта не понимает, не разбирает;
кто-то где-то ворует,
кому-то – всё мало,
он ищет новые поводы,
говорит, всем это надо.
Многих,
между тем,
это не впечатляет,
а меня, вообще,
уже жаба почти доедает,
как подумаю,
сколько же гады украли,
так сразу радио выключаю,
выдираю, разбиваю…
1321.56.
Через миг сразу после конца света
проснусь, встану, увижу
– моя планета.
В масле сна бутерброды намазав,
засуну их в то, чем чавкать,
и буду смотреть,
как пламя хрустит с треском,
сдирая скалы.
И там, за стенами ветра,
буду стоять,
пламенея,
размышляя,
куда дальше двигать,
толкая ногами тело.
Из ниоткуда в куда-нибудь
я обязательно выйду утром,
и там,
где грудью на поле встану,
меня не возьмёт пуля,
и танк по мне не проедет,
и снайпер, в прицел увидев,
заплачет, ружьё бросив,
чтобы стоять и слушать.
Как сердце в зените неба
вдыхает красные тучи
и, выдыхая искры,
на землю бросает в кучи.
Как серебрятся крылья внутри,
как поют птицы,
а вокруг собираются волки,
львы, львицы, волчицы.
Как в пузыре под водой
рыбы слагают песни,
а русалки и их русалы
поют их вместе.
Как круговоротит еда в природе,
выстраиваясь в цепочки,
ровненько так
складываясь в кучки и точки.
Как в океане матросы
огромных танкеров с нефтью,
от души закурив папиросы,
взрывают к чертям землю.
Как Я, собирая с собой
сумасшедших в стаю,
развиваясь огромным язычищем,
по ветру летаю.
Над, где,
поле, гробы
– в них трупы лежат кривые,
слушая, как, гремя,
говорю я им:
«Вы живые!»
И хоть не верит никто,
но один, первый, вдруг
голову подымая,
под нос ПРОБОрматывает:
– не хочу больше лежать… к
уда идти, друг?
Что делать
– конкретно вываливай!!!
Комната – глухие стены,
я слышал,
говорят,
это двери;
поверишь – пройдёшь,
а без веры,
замурованный тут и помрёшь
без воды,
когтями сдирая вены.
Многоцветные чудеса
открывают двери,
вижу морские звезды
ползут по небу,
как они туда попали,
не знаю,
не ведаю,
но видишь,
даже такое бывает,
когда веруешь.
1322.57.
Чёрный клоун, чёрный монах…
я надеваю чёрный колпак
и между ними, играя игру,
я в рукаве джокер держу.
Идёт, идёт, идёт,
идёт идиот, идёт…
Куда бы ты не побежал, —
не убежал, не убежал, …
не убежал.
Чёрный лес…
Тихая ночь…
Кто-то идёт, идёт и идёт…