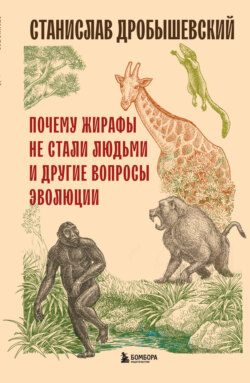Читать книгу Почему жирафы не стали людьми и другие вопросы эволюции - Станислав Дробышевский - Страница 5
Эоцен. 56–33,9 млн л. н.
ОглавлениеКлимат, враги, конкуренты
Эоцен – самое прекрасное время. Пятьдесят миллионов лет назад настал эоценовый климатический оптимум, когда температура была на 14 °C теплее нынешней! Понятно, это не значит, что на экваторе было как на сковородке, там всё было примерно как сейчас. Просто тепло равномернее распределялось по планете, так что и в Гренландии с одной стороны, и в Антарктиде с другой росли субтропические и даже тропические леса. Никаких ледников не было и в помине, а вся вода обращалась с пользой, так что растениям её хватало на всей планете. Никаких пустынь, сплошная зелень. В лесах было много прекрасных деревьев – с листьями, смолой, цветами, нектаром и фруктами. И всё это можно было есть! Не странно, что в эоцене экосистемы процветали. Если вас когда-нибудь будут стращать глобальным потеплением, вспомните эоцен. Если когда-нибудь изобретут машину времени, отправляйтесь в эоцен – там хорошо!
* * *
Понятно, что обилие зверья вызвало и обилие хищников. Для наших предков самыми страшными были древолазающие хищные звери и хищные птицы. На границе палеоцена и эоцена появились бодрые виверроподобные твари типа Vulpavus palustris и Viverravus profectus, а также совоподобные, например Messelastur gratulator и Tynskya eocaena. Пусть головы хищных зверей были плоскими, а мозги – крошечными, зато они научились забираться по ветвям, а их длинные клыки уже позволяли словить не только кузнечика, но и мелкого примата. А птицам даже не надо лазать по деревьям – они всегда прилетят с неведомой стороны и скогтят с любой ветки. Ужас! Это был катастрофический удар по примитивным приматам: беззаботная жизнь в кронах закончилась. Да и на земле плотоядных прибавлялось, так что и на предков жирафов находились свои ловцы.
* * *
Конкуренты в эоцене расцвели пуще некуда. Во-первых, никуда не делись предыдущие супротивники – многобугорчатые, тениодонты и тиллодонты. Во-вторых, расплодились многочисленные представители странных групп Leptictida, Apatotheria, Pantolesta и причудливые диноцераты Dinocerata. В-третьих, на границе палеоцена и эоцена к ним добавились самые успешные: грызуны, шерстокрылы и летучие мыши.
Конечно, самыми опасными были грызуны Rodentia, например Paramys copei. Эти твари умудрились совместить мелкие размеры и растительноядность – через крайне эффективный жевательный аппарат с вечнорастущими резцами и очень замысловатую жевательную мускулатуру. Более того, грызуны оказались специалистами питания сухими растительными кормами – хотя и малопитательными, на кои нет очереди желающих, зато обильными. Грызуны недолговечны и ничем особо не защищены, но компенсируют эти недостатки плодовитостью. Неспроста ныне отряд грызунов стоит на первом месте по обилию видов среди всех млекопитающих. Грызуны с самого своего появления стали нашими наиглавнейшими конкурентами и, будучи более наземными, нежели древесными, ещё миллионы лет не пускали приматов на землю, пока те не подросли настолько, чтобы не обращать на мышей внимания. Это пошло нам на пользу: если бы мы спустились вниз раньше времени, скорее всего, никогда не стали бы двуногими, ловкорукими и разумными. Те же грызуны резко ускорили эволюцию копытных, которые были вынуждены увеличиваться и оставаться листоядными.
Шерстокрылы Dermoptera палеоцена и эоцена крайне многочисленны и разнообразны; примером может служить Dermotherium major. Правда, подавляющая их часть известна лишь по зубам и фрагментам челюстей, так что мы не знаем, имели ли они летательные перепонки и умели ли парить, как современные. Шерстокрылы не выдержали напора соперников, так что в настоящее время сохранилось лишь два вида – на Филиппинах и Малакке.
Успешнее оказались рукокрылые Chiroptera: они занимают второе место среди млекопитающих по числу видов после грызунов (кстати, приматы располагаются на третьем месте, как бы неожиданно это ни было для жителей северов, видевших приматов лишь на картинках и в зоопарках). Когда они взмыли в воздух, точно не ясно, но раннеэоценовый Australonycteris clarkae уже мало отличался от своих потомков. Летучие мыши научились летать по-настоящему – активно махая ручками-крылышками. С самого начала мелкие виды были насекомоядными, а более крупные крыланы – фруктоядными (эоценовые крыланы пока не найдены, но, из общих соображений, уже существовали), то есть в любом случае – прямыми соперниками приматам, только способными несравненно быстрее добираться до еды, ведь им уже не надо было прыгать по веткам, достаточно вспорхнуть и моментально долететь куда хочется. Одновременно они оказались крайне трудноуязвимыми, ведь словить вёрткую летающую зверушку почти невозможно. Как и у приматов, безопасность привела к большой продолжительности жизни, малой плодовитости и социальности. Правда, и у такой конструкции нашлись минусы: маленькая летающая тварюшка не может иметь больших мозгов, иначе они просто будут перевешивать. Рукокрылые не пустили нас в небо, а через то не дали нам слишком специализироваться в строении рук и мозгов. Если бы мы полетели, то не стали бы умными и не читали бы эту книгу.
Жирафы в траве
Люди эоцена – первые обезьяны. В самом-самом начале эпохи это омомисовый Archicebus achilles, ещё через десять миллионов лет – несколько видов ранних обезьян Eosimias, например E. sinensis, E. centennicus и E. dawsonae. Все древнейшие и примитивнейшие достоверные обезьяны найдены в Китае и рядом – в Монголии, Бирме, Пакистане, чуть более поздние и продвинутые – в Европе и Северной Америке; очень похожие существа жили и в Индии, хотя это и странно, ведь она в это время ещё плыла по океану Тетис – будущему Индийскому (некоторые палеогеографы считают, что Индия уже причалила, но пока это не точно).
Проблему новых активных хищников приматы решили двумя способами – ускорением и увеличением. Те, что стали лучше и дальше прыгать, слишком увлеклись и уже в эоцене стали долгопятами – ночными насекомоядными приматами, лишь чуть более продвинутыми, чем омомисовые; они и сейчас живут на Филиппинах и в Индонезии. Тамошняя природа вообще во многом схожа с эоценовой. Полуостровной и островной мир Юго-Восточной Азии находится на экваторе и со всех сторон окружён водой, так что климат тут менялся минимально. Неспроста здесь сохранились эоценовые реликты – тупайи, лори, карликовые оленьки и многие прочие.
Другая хорошая стратегия избегания хищников – увеличение размера: если ты крупнее врага, может, он на тебя и не покусится. Правда, большой зверь будет менее подвижным, но поначалу – пока хищники не успели подрасти – это не кажется такой уж проблемой. К тому же увеличение – вещь относительная, ведь стартовали наши предки с очень маленьких габаритов. Так или иначе, примерно за десять миллионов лет приматы подросли со 100 г до 10 кг. Особенно крупными стали амфипитеки Бирмы, в частности Amphipithecus mogaungensis, Siamopithecus eocaenus и Pondaungia savagei.
Ко всему прочему, хищники были активны ночью, так что предкам пришлось переходить на дневной образ жизни, чтобы не суетиться в опасное время и не подставляться под голодные зубы. А крупный зверь может быть дневным, так как может стать растительноядным, отрастив большой живот и переваривая сначала фрукты, а потом уже и листья. Приятно, что необходимость совпала с возможностями, так что предки не только выжили, но и взошли на новый уровень эволюции.
* * *
Копытные тоже не стояли на месте. Архаичные кондиляртры стали настоящими копытными. Жирафы эоцена были ещё не совсем жирафами: среднеэоценовые «оленьки» археомерициды Archaeomerycidae (например, монгольский Archaeomeryx optatus) выглядели как маленькие компактные крыски с остренькими мордочками и длинным хвостом, но уже не c коготками, а с когтеподобными копытцами на крошечных пальчиках. Передние лапки были короткими, пятипалыми (хотя первый палец уже заметно редуцировался), а задние – почти вдвое бóльшими, с двумя опорными пальчиками в центре и двумя редуцированными по бокам. Длинные локтевой и пяточный отростки явно свидетельствуют о повышенной прыгучести, хотя плюсневые кости были раздельны, так что до способностей современных копытных им было ещё далеко. Они всё ещё имели верхние резцы. Забавно, что их зубы в некоторых отношениях сильно напоминали зубы лемуров: нижние резцы и клыки образовывали единую «зубную щётку», направленную вперёд, тогда как первые нижние премоляры были клыкоподобными. Судя по низким коронкам зубов, археомерициды ели в основном листья и фрукты, но не траву. Не очень-то тупые бугорки моляров намекают на то, что и насекомые ещё не совсем исчезли из рациона, а пример современных оленьков показывает, что меню могло быть и ещё шире.
К концу среднего и началу позднего эоцена лептомерициды Leptomerycidae, например североамериканские Hendromeryx wilsoni и Leptomeryx yoderi, уже избавились от верхних резцов, имели короткие хвостики и частично сросшиеся плюсневые кости, а на всех их ножках уже было строго по четыре копытца – два побольше в центре и два маленьких по бокам. В конце эоцена копытные доросли до лофиомерицид Lophiomerycidae в лице, скажем, китайского Lophiomeryx gracilis. Известны и многие другие похожие звери.
По внешнему виду и образу жизни на всех этих существ максимально похожи современные африканские и азиатские оленьки Tragulidae. Эти мелкие зверушки вроде и копытные, но саблезубые, неплохо лазают по деревьям и лианам, дни проводят в дуплах и развилках ветвей, ныряют и бегают по дну водоёмов, могут ловить мышей и кур, даже рыб и крабов – кондиляртрова сила живёт в них и поныне.
Вероятно, в эоцене копытные перешли к малой плодовитости. Показательно, что самые примитивные современные копытные – свиньи – всё ещё рожают много детёнышей, азиатские оленьки Tragulus – двух, а африканские Hyemoschus – уже одного. Как обстояло дело у палеогеновых копытных – неведомо, вероятно, они были ещё достаточно плодовиты.
Получается, и в эоцене люди с жирафами не так уж далеко разошлись по стилю жизни, просто наши предки всё ещё сидели на ветвях, а отважные пращуры жирафов чаще шмыгали в траве.
Эоцен, северная Америка. Самка лептомерикса Leptomeryx yoderi с потомством встречает на водопое грызуна парамиса Paramys sp. Хищный вульпавус Vulpavus ovatus