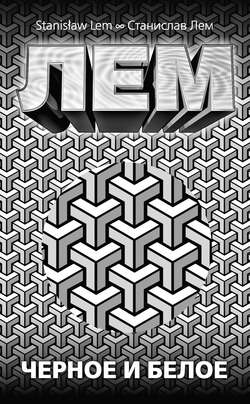Читать книгу Черное и белое (сборник) - Станислав Лем - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
Станислав Лем размышляет
От эргономики до этики
ОглавлениеНа собственной шкуре я познал все основные типы общественного устройства нашего века: бедный капитализм довоенной Польши, гитлеризм, сталинизм в СССР, его разновидность в Польше, «оттепель» и наступившие за ней «заморозки», кризис, взрыв «Солидарности», ее упадок и начало «перестройки». Таким образом, я являюсь «учеником многих эпох»: и хотя сам не осознавал, но именно это оставило след в большинстве моих книг как результат работы воображения, ориентированного СОЦИОЛОГИЧЕСКИ. Научная фантастика оказалась для этого неплохим объектом. С помощью ее я показывал, что происходит, когда индивидуумов «приспосабливают к обществу», и наоборот – когда «общество приспосабливают к индивидуумам». Как можно ликвидировать полицейский надзор и всяческие наказания, не ввергая тем самым общество в состояние анархии? Я спрашивал – своими произведениями, – является ли человек существом, способным постоянно совершенствоваться под влиянием культуры. При каких условиях проявляются «темные стороны» человечества? Куда ведет непрерывное увеличение благ, их повсеместность, вплоть до бесплатного распространения, – не ведут ли эти «утопии пресыщения» к удивительным вариантам ада, который становится «электронной пещерной эпохой»: ведь автоматизированное окружение, исполняя любые капризы людей, делает их ленивыми, оглупляет и приводит либо к отупению, либо разжигает в них огонь бессильной агрессии, так как уже ничто, кроме уничтожения накопленного неимоверного богатства, не может стать объектом желаний и грез.
Мой писательский метод заключается в отсутствии метода: я будто бы приступаю к игре, причем даже не к игре с уже установленными правилами, как шахматы, а к такой игре, правила которой возникают в процессе написания – таким образом взаимосвязь изображаемого мира с реальным не была ПРЕДНАМЕРЕННОЙ. Но какой-то все-таки была всегда. Оглядываясь назад на те 35 или 36 книг, которые я написал, вижу, что отношение моих «миров» к действительности почти всегда отличалось реализмом и рационализмом. Мой реализм – это проблемы, которые или уже являются частью нашей действительности (и преимущественно это те проблемы, которые нас беспокоят), или проблемы, возникновение которых в будущем я считал возможным или даже вероятным. (Возникает вопрос: а откуда, мол, я могу знать, какие проблемы станут реальными, если их пока не существует? Могу только ответить, что к настоящему времени многие из таких «проблемных предсказаний» уже реализовались, то есть «я имел хороший нюх», ибо главным источником вдохновения для меня была и остается область точных наук.)
А рационализм означает, что я не ввожу в свои сюжеты сверхъестественные элементы или, говоря яснее и проще: не ввожу ничего такого, во что сам не мог бы поверить. Пишу ли я с дидактической целью? Это может показаться забавным, но дидактическая цель направлена не только на читателей, но и на меня самого. Это проще всего можно показать на примере небеллетристического произведения, каковым является «Сумма технологии». Я писал ее в 1962–63 годах, когда о футурологии никто не слышал, и писал из любопытства: каким может быть будущее вплоть до той границы, которую позже обозначил как «понятийный горизонт эпохи». Я хотел экстраполировать имеющиеся знания настолько далеко, насколько это мне казалось возможным. Основное направление, или вероятность избранной стратегии, через 26 лет оказалось верным, но здесь я хочу подчеркнуть, что «Сумма» была ПОИСКОМ, а после написания стала НАХОДКОЙ (различных допущений, предположений, мысленных экспериментов), и что заранее о таком содержании я почти ничего не знал.
В свою очередь моя «Философия случая» (1968) появилась в результате того, что меня удивлял разброс интерпретаций, прочтений, критических суждений в различных языковых и культурных кругах. А еще более удивительным было для меня то, что даже в границах одной культуры и одного языка появлялись рецензии диаметрально противоположные. Когда я спрашивал об этом литературоведов, то они не восприняли всерьез мое удивление и дилеммы. Видя, что ничего от них не добьюсь, я в течение года совершенствовался в теории вопроса, после чего сел и написал два тома, чтобы СЕБЕ объяснить, чем является литературное произведение, чем МОЖЕТ быть и почему восприятие бывает сначала «колебательное», «неустойчивое» и только потом стабилизируется. Это было очень похоже на динамику естественной (дарвиновской) эволюции видов. Однако, поскольку перед написанием «Философии» я этого не знал, правильно сказать, что я объяснял СЕБЕ, а при случае будущим читателям. (Nota bene литературоведам с гуманитарным образованием не по вкусу такие понятия, как: «стохастичность», «эргодичность», кривая нормального распределения Гаусса, кривой Пуассона и т. п. Зато гуманитарии преклоняются перед модой: структурализм, постмодернизм, «деконструктивизм» Дерриды не имеют ничего общего с методами эмпиризма или естественных наук, и потому между моей «Философией» и гуманитарностью была и остается непреодолимая пропасть). Сейчас я переписал второй том этой книги, с первым разделом «Границы роста культуры», поскольку после шести лет пребывания на Западе я увидел опасности для развития культуры, вызванные избытком предлагаемых сочинений, тотальной коммерциализацией (рынком) спроса и предложения, а также признаками вырождения в области так называемой «массовой культуры» в государствах, создающих «цивилизацию потребительской вседозволенности». Таким образом, начиная писать, я, как правило, не знал, куда это писательство заведет, и, говоря о результатах «игры» С СОБОЙ, честно говоря, о читателях не думал. Может, я рассчитывал на то, что проблемы, которые увлекают МЕНЯ, заинтересуют и других.
Следует добавить, что между мной и читателями стоял цензор. Мой первый роман, «Больница Преображения», о судьбах психиатрической больницы в Польше во время оккупации, написанный в 1948 году, был опубликован только в 1955 году, а в промежутке я был сначала принят, а затем выкинут из Союза писателей (ибо я не имел ни одной изданной книги). Я не был слепым, и времена «сталинизма» мне вовсе не нравились, но для собственной пользы я говорил себе: я уцелел среди множества военных опасностей, и желал только одного – НАДЕЖДЫ на лучшее время. И сегодня мы ПЛАТИМ за социальные перемены, которые через 20–30 лет дадут прекрасный урожай свободы, всеобщего благосостояния, расцвета науки и т. п.
Я иногда слышу и читаю, что от написания книг современной тематики, таких как «Больница Преображения», я ушел на территорию фантастики, чтобы избежать цензора. Не считаю, что я прятался в фантастике как в кукурузе. Доказательством является моя первая, наивная книжка «Человек с Марса» 1946 года, когда у нас ничего не было известно о социалистическом реализме. Писатель, используя только современную тематику, имеет пространство сюжетных маневров, заданное «граничными условиями» этой современности. (Разумеется, можно писать неправду о современности, но это меня не привлекало). Писатель в жанре НФ, кроме сюжета, должен построить мир, в котором этот сюжет развивается: это дает поле для экспериментирования, в чем – видимо – я всегда НУЖДАЛСЯ. Таким образом, во-первых, «мои миры» были, как правило, отклонены от реального мира в сторону разнообразных «преувеличений» всевозможных явлений и их зарождений, УЖЕ таящихся в действительности, и, во-вторых, я использовал средства и декорации фантастики всегда НАТУРАЛИСТИЧНО для изображения – «с проверкой на прототипах» – различных общественных ситуаций, влияния новых открытий на общественную стабильность и т. п. Знаю, что звучит это так, словно бы я писал какие-то социально-философские трактаты, наполненные очень абстрактными гипотезами, но тут я опускаю (ибо вынужден) то, что занимался я этими ИГРАМИ как одним из видов РАЗВЛЕЧЕНИЙ – серьезно, полусерьезно, иронично и т. п.
Имела ли здесь место цель ПОЗНАНИЯ? Безусловно, да, но только из-за того, что такими, а не иными были мои взгляды, мои интересы: я предпочитал читать Стива Хокинга, а не Айзека Азимова. Я писал то, что получалось, что хотел, и, возможно, даже должен был написать. Я допускаю, что написал «Диалоги» – в то время я даже не мог предположить, что получу шанс на публикацию, – поскольку кровавые «ошибки и искажения», ведущие от великих идеалов к массовым преступлениям, волновали меня. Там я высказывал свое твердое убеждение, что МОЖНО построить лучший мир, только требует он проб и ошибок, потому что ТАКИМ всегда был путь человеческого познания. Без человеческих жертв мы не могли бы научиться летать, а построить «лучший мир» несравнимо трудней, чем летающую машину.
Почему почти вся американская «научная» фантастика антинаучна, как бы с точки зрения реальности «отклонена» в сторону, противоположную моей – именно в сторону иррационализма, – не знаю. Сказать, что «с жиру бесятся»[65] – это слишком мало для объяснения. Эта все еще усиливающаяся тенденция производства «телепатических вторжений», «галактических войн», нападений вампиров, построения сюжетов по схеме «они нас» или «мы их» завоевываем – казалась мне всегда сужением возможностей, какие дает научная фантастика. Кроме того, мне никогда даже не приходило в голову серьезно показывать нечеловеческие существа с точки зрения их «психической сущности». Я считал бы это не имеющей законной силы узурпацией: мы люди и потому не можем НИЧЕГО знать о «сознании» других разумных созданий. Совокупность этих различий, вероятно, привела к тому, что американцы, и прежде всего коллеги по перу, терпеть меня не могли и, в конце концов, после ряда моих критических статей в прессе США лишили меня почетного членства в «Science Fiction & Fantasy Writers of America»[66] (при этом, чтобы еще было смешнее, Азимов написал, что Лем атакует американскую НФ по приказу своего коммунистического правительства).
Когда в фантастику вводится «всемогущество» при помощи МАГИИ, КОЛДОВСТВА, ЗАКЛЯТИЙ, ЧУДОВИЩ, заинтересованных главным образом в захвате планет и убийстве их жителей, – с печатных страниц, на мой взгляд, исчезает последняя частица ПОЗНАНИЯ: мы не узнаем абсолютно НИЧЕГО о существующем мире, а придуманный мир гораздо менее необычен, удивителен, фантастичен, чем реальный. Вирус СПИДа, битве которого с нашим видом я два года уделяю много внимания, намного более жуткий, чем все галактические чудовища, вместе взятые. Это в конце концов – вероятно – дело вкуса, но не только. Я не понимаю, откуда взялось повальное бегство от проблем нашего мира в фантастической литературе Запада. Ведь угроз, причем реальных, множество: климатических, экономических, технологических – разве их мало? Я могу только выразить свою беспомощность относительно этого эскапизма, которым руководствуются американцы.
В моих беллетристических «поучениях» и «прогнозах» всегда было много игры, иногда комической, даже когда речь шла о проблемах необычайно серьезных, – сегодня каждый может легко это увидеть. Потому что это были, например, такие вопросы, как отмена римского правила «mater semper certa est», утверждающего, что мать всегда ОДНА – в настоящее время законодатели разных государств по-разному оценивают такое достижение медицины, благодаря которому у ребенка могут быть две матери: та, чья яйцеклетка, то есть мать биологическая, и та, которая выносила плод вплоть до родов. Можно ли «нанимать» женщину, чтобы она выносила плод за другую? Некоторые говорят, что нет. Но если женщина сама НЕ может выносить плод, а хочет иметь собственного ребенка, то есть от собственной яйцеклетки? Вот дилемма. Сегодня их множество.
Когда-то я писал об отчаянной борьбе законодателей и юристов с исторически невероятными ситуациями – кто-то является «частично» естественным, а «частично» состоит из протезов, которые заменяют ему утраченные органы, но не может заплатить производителю, который в судебном порядке требует «возврата своей собственности»[67]. Еще я писал о том, что в некоей цивилизации, где генная инженерия делает возможным проектирование формы тела и разума, существует «Главный институт проектирования тела и психики» – ГИПРОТЕПС[68]. Когда я писал о таких вещах, не было еще ни «возможности двух матерей», ни «банков спермы лауреатов Нобелевской премии» (как в США), ни генной инженерии. Поэтому, чтобы придать некую живость этой сложной проблематике, я облачал ее в юмористические одеяния. И потому МОЖНО удовольствоваться только поверхностной комичностью, несмотря на то что речь идет о проблемах страшно серьезных. Более того: с каждым годом «чистая фантастичность» многих моих произведений начинает «заполнять и заселять» мир в результате ускорения развития науки вообще, а биологии и технологии манипулирования наследственностью в особенности. На самом деле, когда я писал, я никогда не думал, забавляясь написанным, что станут реальностью эти мои предполагаемые в далеком будущем ситуации – не что иное, как дилеммы, сильно запутанные в моральных антиномиях действия (антиномия действия – это такая противоречивость ситуации, когда любой выход оказывается в каком-то отношении НЕПРАВИЛЬНЫМ, а правильного нет). Поскольку же литературные рецензенты вообще не ориентируются в области развития знания, то, когда я говорил, что та или иная из моих фантазий «осуществилась», они считали, что я просто хвастаюсь. Я был скорее удивлен и поражен. Критики даже упрекали меня, что я жалуюсь на отсутствие «Лемографии». В самом деле, в Польше нет монографической и критической работы, охватывающей мое творчество. Это моя потеря, потому что неправда, будто бы писатель является наилучшим знатоком собственного труда[69].
«Производство ЗЛА» – как следствие ускорения «научного прогресса» – это вопрос сложный. Но вместе с тем он очень прост в сравнении с нашими требованиями: как мелиористы[70], мы хотели бы, чтобы плоды науки не были отравленными. Между тем эти плоды как орел и решка, аверс и реверс одной монеты: потенциальное «добро» и «зло» неразрывны. И единовременны. Благодаря изучению тактики битвы, которую вирус СПИДа ведет в человеческом организме, мы сможем принять участие в этой битве при помощи молекул препаратов, «скроенных» таким образом, чтобы расстроить поразительно точную, как бы «хитрую» стратегию вируса, не дать ему возможность «захватить власть» над клеточным механизмом, – и он бесславно погибнет, не причинив уже вреда. И это будет очень хорошо. Но достигнутое искусство «молекулярной кройки» сделает возможным синтез биологического микрооружия, быть может даже более опасного, чем вирус.
В 1979 году, когда об этом вирусе мы еще ничего не знали, я описал в «Осмотре на месте» последствия войны, которая велась «криптовоенными методами», то есть рассеиванием смертоносных вирусоподобных генов над территорией противника. И это стало бы фатальным, если учесть, что контролировать разоружение в масштабе «макро» (ракеты, самолеты, танки) намного проще, чем в масштабе «микро» (как определить, не работает ли другая сторона в подземных лабораториях над оружием, не видимым простым глазом, причем таким оружием, которое, в случае его применения, начнет убивать через 5 или 10 лет – именно на это способен вирус СПИДа?). Но можно ли отказаться от вирусологии? Безусловно, нет. И это типичная антиномия практического действия. Много ЗЛА происходит из-за «вовлечения» научных достижений в систему глобальных политических антагонизмов. Например, гонка вооружений с уже появляющимся «интеллектуальным оружием» и т. п. Но бывает зло и не зависимое от политических конфликтов. Взять хотя бы загрязнение жизненного пространства (биосферы) отходами производства. И наука здесь очень востребована, ибо делает возможным создание, как я их называю, технологий второго уровня, которые должны нивелировать (нейтрализовать, делать безопасными) отрицательные последствия функционирования производственно-энергетических технологий. Впрочем, ЗЛО, возникающее в результате развития науки, больше бросается в глаза, чем ДОБРО. Телевидение показывает нам искореженные при столкновении железнодорожные вагоны или обгоревший остов самолета, а значит – виноват Стефенсон или братья Райт. Но зато – многие миллионы людей, живущие благодаря медицине, которой удалось победить эпидемии, чуму, холеру, туберкулез, противодействовать гриппу и т. п., – эти миллионы ведь нам никто не показывает как «положительный результат» научного прогресса.
Следует подчеркнуть, что наука может только предложить нам новое решение старых проблем, но не может сама обеспечить внедрение в жизнь всего, что она открыла или изобрела. Между новшеством и его внедрением могут возникнуть непреодолимые экономические барьеры. Достижения в области электроники уже таковы, что практически через несколько лет появляются очередные поколения компьютеров, телевизоров (уже на жидких кристаллах, плоские, как картина, которые можно повесить на стену), технологии передачи информации, записи, хранения данных (например, при помощи лазеров), а самой большой проблемой для самых богатых является то, что бывшее последним словом техники 2–3 года назад и во что промышленность и заказчики инвестировали МИЛЛИАРДЫ, именно с чисто технической – достижение ЭФФЕКТИВНОСТИ – точки зрения следует выбросить на помойку. И это становится все более затратным, слишком дорогим даже для самых богатых. Поэтому разработчики должны работать так, чтобы «старый» продукт можно было как-то примирить с «новым».
Как рост земной популяции, так и ускорение темпа индустриальных изменений являются различными воплощениями ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО роста. Характеризуются они медленным стартом и ускорением, возрастающим в такой степени, что экстраполяция на следующее столетие показывает «бесконечно бо́льшую» численность жителей Земли или такую последовательность инновационных технореволюций, при которой одна революция сменяет другую в течение секунд. Безусловно, и то и другое одинаково невозможно. А относительно того, какие открытия и изобретения исторически появляются раньше, а какие позже – то можно сказать, что эту последовательность нам устанавливает сама Природа при помощи различного рода препятствий, которые необходимо преодолеть на данном этапе развития.
Я считаю – и мне представляется, что в этом вопросе я, пожалуй, одинок, – что овладение людьми «технологией», которую создала Природа в ходе биогенеза, то есть заимствование у явлений жизни БИОТЕХНОЛОГИИ, повлечет за собой такую глобальную революцию, последствия которой превзойдут как «механическую» революцию (век машин), так и «интеллектрическую» (век компьютеров). Возникнет «технобиосфера», способная к стабильному сосуществованию с биосферой. Но так как это можно счесть моими фантазиями, на этих словах остановлюсь. Сегодня неотложной задачей относительно ЗЛА, возникающего вследствие развития науки, является создание спасательных технологий, что требует активности специальных групп «экологического давления». Дополнение, которое «не окупится» ни одному из инвесторов, а «окупится» только человечеству, является задачей для всех. И эта задача труднейшая из возможных, ибо если действовать призваны «все», то, как правило, почти никто в отдельности не чувствует себя призванным.
Мы не располагаем энергией более чистой, чем атомная. Это нужно повторять, потому что экспертов, способных привести контраргументы, легко найдет каждый политик. Экспертов, «способных противопоставлять», можно найти для любого дела: как противников генной инженерии, строительства автострад, так и шире – дальнейшего развития моторизации, строительства плотин для водохранилищ, и даже есть эксперты, выступающие против всеобщей проверки на наличие вируса СПИДа, «потому что это было бы антидемократическим принуждением». Как будто некоторые обязательные прививки или получение школьного образования не являются «принуждением». Расширение и абсолютизация понятия «демократия» легко ведут к абсурдным требованиям. (В журнале, посвященном проблемам «освобождения женщин» в ФРГ, я видел анатомический разрез тела мужчины, которому во внутреннюю поверхность передней стенки брюшной полости была вживлена плацента с плодом. Это было «доказательством» того, что в принципе можно уравнять мужчин и женщин даже в вопросах беременности и вынашивания плода: роды заменило бы кесарево сечение «отце-матери». Думаю, что здесь можно воздержаться от комментариев.)
Закрытие всех атомных электростанций уже сейчас является частью политической программы партии «зеленых» в ФРГ, которая пользуется услугами экспертов (см. выше), утверждающих, что Федеративная Республика МОГЛА БЫ обойтись «без атома» и перейти на традиционную тепловую энергетику (ибо на наших географических широтах солнечная энергия слишком рассеяна, а энергия воды и ветра – недостаточна). Для богатой Германии это действительно осуществимо, но только для нее одной; если другие страны последуют этому примеру, то к 2100 году топливные ресурсы могут быть исчерпаны, не говоря уже о загрязнении атмосферы с непредсказуемыми последствиями. Можно ли на 100 % гарантировать безаварийность атомных электростанций? Нельзя. На 100 % нельзя гарантировать безопасность никакой деятельности.
Эйнштейн, один из наиболее миролюбиво настроенных людей, своим письмом Рузвельту дал толчок тому, что привело к созданию атомной бомбы. Он думал, что это соревнование с учеными Гитлера. Но следует ли принимать в расчет намерения? Это вопрос. Прогресс в медицине приводит к тому, что в реальной жизни возникают дилеммы с привкусом антиномий практического действия. Можно ли использовать нежизнеспособных новорожденных – имеется в виду рожденных без мозга (анэнцефалов), в качестве «склада запасных частей» для трансплантации людям, которые могут умереть без пересадки органов? Я считаю, что это должно быть разрешено. Римско-католическая церковь и этих анэнцефалов считает людьми, поэтому с пересадкой требует подождать, пока те умрут естественной смертью. Но после нее большая часть органов подвергается изменениям, делающим пересадку невозможной. Но и недоразвитие мозга бывает разной степени. Где провести границу между дозволенным и недозволенным? К тому же у физиологически неспособных к самостоятельной жизни людей можно поддерживать чисто «вегетативную» жизнь при помощи искусственных аппаратов (легкие, сердце, почка и т. п.). Кроме этого медицина уже умеет пересаживать все больше различных органов, но откуда их брать, если спрос превышает предложение? И это ведет к возрастанию стоимости все более передовых достижений медицины. Уже и в самых богатых странах невозможно предоставить ВСЕМ новейшие методы диагностики и терапии. Кто должен принимать решение о «предоставлении»? А речь идет о жизни и смерти. Следует ли предоставить право принятия решения врачам? Законодатель не сможет сформулировать такие разграничения, которые с врачей снимут всякую моральную ответственность за выбор поведения.
А банки спермы лауреатов Нобелевской премии? Следует ли разрешать женщинам беременеть путем искусственного оплодотворения спермой мужчин с выдающимися умственными способностями? Но можно ведь оплодотворить женскую яйцеклетку и «в пробирке», а затем перенести в организм (в матку). Когда эмбрион становится человеком? Упомянутая уже церковь утверждает, что в момент проникновения сперматозоида в яйцеклетку. Но это противоречит научным фактам, ведь после оплодотворения деление клетки может начать развитие одного ребенка, а может и двойни, тройни, и это «решение о развитии», определяющее, возникнет ли один человек, или два, или даже четыре, принимается самостоятельно на уровне одной клетки, каковой является яйцеклетка. Учение Церкви сталкивается с затруднениями, вступая в эту непонятную область, что я и предвидел в своей «Фантастике и футурологии» (1970) в главе «Футурология веры»[71]. И это дилемма не только для Церкви. Если благодаря прогрессу в медицине снижается смертность новорожденных, но это никоим образом не способствует тому, чтобы подросшие дети не умирали от голода, – то можно признать, что медицина дает жизнь и одновременно опосредованно ее отбирает, так как (особенно в Третьем мире) смертность в многодетных семьях огромна.
Между невиновностью Марии Склодовской-Кюри (которая, открыв радий, НИЧЕГО не могла знать о последствиях этого открытия) и поведением немецких ученых, которые медленно «удушали» узников концлагерей в специальных камерах, выкачивая оттуда воздух, и снимали агонию «в научных целях», простирается область широкого спектра моральной ответственности ученых. С общественной точки зрения не важно, что сам ученый думал о своем поведении. Хотя Трофим Лысенко был неучем, верившим в свою теорию «расшатывания наследственности», и тем самым не только нанес огромный вред Советам, но и способствовал гибели многих выдающихся генетиков (хотя бы Вавилова), я при этом не считаю, что его следовало бы привлечь к судебной ответственности. Моральная ответственность распространяется гораздо шире сферы действия уголовных кодексов. Я не вижу иного выхода из этой ловушки, кроме «сознательного выбора»: либо служить науке, осознавая возможность оказаться «морально ответственным за ЗЛО», или быть поэтом, сапожником, портным – ибо это единственная надежная гарантия. В процессе познания законов Природы всегда есть аверс и реверс. Чувство вины, которое преследовало Эйнштейна до конца жизни, – это моральные издержки его профессии.
Наш век бурного развития в области познания и технологии отчасти благоприятствует развитию человеческих обществ, отчасти создает угрозу их распада. Прогресс порождает одну за другой проблемы и предлагает их решения, но проблем порождает больше, чем решений, и тем самым вынуждает нас принимать решения, имеющие отдаленную перспективу СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ И ИЗДЕРЖЕК, о которых мы зачастую НЕ знаем. (До тех пор, пока никто не смог повернуть течение рек, не возникало и проблемы с принятием решения, что с такими реками делать. Пока «демократизации» не было заметно в программах коммунистов, не было проблемы, как далеко можно и нужно ее довести.)
Прямая демократия и тем самым будто бы идеальная – это не правление представителей большинства, а компьютерные терминалы, устанавливаемые в жилище каждого, благодаря чему любое предписание, любой закон подлежали бы всеобщему и тайному голосованию. Простым нажатием кнопки каждый высказывал бы свое «да» или «нет» по поводу данного проекта (например, о правительственном законопроекте о профессиональных союзах или о налогах и т. п. без конца). «Всекомпьютерный референдум», таким образом, возможен технически, но последствия его внедрения были бы фатальными, поскольку бо́льшая, и при этом постоянно увеличивающаяся, часть решений, которые необходимо принимать, находится выше уровня компетентности дилетантов. Такова антиномия практического действия: «цивилизация как правление экспертов или как правление всех».
Автоэволюция человека, как самопреобразование вида, представляется мне нежелательной и – к счастью – чрезвычайно отдаленной во времени перспективой. Я старался скорее показать – а здесь сложно говорить о ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ в прямом смысле слова, – что РАЗУМНОЕ и благодаря ЭТОМУ внутренне свободное существо нельзя никакими «переделками превратить в элемент совершенного общества». А что значит «совершенного»? Ведь это же не боевая машина (что было идеалом фашизма)! Рая на Земле никогда не будет, если в нем должны жить люди свободные и разумные. Свобода достигается в устремлениях, а не в достижениях, которые превратятся в некое «почивание на лаврах победы».
Ведь в прогрессивных проектах речь идет не о том, чтобы «все, что делаем мы сами», ЗА НАС – включая познавательную умственную работу – выполняло бы автоматизированное окружение. И здесь не важно, что такое окружение сегодня никто не в состоянии создать. А важно, чтобы изобретательность человека НЕ смогла «катапультировать» нас из нашей человеческой сути. Ибо из-за биологической и психической тождественности вида в будущем начнутся сражения (бескровные, надеюсь), которые я ТАКЖЕ пытался описать в «Осмотре на месте». Сочиняя очередные книги, после завершения я замечал их недостатки и возвращался к поднятым проблемам, – но не возвращался к темам, чтобы не наскучить ни себе самому, ни читателю.
То, что я написал в «Сумме технологии» как «Пасквиль на эволюцию» и в «Големе XIV» как продолжение этого пасквиля, сейчас, четверть века спустя после издания «Суммы», звучит более реалистично, чем звучало тогда. Потому что благодаря новым знаниям о строении нашего организма, мы заметили накопившиеся в нем в ходе эволюции как «излишние сложности», так и «слишком узкие места». Для представления и тех и других понадобилась бы фундаментально подготовленная книга. Генная инженерия сможет многое усовершенствовать в человеке, не уничтожая его человеческой сути, сконцентрированной в мозге. Наш вид не должен утратить своей преемственности в виде идентичности с историческими предками. Если бы мы уничтожили в себе эту идентичность, это было бы равнозначно уничтожению многовековой культурной традиции, созданной общими усилиями тысяч поколений, и на такую «оптимизацию» я бы не согласился, ведь ВЗАМЕН мы не могли бы получить ничего более, чем сытое довольство необычайно здоровых, не подверженных болезням животных. Неудовлетворенность собой, своими достижениями, негодование в случае любого вида измены и отречения от канонов нравственности, которые, правда, не до конца четки и последовательны, но тем не менее как «нравственный закон внутри нас» существуют, – это не атрибуты человеческого, а само человеческое в своей в дальнейшем не подлежащей изменению сути.