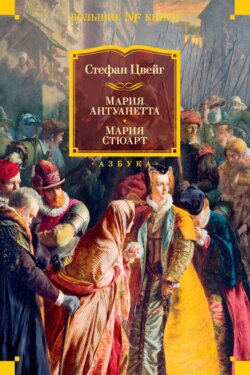Читать книгу Мария Антуанетта. Мария Стюарт - Стефан Цвейг - Страница 9
Мария Антуанетта
Портрет ординарного характера
Семейный портрет королевской четы
ОглавлениеВ первые недели после восшествия на престол Людовика XVI у художников, скульпторов, граверов по меди и медальеров всей Европы хлопот по горло. И во Франции с большой поспешностью убираются портреты с некоторых, совсем недавних пор уже более не «Возлюбленного» короля Людовика XV и заменяются портретами здравствующих венценосных супругов, портретами, разукрашенными венками и лентами: «Le roi est mort, vive le roi!»
Знающему свое ремесло медальеру приходится не очень-то кривить душой, чтобы польстить королю, чтобы придать нечто цезаристское лицу простоватого, добродушного Людовика XVI. Действительно, если не обращать внимания на короткую, крепкую шею, голову короля никак не назовешь неблагородной: правильный покатый лоб, сильный, пожалуй даже смелый, рисунок носа, полные чувственные губы, мясистый, но пропорциональной формы подбородок образуют внушительный, весьма приятный профиль. Во вмешательстве ретушера, вероятно, более всего нуждаются глаза: очень близорукий, король без лорнета и в трех шагах не узнает человека. Штихель гравера должен хорошенько поработать, чтобы придать некоторую значительность этим выпуклым водянистым глазам с тяжелыми веками. Не лучше обстоят дела у Людовика Неуклюжего и с осанкой. Трудно приходится придворным художникам, пытающимся изобразить короля в торжественном облачении стройным и представительным. Преждевременно ожиревший, малоподвижный и вследствие своей близорукости до смешного неловкий, Людовик XVI, несмотря на высокий рост – почти шесть футов, всегда на всех официальных приемах имеет несчастный вид (la plus mauvaise tournure qu’on pût voir[39]). По блестящему паркету Версаля он идет тяжело, раскачиваясь из стороны в сторону, «словно крестьянин за плугом». Он не умеет ни танцевать, ни играть в мяч, а когда спешит, спотыкается о свою шпагу. Бедняга, он понимает свою физическую неполноценность, и это делает его застенчивым; застенчивость же еще более увеличивает его неуклюжесть. И каждому впервые увидевшему короля Франции кажется, что перед ним жалкий увалень, а не могучий властелин.
Но Людовик XVI отнюдь не глупый и не ограниченный человек; подобно тому как близорукость делает его поведение неуверенным, так и робость, застенчивость, в конечном счете определяемые, вероятно, половой неполноценностью, сковывают его духовно. Поддерживать с кем-нибудь разговор этому болезненно робкому государю стоит каждый раз огромного душевного напряжения. Осознавая этот свой недостаток, зная, как медленно, как тяжело он думает, Людовик XVI испытывает невыразимый страх перед остроумными, развязными людьми, которые за словом в карман не лезут. Но стоит лишь дать ему время, чтобы упорядочить свои мысли, стоит лишь не настаивать на быстрых ответах, на скором решении, и он удивит даже самого скептического собеседника, такого, например, как Иосиф II или Петион, своим, правда не сверкающим, не блестящим, но основательным и прямолинейным здравым смыслом. Как только ему удается счастливо преодолеть свою нервную робость, он ведет себя совершенно нормально. Вообще, чтение и письмо он предпочитает разговору, ведь книги не торопят, не настаивают на быстрых решениях; Людовик XVI, этому трудно поверить, читает много и охотно, у него хорошие познания в истории и географии, он непрерывно совершенствует свой английский, свою латынь, здесь ему помогает блестящая память. В документах и расходных книгах Людовика XVI образцовый порядок; каждый вечер своим четким, круглым, почти каллиграфическим почерком записывает он в дневник скудное содержание своей жизни («застрелено шесть оленей», «принял слабительное»). И несмотря на то что по наивной недальновидности автора в дневнике нет ни слова о событиях всемирно-исторического значения, этот документ производит потрясающее впечатление: так полно он характеризует посредственный, не умеющий самостоятельно мыслить интеллект, который мог бы принадлежать, например, ординарному таможенному ревизору или канцелярскому чиновнику, интеллект, способный лишь к чисто механической, подчиненной деятельности в тени эпохальных событий, к чему угодно, но только не к деятельности государя.
Что-то роковое в натуре Людовика XVI все же есть: кажется, будто не горячая кровь течет в его жилах, а тяжелый свинец медленно движется в них, с трудом превозмогая упрямое противодействие природы. Этот человек, искренне старающийся быть во всем добросовестным, вечно должен преодолевать в себе сопротивление материи, какую-то сонливость, чтобы сделать что-либо, подумать о чем-нибудь, хотя бы только почувствовать что-то. Его нервы, словно старые резиновые тесемки, не могут ни натягиваться, ни вибрировать, они не реагируют на электрические импульсы чувств. Эта прирожденная пониженная нервная чувствительность Людовика XVI является причиной его эмоциональной невозбудимости. Любовь (как в духовном, так и в физическом смысле), радость, удовольствия, страх, боль, тоска – ни одно из этих чувств не может проникать сквозь слоновью кожу его хладнокровия, даже непосредственная угроза жизни не в силах вывести его из летаргии. Его пульс не убыстряется при штурме Тюильри, накануне казни он с аппетитом поест и будет хорошо спать: сон и аппетит – две опоры, на которых покоится его прекрасное самочувствие. Никогда этот человек не побледнеет, даже под пистолетом, наведенным на него, никогда равнодушные глаза его не сверкнут в гневе, ничто не испугает его, но ничто и не вдохновит. Лишь самая грубая физическая нагрузка, слесарные работы, охота способны заинтересовать его, привести в движение. Напротив, все нежное, чувствительное, грациозное – искусство, музыка, танцы – просто не входит в мир его ощущений; ни одна муза, никакие божества, даже Эрос, не могут расшевелить его вялые чувства. В двадцать лет Людовик XVI не вожделел ни к одной женщине, кроме той, которая была определена ему в жены дедом; он счастлив, он доволен ею, как доволен всем в своей прямо-таки вызывающей невзыскательности. И действительно, есть какой-то сатанинский умысел судьбы в том, чтобы от такой тупой, закостенелой натуры потребовать решения, имеющего определяющий смысл для всего столетия, чтобы человека, склонного к созерцательной жизни, поставить перед лицом ужасной мировой катастрофы. Ибо как раз тогда, когда начинается действие, когда мускулы воли должны напрячься для нападения или защиты, этот физически здоровый человек самым жалким образом оказывается слабым: решиться на что-нибудь Людовику XVI каждый раз невыразимо трудно. Он может только уступать, только исполнять желания других, ибо сам ничего иного не желает, кроме покоя, одного лишь покоя. Застигнутый врасплох, он пообещает настойчивому просителю любую должность, а затем ее же с такой же готовностью – другому. Его подчиняет себе любой, едва приблизившийся к нему. Из-за этого поразительного слабоволия Людовик XVI постоянно вновь и вновь оказывается без вины виноватым и при самых честных намерениях бесчестным, игрушкой в руках своей жены, своих министров, бобовым королем, безрадостным, без царственной осанки, по-настоящему счастливым, лишь когда его оставляют в покое, и отчаянно теряющимся в часы, когда действительно необходимо приказывать. Революция положила голову этого беззлобного, туповатого человека под нож гильотины. Но если бы она дала ему где-нибудь небольшой крестьянский домик с садиком и какую-нибудь незначительную должность, то осчастливила бы его куда больше, чем в свое время архиепископ Реймсский, увенчавший его короной – короной, которую на протяжении двадцати лет он равнодушно нес – без гордости, без радости, без достоинства.
* * *
Ни один из самых льстивых придворных бардов никогда и не отважился бы превозносить как великого властелина этого доброжелательного немужественного человека. И напротив, в своем стремлении восславить, запечатлеть образ королевы любыми средствами художественного воспроизведения – в мраморе, терракоте, фарфоре, пастелью, бесчисленными миниатюрами из слоновой кости, грациозными стихотворениями, – в этом стремлении соревновались самые различные скульпторы, художники, поэты, ибо образ ее, ее манеры полностью соответствовали идеалу ее времени. Нежная, стройная, изящная, пленительная, игривая и кокетливая, с первого часа восшествия на престол девятнадцатилетняя королева становится богиней рококо, совершенным образцом моды и господствующего вкуса. Если женщина желает, чтобы ее считали красивой и привлекательной, она стремится быть похожей на Марию Антуанетту. И при всем этом лицо Марии Антуанетты не так уж выразительно, не так впечатляюще: ровный, тонко очерченный овал с небольшими пикантными неправильностями – с габсбургской, несколько выпяченной губой, с плосковатым лбом; лицо, не одухотворенное ни следами таланта, ни какими-то индивидуальными чертами. Чем-то холодным, какой-то пустотой, словно от портрета на эмали, веет от этого еще не сформировавшегося лица, лица девушки, пока еще интересующейся только собой. Лишь последующие годы – годы зрелости – придадут этому лицу величественную полноту и решительность. Только кроткие глаза, быстро меняющиеся с настроением, способные легко наполниться слезами и тотчас же игриво засверкать, свидетельствуют о живости чувств, а близорукость придает их не очень глубокой, поверхностной голубизне зыбкость и трогательность; но никаких волевых черт, никаких линий, указывающих на сильный характер, нет в этом бледном лице; чувствуется лишь мягкая, податливая натура, подвластная настроению и совсем по-женски всегда следующая только глубинным течениям своих ощущений. Эта нежная грациозность и восхищала всех в Марии Антуанетте. Действительно, в этой женщине по-настоящему существенно женственными являются лишь ее роскошные пепельные, отливающие рыжинкой волосы, фарфоровая белизна и гладкость кожи лица, прелестная округлость форм, совершенные линии плеч, словно выточенных из слоновой кости, холеная красота рук – все цветение и благоухание полураспустившегося девичества, правда слишком мимолетное и утонченное очарование, чтобы его можно было описать.
Ибо даже те немногие художественные портреты, которые наиболее верно передают ее образ, все же утаивают от нас самое существенное в ее облике – невыразимое обаяние ее личности. Портреты, как правило, в состоянии зафиксировать лишь застывшую позу человека, подлинная же притягательная сила Марии Антуанетты – с этим согласны все – в неподражаемом очаровании ее движений. Именно в манере держаться одухотворенно раскрывает Мария Антуанетта прирожденную музыкальность своего тела; когда она, высокая и стройная, проходит вдоль рядов придворных, выстроившихся в Зеркальном зале, когда она беседует, откинувшись в креслах, кокетливая и доброжелательная, когда она, словно окрыленная, стремительно несется по лестнице, перескакивая через ступеньки, когда она естественным, грациозным жестом подает для поцелуя ослепительно-белую руку или нежно обнимает свою подругу за талию, – всегда ее манера держаться без какого-либо напряжения определяется одной лишь женской интуицией. Обычно очень сдержанный, англичанин Гораций Уолпол пишет в совершенном упоении: «С гордо поднятой головой она являет собой олицетворение красоты, в движении же это воплощенная грация». И действительно, подобно амазонке, она прекрасно играет в мяч, в совершенстве владеет искусством верховой езды; где бы ни появилась стройная, гибкая Мария Антуанетта, красивейшие женщины двора пасуют перед ней, они не в состоянии соревноваться с королевой не только в прирожденном изяществе движений и поведения, но и в чувственной привлекательности. Восхищенный Уолпол энергически отклоняет упреки в ее адрес относительно того, что она будто бы в танце не всегда следует ритму. «Это музыка фальшивит», – остроумно возражает он. Именно поэтому – ведь каждая женщина отлично знает секрет своего обаяния – Мария Антуанетта бессознательно любит движение. Беспокойство – присущий ей элемент, и, напротив, быть статичной, сидеть без дела, слушать, читать, размышлять и, в известном смысле, даже спать – все это невыносимое испытание для ее терпения. Постоянно двигаться, что-то начинать, всегда новое, и не доводить до конца, всегда быть занятой и при этом не утомлять себя серьезно, но постоянно чувствовать, что время не стоит на месте, что нужно спешить за ним вслед, обогнать его, опередить! Не сидеть долго за едой, лишь на скорую руку полакомиться кусочком торта или печеньем, не спать долго, не раздумывать. Быстрее, быстрее в переменчивую праздность! И вот все эти двадцать лет со дня восшествия на престол становятся для нее бесконечным кружением вокруг самой себя, кружением, не имеющим ни внутренней, ни внешней цели, пустой тратой времени – по существу, холостым ходом с политической и человеческой точек зрения.
Именно эта неосновательность, эта неспособность дисциплинировать, сдержать самое себя, непрерывное расточительство своих духовных сил, значительных, но неверно используемых, – именно это так глубоко огорчает в Марии Антуанетте ее мать. Глубокий психолог, императрица прекрасно понимает, что одаренная природой, одухотворенная девушка способна на большее, на неизмеримо большее. Следует лишь Марии Антуанетте захотеть стать той, кем она в сущности является, и она будет обладать королевской властью; но таков рок – по инертности, по лености натуры, из стремления к комфорту она постоянно выбирает себе уровень жизни ниже своих собственных возможностей. Как истинная австрийка, она, несомненно, обладает многими талантами, но, к сожалению, у нее нет ни малейшей воли, чтобы серьезно использовать эти свои дарования или хотя бы развить их. Легкомысленно относится она к ним, легкомысленно разбрасывается. «Первое ее побуждение, – говорит о ней Иосиф II, – всегда правильно; прояви она при этом немного настойчивости, задумайся немного глубже, и все было бы прекрасно». Но как раз именно эта необходимость чуть-чуть подумать обременительна при ее переменчивом темпераменте. Ей в тягость думать хоть сколько-нибудь больше, чем это необходимо для внезапного решения, а ее своенравная, свободная натура ненавидит духовную нагрузку любого рода. Лишь развлечений хочет она, лишь легкости во всем, никаких усилий, никакой настоящей работы. При разговорах только язык Марии Антуанетты занят, ум ее бездействует. Когда к ней обращаются, она слушает рассеянно; подкупая чарующей любезностью и блистательной легкостью в беседе, она тотчас же дает мысли угаснуть, едва та возникнет. Мария Антуанетта ни о чем не думает, ничего не прочитывает до конца, ничего не удерживает в памяти, чтобы извлечь какую-то пользу из накапливаемого опыта. Поэтому она не любит книг, не желает иметь дела с документами, избегает всего сколько-нибудь серьезного, требующего настойчивости, упорства, внимания; с большим нежеланием, нетерпеливым, неразборчивым почерком разделывается она с теми письмами, отложить ответ на которые уж более невозможно; даже в письмах к матери часто отчетливо прослеживается это желание иметь все готовым. Только не осложнять себе жизнь, подальше гнать от себя все, что навевает меланхолию, делает голову тяжелой и тупой! Того, кто лучше других приспосабливается к этой лености ее ума, она считает умным человеком, того же, кто требует от нее напряжения ума, – докучливым педантом. Как от огня бежит она от всех советчиков с житейским опытом в свой кружок кавалеров и дам, близких ей по образу мыслей. Только наслаждаться, не дать утомить себя размышлениями, расчетами, мелочными вычислениями – так думает она, так думают все из ее окружения. Жить лишь чувствами и ни о чем не раздумывать – мораль целого поколения, мораль всего Dix-huitième – восемнадцатого века, которому судьба символически определила ее королевой, чтобы она жила с ним и с ним умерла.
* * *
Трудно представить себе двух других молодых людей, которые по характеру так сильно отличались бы друг от друга, как эти двое. Нервами, пульсом крови, малейшими проявлениями темперамента, всеми своими свойствами, всеми особенностями Мария Антуанетта и Людовик XVI представляют собой хрестоматийный образец антитезы. Он тяжел – она легка, он неуклюж – она подвижна и гибка, он неразговорчив – она общительна, он флегматичен – она нервозна. И далее в духовном плане: он нерешителен – она слишком скора на решение, он долго размышляет – она быстра и категорична в суждениях, он ортодоксально верующий – она радостно жизнелюбива, он скромен и смирен – она кокетлива и самоуверенна, он педантичен – она несобранна, он бережлив – она мотовка, он сверхсерьезен – она безмерно легкомысленна, он тяжелый поток с медленным течением – она пена и пляска волн. Он лучше всего чувствует себя наедине с самим собой, она – в шумном обществе; он с тупым чувственным удовольствием любит хорошо, не торопясь поесть и выпить крепкого вина – она никогда не пьет вина, ест мало, между делом. Его стихия – сон, ее – танец; его мир – день, ее – ночь; и стрелки часов их жизни постоянно следуют друг за другом с большим сдвигом, словно солнце и луна на небосводе. В одиннадцать ночи, когда Людовик ложится спать, Мария Антуанетта только начинает по-настоящему жить, нынче – за ломберным столом, завтра – на балу, каждый раз в новом месте; он давным-давно верхом гоняется по охотничьим угодьям, она лишь встает с постели. Ни в чем, ни в одной точке не соприкасаются их привычки, влечения, их времяпрепровождение. Собственно, Мария Антуанетта и Людовик XVI бóльшую часть своей жизни проводят vie à part[40], и (к большому огорчению Марии Терезии) почти всегда у них – lit à part[41].
Итак, следовательно, неудачный брак, брак, приведший к непрерывным ссорам, брак не переносящих друг друга людей, наводящих друг на друга тоску своим присутствием? Отнюдь нет! Наоборот, вполне удачный брак, а если бы не первоначальная временная мужская несостоятельность супруга, приведшая к известным болезненным результатам, даже совершенно счастливый брак. Ибо для того, чтобы во взаимоотношениях возникла напряженность, с обеих сторон необходимы определенные усилия, нужно волю противопоставить воле, нужна твердость против твердости. Эти же двое, и Мария Антуанетта, и Людовик XVI, уклоняются от любых трений, уходят от любой напряженности в отношениях, он – из-за физической вялости, она – из-за духовной. «Мои вкусы отличны от вкусов короля, – легкомысленно проговаривается Мария Антуанетта в одном письме, – его ничего не интересует, кроме охоты и слесарных работ… Согласитесь, что в кузнице я выглядела бы не очень грациозно, на Вулкана я не похожа, а возьми я на себя роль Венеры, то моему супругу, вероятно, это понравилось бы еще меньше, чем иные мои наклонности». Людовику XVI совсем не по вкусу порывистый, шумный характер ее удовольствий и развлечений, однако этот апатичный человек не имеет ни воли, ни сил энергично вмешиваться. Добродушно усмехается он по поводу ее необузданности и по существу горд тем, что имеет такую удивительную, такую обаятельную жену. В той степени, в какой его вялые чувства вообще способны проявить какие-то движения, этот славный малый неуклюже и основательно, в полном соответствии со своим характером, предан прелестной своей жене, превосходящей его по живости ума. Чувствуя свою неполноценность, он старается стушеваться, не затенять ее. Она, напротив, посмеивается над своим супругом-увальнем, но беззлобно, снисходительно, ибо и она по-своему расположена к нему, как, например, к большому лохматому сенбернару, которого можно почесывать, щекотать и гладить, потому что он никогда не огрызнется, не укусит, останется ласковым и послушным малейшему знаку хозяйки. Подолгу сердиться на своего толстокожего супруга она не может, хотя бы из одного чувства благодарности. Ведь он позволяет ей вести себя, как ей вздумается, следовать своим капризам, тактично отходит на задний план, когда чувствует себя лишним, никогда без приглашения не переступает порога ее комнаты – идеальный супруг, который, несмотря на свою бережливость, всегда оплачивает ее долги и разрешает ей все, а в последние годы их супружеской жизни – даже иметь любовника. Чем дольше Мария Антуанетта живет с Людовиком XVI, тем больше она проникается уважением к этому характеру – в высшей степени достойному, несмотря на отдельные слабости. Из брака, построенного на политических расчетах, на дипломатических соображениях, постепенно возникают настоящие добросердечные отношения, во всяком случае более близкие и душевные, чем в большинстве браков царствующих особ того времени.
Лишь великое и святое слово «любовь» лучше здесь не произносить. Для настоящей любви этому немужественному Людовику недостает энергии сердца; с другой стороны, в симпатии Марии Антуанетты к нему слишком много жалости, слишком много снисходительности, слишком много уступок, чтобы эту индифферентную смесь можно было назвать любовью. Тонко чувствующая и нежная натура ради долга и из соображений государственной необходимости могла и должна была физически отдаться своему супругу. Но было бы просто-напросто нелепицей предположить, что медлительный, вялый, инертный человек, этот Фальстаф, может вызвать в такой живой женщине прилив эротической напряженности или удовлетворить эту напряженность. «Любви у нее к нему нет абсолютно», – сообщает в Вену из Парижа Иосиф II коротко и ясно, в своей спокойной и деловитой манере, а когда Мария Антуанетта пишет своей матери о том, что из всех трех братьев ей больше всех, «однако же», нравится тот, который определен ей Богом в мужья, то это «однако же», это предательски прошмыгнувшее в письмо «однако же» говорит больше, чем хотела бы сказать королева, а именно: поскольку я не могла получить лучшего мужа, этот славный, порядочный супруг, «однако же», является приемлемым заменителем. В этом слове – вся прохладность отношений царственных супругов. Мария Терезия в конце концов могла бы удовлетвориться столь эластичным представлением о браке – из Пармы о другой своей дочери она слышит несравненно более неприятные вещи, – если бы Мария Антуанетта могла искусно притворяться и проявлять несколько больше душевного такта в своем поведении, если бы она могла хоть лучше скрывать от других, что ее царственный супруг как мужчина представляет собой нуль, quantité négligeable[42]. Но Мария Антуанетта – и этого Мария Терезия ей простить не может, – бросая подчас неосторожные слова, наносит ущерб чести своего супруга. Одно из таких легкомысленных слов мать, к счастью, вовремя перехватывает первая. Граф Розенберг, друг и советник императрицы, является с визитом в Версаль. Мария Антуанетта проникается симпатией и таким доверием к пожилому галантному господину, что посылает ему в Вену веселое и легкомысленное письмо, в котором рассказывает, как одурачила своего мужа, когда герцог Шуазель просил у нее аудиенции: «Вы, конечно, поверите мне, что я не встретилась с ним, не уведомив предварительно об этом короля. Но Вы представить себе не можете, какую мне пришлось проявить изобретательность, чтобы не создалось впечатления, будто я испрашиваю у короля разрешения на эту аудиенцию. Я сказала ему, что охотно бы приняла господина Шуазеля, но еще не определилась в выборе дня, и сделала это так хорошо, что бедняга (le pauvre homme) сам назвал мне наиболее подходящее время для этой встречи. По-моему, на этот раз я лишь использовала права жены». Легкомысленно пишет она слова «pauvre homme», беспечно запечатывает письмо, полагая, что рассказала лишь веселый анекдот. На языке ее сердца «pauvre homme» звучит совершенно безобидно: «славный, добрый малый». Но в Вене эти слова, выражающие сложные чувства симпатии, жалости и презрения, читают совсем по-другому. Марии Терезии предельно ясно, какая опасная бестактность таится в том, что королева Франции в частном письме именует самого могущественного государя христианского мира, короля Франции, «pauvre homme», в том, что она не почитает своего супруга как монарха. Можно представить себе, в каком тоне иронизирует над повелителем Франции эта ветреница на гуляньях в парках Версаля, на балах-маскарадах со своими подругами Ламбаль и Полиньяк, со своими юными кавалерами! Все это тотчас же самым тщательным образом обсуждается в Вене, а затем Марии Антуанетте отправляется столь энергичное письмо, что Императорский архив многие десятилетия не разрешает его публикацию.
«Я не могу скрыть того, – задает старая императрица нахлобучку дочери, забывшей свой долг, – что меня крайне озадачило твое письмо графу Розенбергу. Что за выражения, что за легкомыслие! Где оно, такое кроткое, такое преданное сердце эрцгерцогини Марии Антуанетты? Я вижу одни лишь интриги, мелочную злобность, издевательства и язвительность; интриговать могла бы какая-нибудь Помпадур, какая-нибудь Дюбарри, но не принцесса, преисполненная доброты, и также не престолонаследница из дома Габсбургов Лотарингских. Твой быстрый успех, льстецы, окружающие тебя с этой зимы, когда ты кинулась в водоворот развлечений, пленилась нелепыми нарядами и модами, – все это пугает меня, приводит в ужас. Эта бешеная гонка от развлечений к развлечениям, хотя ты знаешь, что королю это неприятно, что он сопровождает тебя или терпит все это исключительно из-за своей мягкости, все это заставляло меня высказывать свое беспокойство в моих прежних письмах. Этим письмом я подтверждаю свои опасения. Что за язык! „Le pauvre homme!“ Где уважение, где благодарность за всю его предупредительность? Я оставляю эту тему, хотя много можно было бы сказать тебе еще. Подумай, поразмысли сама надо всем этим… Но если я опять услышу о подобных неприличных выходках, я не смогу промолчать, потому что очень люблю тебя и многое, к сожалению, больше других предвижу, потому что знаю, как ты легкомысленна, как горяча, как необдуманны твои поступки. Твое счастье может очень скоро кончиться, и ты по своей же собственной вине окажешься ввергнутой в величайшее несчастье, и все это – вследствие ужасной жажды наслаждений, которая не дает тебе возможности заняться каким-либо серьезным делом. Какие книги ты читаешь? И ты еще осмеливаешься вмешиваться в важнейшие государственные дела, влияешь на выбор министров? Мне кажется, аббат и Мерси стали неприятны тебе, ведь они не подражают этим низким льстецам и хотят сделать тебя счастливой, а не просто веселиться и извлекать выгоды, пользуясь твоими слабостями. Однажды ты поймешь все это, но будет слишком поздно. Я надеюсь, что не доживу до этого дня, и молю Бога, чтобы он как можно быстрее призвал меня к себе, ибо я уже не могу быть полезной тебе и мне не перенести ни потери моего ребенка, которого буду любить нежно до последнего вздоха, ни его несчастья».
* * *
Не преувеличивает ли она, не слишком ли рано рисует всякие ужасы по поводу этих, в общем-то, озорства ради написанных слов «pauvre homme»? Но для Марии Терезии сейчас это не случайные слова, а симптом. Внезапно, словно при вспышке молнии, они показывают ей, как мало чтит Людовика XVI его жена, как мало чтут его при дворе. На душе у императрицы неспокойно. Если в государстве пренебрежение к монарху подтачивает едва ли не самую прочную опору – его собственную семью, выдержат ли бурю другие столбы, другие колонны? Устоит ли монархия без монарха, если над ней нависнет угроза, устоит ли трон, находящийся во власти заурядных статистов, у которых ни в крови, ни в сердце нет ничего королевского? Рохля и дама света, он тяжелодум, она слишком опрометчива, – как этим двоим, не умеющим мыслить по-государственному, утвердить свою династию в такое беспокойное время? Нет, она совсем не разгневана на свою дочь – старая императрица лишь очень озабочена судьбой Марии Антуанетты.
И действительно, как сердиться на этих двоих, как осуждать их? Даже Конвенту, их обвинителю, очень трудно будет объявить этого «беднягу» тираном и злодеем; ни грана коварства нет ни в одном из них, и, что обычно для большинства заурядных характеров, нет никакой черствости, никакой жестокости, нет ни честолюбия, ни грубого тщеславия. Но, к несчастью, их достоинства не выходят за пределы мещанских ординарных мерок: честное добросердечие, легкомысленная снисходительность, умеренная доброжелательность. Живи они в столь же заурядные, как они сами, времена, они были бы окружены почетом и пользовались бы всеобщим уважением. Но ни Мария Антуанетта, ни Людовик не смогли внутренне измениться, не смогли трагически возвышенной эпохе противопоставить такую же возвышенность сердец; они, пожалуй, знали, как следует с достоинством умереть, но жить ярко и героически они не смогли. Каждого в конце концов настигает его судьба, хозяином которой ему не дано быть. В любом поражении есть и смысл, и вина. Гёте мудро определил их в отношении Марии Антуанетты и Людовика XVI:
В грязи валяется корона.
Метла повымела весь дом.
Король бы не лишился трона,
Будь он и вправду королем[43].
39
Самая неказистая внешность, какую только можно себе вообразить (фр.).
40
Жизнь врозь (фр.).
41
Отдельная постель (фр.).
42
Нечто не стоящее внимания (фр.).
43
Из «Кротких ксений».