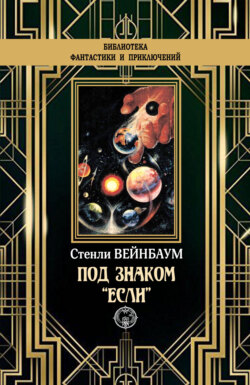Читать книгу Под знаком «Если» - Стенли Вейнбаум - Страница 3
Профессор Ван Мандерпутц
Идеал[2]
Оглавление– Уже скоро это создание моего разума заговорит и откроет нам все тайны мироздания, – объявил Роджер Бэкон, ласково поглаживая стоящий перед ним на пьедестале железный череп.
– Но как может заговорить железо, святой отец? – спросил изумленный послушник.
– Благодаря разуму человеческому, коий есть лишь искра разума Господня, – отвечал францисканец. – Благочестивый и мудрый человек обращает искусство Дьявола на Божью пользу и таким образом посрамляет врага нашего. Но чу! Звонят к вечерне! Plena gratia ave Virgo[3].
Но дни сменяли дни, а череп так и не заговорил. Железные губы молчали, железные глазницы оставались тусклыми. Однажды, когда Роджер сочинял письмо к Дунсу Скоту в дальнюю колонию, в маленькой келье неожиданно зазвучал надтреснутый, хрипловатый, нечеловеческий голос.
– Время есть! – произнес череп, лязгая челюстью.
– В самом деле, время есть, – ничуть не удивившись, ответил doctor mirabilis[4] – Ведь не будь времени, ничто в мироздании не могло бы свершаться…
– Время было! – воскликнул череп.
– И в самом деле, время было, – согласился монах. – Ведь время – это воздух для событий. Материя существует в пространстве, а события – во времени.
– Время прошло! – прогудел череп голосом, глубоким, как церковные колокола, – и разбился на десять тысяч кусков.
– Это предание, – провозгласил старый Гаскел Ван Мандерпутц, захлопывая книгу, – и натолкнуло меня на идею сегодняшнего эксперимента. Надеюсь, Дик, вы далеки от мысли, что Бэкон был средневековым мракобесом вроде того пражского раввина, создателя Голема. – Голландец погрозил мне своим длинным пальцем. – Нет! Роджер Бэкон был великим естествоиспытателем: он зажег факел, который его однофамилец Фрэнсис Бэкон подхватил четыре столетия спустя и который теперь вновь зажигает Ван Мандерпутц.
Я почувствовал замешательство и легкий страх, совсем как послушник в легенде.
– Я даже не побоюсь сказать, – продолжал профессор, – что Роджер Бэкон – это Ван Мандерпутц тринадцатого века, а Ван Мандерпутц – это Роджер Бэкон двадцать первого столетия. Его Opus Majus, Opus Minos и Opus Tertium[5]…
– В этих трудах вы нашли описание своего робота? – я указал на неуклюжий механизм, который стоял в углу лаборатории.
– Не перебивайте! – рявкнул Ван Мандерпутц. – Я буду…
В этот момент массивная металлическая фигура произнесла нечто вроде: «А-а-г-расп!» – и, высоко подняв руки, шагнула к окну.
– Что за черт! – воскликнул я.
– Наверное, по переулку проехала машина, – равнодушно пояснил Ван Мандерпутц. – Так, значит, как я говорил, Роджер Бэкон…
Я перестал слушать, сохраняя на лице выражение полнейшей заинтересованности. Мне это было нетрудно, как-никак я уже несколько лет был студентом самоуверенного голландца. Пожирая профессора глазами, я думал вовсе не о мертвом Бэконе, а о весьма живой и теплой Типс Альве. Вы наверняка знаете этого маленького белокурого чертенка, который выкидывает антраша на телеэкране вместе с толпой не менее темпераментных девиц из Бразилии. Хористочки, танцовщицы и телевизионные звезды – это моя слабость; возможно, какая-нибудь моя прапрабабушка тоже была из таких.
Сам-то я – увы! – от театра далек. Я Дик Уэллс – сын и наследник Эн Джи Уэллса, владельца корпорации нестандартной инженерии. Предполагается, что я и сам инженер, но как бы в творческом отпуске, потому что отец и на дюйм не подпускает меня к работе. Еще бы, он у нас человек-хронометр, а я неизбежно опаздываю – всегда и повсюду. Он считает, что я проклятый вольнодумец и якобинец, хотя на самом деле я всего-навсего постромантик.
Старик Эн Джи также возражает против моей склонности к дамам с творческой жилкой, а потому периодически грозится урезать мое содержание (так называемое жалование).
Таков я. А это мой профессор физики, глава отделения новой физики в Нью-Йоркском университете, человек гениальный, но немного эксцентричный. Кстати, он только что закончил речь.
– Таковы основные положения, – произнес Ван Мандерпутц.
– А? Ох разумеется! Но какое отношение имеет к этому ваш ухмыляющийся робот?
Он побагровел:
– Да я же только что вам объяснил! Идиот! Кретин! Мечтать, когда говорит Ван Мандерпутц! Убирайтесь! Вон отсюда!
Я и убрался. Все равно было уже поздно, так поздно, что назавтра я проспал дольше обычного и получил очередную головомойку от отца.
Ван Мандерпутц, по счастью, был отходчив. Когда через несколько дней я опять заглянул к нему, он как ни в чем не бывало опять принялся хвастаться своим роботом.
– Это просто игрушка, которую мне построили студенты, – объяснил он. – За правым глазом у него скрыт экран из фотоэлементов. Когда они улавливают сигнал, начинает действовать весь механизм. Энергию он может брать из сети, и еще ему необходим бензин.
– Почему?
– Ну, он устроен по образцу автомобиля. Смотрите сюда. – Он взял со стола детский игрушечный автомобильчик. – Так как у него работает только один глаз, робот не может видеть перспективу и отличать маленький предмет от большого, но удаленного. Этот автомобильчик и большой автомобиль за окном для него суть едины.
Профессор показал автомобильчик роботу. Немедленно раздалось: «А-а-г-расп!», робот, переваливаясь с ноги на ногу, сделал шаг, руки поднялись.
– Что за черт! – воскликнул я. – Зачем это?
– Я демонстрирую этого робота у себя на семинаре.
– Как доказательство чего?
– Силы разума, – торжественно провозгласил Ван Мандерпутц.
– Каким образом? И зачем ему бензин?
– Отвечаю по порядку, Дик. Вы не в состоянии оценить величие концепции Ван Мандерпутца. Так вот, слушайте: это создание при всем его несовершенстве представляет собой машину-хищника. Оно словно тигр, затаившийся в джунглях у водопоя, чтобы прыгнуть на живую добычу. Джунгли этого чудовища – город, его добыча – излишне доверчивая машина, которая следует по тропам, называемым улицами. Понятно?
– Нет.
– Ну представьте себе этот автомат не таким, каков он есть, а таким, каким мог бы сделать его Ван Мандерпутц, если бы захотел. Этот гигант скрывается в тени зданий, он крадучись ползет через темные переулки, неслышно ступает по опустевшим улицам, и его двигатель тихонько урчит. И вот он видит зазевавшийся автомобиль. Он делает прыжок. По металлическому горлу его жертвы щелкают стальные зубы, бензин, кровь его добычи, капает ему в желудок, точнее – в канистру. Насытившись, он отбрасывает пустую оболочку и крадется в поисках новой жертвы. Это плотоядная машина, тигр среди механизмов.
Я подумал, что мозги великого Ван Мандерпутца дали трещину.
– Это, – продолжал профессор, – всего лишь одна из возможностей. С этой игрушкой можно играть во всякие игры. С ее помощью я могу доказать все что угодно.
– Можете? Тогда докажите что-нибудь.
– Что же, Дик?
Я заколебался.
– Ну же! – воскликнул он нетерпеливо. – Хотите, я докажу, что анархия – идеальная власть, или что рай и ад – одно и то же место, или…
– Как это? – не понял я.
– С легкостью. Сперва мы наделяем моего робота разумом. Добавим механическую память, склонность к математике, голос и словарный запас. Для этого понадобятся всего лишь мощный калькулятор и фонограф. А теперь вопрос: если я построю еще одну такую машину, будет ли она идентична первой?
– Нет, – ответил я. – Ведь машины строят люди, а люди не могут работать одинаково. Обязательно будет хотя бы крошечная разница: одна будет реагировать на мгновение быстрее; или одна станет предпочитать в качестве добычи Форд эксплореры, а другая – Кадиллаки. Иными словами, они будет иметь индивидуальность! – и я победно улыбнулся.
– Замечательно! – воскликнул Ван Мандерпутц. – Значит, вы признаете, что эти индивидуальные черты есть результат несовершенства исполнения. Если бы наши средства производства были совершенными, все роботы были бы идентичными и этой индивидуальности не существовало бы. Это верно?
– Я… я думаю – да.
– Тогда выходит, что наши собственные индивидуальные особенности есть следствия нашего изначального несовершенства. Все мы – даже Ван Мандерпутц! – являемся индивидуальностями только из-за того, что мы несовершенны. Были бы мы совершенными – каждый из нас был бы в точности похож на всех остальных. Верно?
– Н-ну… да.
– Но рай по определению есть место, где все совершенно. А следовательно, в раю каждый в точности похож на всех остальных, и поэтому каждый изнывает от тоски! Ну как, Дик?
Я был загнан в угол.
– Но… тогда насчет анархии?
– Это просто. Очень просто для Ван Мандерпутца. Имея совершенную нацию, то есть такую, которая состоит из идентичных идеальных граждан, можно считать, что законы и правительство абсолютно излишни. Если, например, возникает причина для войны, то каждый принадлежащий к этой нации человек в ту же самую секунду проголосует за войну. А поэтому в правительстве нет необходимости, стало быть, анархия есть идеальное правительство для идеального народа. – Он сделал паузу. – А теперь я докажу, что анархия – вовсе не есть идеальное правление!
– Неважно, – произнес я умоляющим тоном. – Не трудитесь. Кто я такой, чтобы спорить с Ван Мандерпутцем? Но неужели в этом и заключается ваша цель? Робот для логических фокусов?
Механическое существо ответило мне своим обычным ревом – какая-то случайная машина промчалась мимо окна.
– Разве этого недостаточно? – проворчал Ван Мандерпутц. – Однако, – голос его дрогнул, – есть еще кое-что! Мальчик мой, Ван Мандерпутц разрешил величайшую проблему во Вселенной! – Он сделал паузу, чтобы насладиться эффектом, который произвели его слова. – Ну, что же вы ничего не говорите?
– Ммм… – выдохнул я. – Это же… ммм… грандиозно!
– Не для Ван Мандерпутца, – скромно сказал он.
– Но в чем же она? В чем эта проблема?
– Эээ… Ох, ладно. Скажу вам, Дик. – Он нахмурился. – Вы не поймете, но я вам скажу. – Он кашлянул.
– В начале двадцатого столетия, – начал он, – Эйнштейн доказал, что энергия квантуется. Материя также квантуется, а теперь Ван Мандерпутц добавляет к этому, что пространство и время дискретны! – он многозначительно посмотрел на меня.
– Энергия и материя квантуются, – пробормотал я, – а пространство и время дискретны… Как это мило с их стороны!
– Глупец! – взорвался профессор. – Смеяться над Ван Мандерпутцем! Я-то думал, что вбил в вашу голову хотя бы элементарные понятия! Материя состоит из частиц, а энергия из квантов. Я добавляю сюда еще два других названия: частицы пространства я называю спатионами, а частицы времени – хрононами.
– И каковы они вблизи, – спросил я, – частицы пространства и времени?
– Да таковы, что их не разглядеть всякому остолопу! – взъярился Ван Мандерпутц. – Точно так же, как кванты материи – это мельчайшие ее частицы, какие могут существовать, точно так же, как не может быть пол-электрона или, если на то пошло, полукванта, точно так же хронон – самая малая частица времени, а спатион – мельчайшая частица пространства. Ни пространство, ни время не непрерывны, каждое из них состоит из этих бесконечно малых частиц.
– Да, но как долго продолжается хронон времени? И сколько это – спатион пространства?
– Ван Мандерпутц даже и это измерил. Хронон – это отрезок времени, необходимый для того, чтобы с помощью одного кванта энергии перевести электрон с одной орбиты на другую. Очевидно, более короткого отрезка времени не может быть, поскольку электрон – мельчайшая единица материи, а квант – мельчайшая единица энергии. А спатион – это в точности объем протона. Поскольку не существует ничего более мелкого, это, очевидно, мельчайшая единица пространства.
– Но послушайте же! – не сдавался я. – А что же тогда существует между этими частицами времени и пространства? Если время движется, как вы говорите, толчками в один хронон, что происходит между этими толчками?
– А-а, – ответил мне великий Ван Мандерпутц. – Теперь мы подходим к самой сути дела. Между частицами пространства и времени, очевидно, должно быть нечто, что не является ни временем, ни пространством, ни материей, ни энергией. Сто лет тому назад Шепли некоторым образом предвосхитил Ван Мандерпутца, когда провозгласил свою космоплазму – великую лежащую в основании всего матрицу, в которой укреплены пространство и время и вся Вселенная. Так вот, Ван Мандерпутц провозглашает всеобщую сингулярность – фокусную точку, в которой встречаются материя, энергия, время и пространство. Загадка Вселенной решена тем, что я решил назвать космонами!
– Потрясающе! – сказал я слабым голосом. – Но какой в этом прок?
– Какой в этом прок? – зарычал он. – Скоро Ван Мандерпутц будет превращать энергию во время, или материю в пространство, или время в пространство, или… – он погрузился в молчание. – Дурак! – пробормотал он. – Подумать только, что вы учились под руководством Ван Мандерпутца! Я краснею, я и в самом деле краснею!
Вообще-то покраснеть ему не удалось. Его лицо всегда было цвета солнца в ветреный вечер.
– Колоссально! – вставил я поспешно. – Что за ум!
Это сработало.
– Но это еще не все! – продолжал он. – Ван Мандерпутц никогда не останавливается. Теперь я объявляю единицу мысли – психон.
Это было уже слишком. Я не находил слов.
– Имеете право онеметь, – согласился Ван Мандерпутц. – Полагаю, вы знаете – хотя бы понаслышке – о существовании мысли. Психон, единица мысли, есть один электрон плюс один протон, которые связаны так, чтобы образовать один нейтрон, встроенный в один космон, занимающий объем одного спатиона, вытолкнутого одним квантом за период одного хронона. Совершенно очевидно и очень просто.
– Очень! – откликнулся я. – Даже я способен понять, что это равняется одному психону.
Профессор так и просиял:
– Отлично! Отлично!
– А что, – решился спросить я, – вы будете делать с психонами?
– А-а, – загромыхал профессор. – Теперь-то мы возвращаемся к Исааку. – Он указал на неподвижного робота. – Я сделаю механическую голову Роджера Бэкона. В черепе этого создания будет скрываться такой интеллект, какой даже Ван Мандерпутц не сможет… или, точнее, один только Ван Мандерпутц сможет осознать. Остается только сконструировать мой идеализатор.
– Ваш идеализатор?
– Разумеется. Разве я не доказал только что, что мысли так же реальны, как материя, энергия, время и пространство? Разве я не продемонстрировал только что, как одно может быть трансформировано в другое посредством космонов? Мой идеализатор предназначается для того, чтобы преобразовывать психоны в кванты, как, например, трубка Крукса или Х-трубка преобразуют материю в электроны. Я сделаю мысли видимыми! И не ваши туповатые мысли, но мысли идеальные! Понятно вам? Психоны вашего мозга таковы, каковы и психоны любого другого, точно так же, как идентичны электроны золота и железа. Да! Ваши психоны, – тут его голос дрогнул, – идентичны психонам мозга… Ван Мандерпутца! – Он умолк, потрясенный.
– В самом деле? – я задержал дыхание.
– В самом деле. Разумеется, их меньше, но они идентичны. И мой идеализатор продемонстрирует нам мысль, освобожденную от налета личности. Он покажет ее в идеале!
Что ж, я опять опоздал на работу.
* * *
Неделю спустя я вспомнил о Ван Мандерпутце. Типс была где-то на гастролях, и я не осмеливался пригласить кого-то другого на ужин, потому что у малышки были несомненные задатки детектива. Так что я заглянул наконец к профессору в его лабораторию в здании физического факультета. Он расхаживал вокруг стола, на котором помещалось невероятное количество трубочек и переплетенных проводов, а самым поразительным из всего было громадное круглое зеркало, огражденное тонкой решеткой.
– Добрый вечер, Дик, – приветствовал меня профессор.
Я поздоровался и спросил:
– Что это такое?
– Мой идеализатор. Грубая модель. Я как раз собираюсь его испытать. – Профессор устремил на меня свои сияющие голубые глаза. – Как удачно, что вы здесь. Это спасет мир от ужасной потери.
– Спасет мир?
– Да. Возможно, в ходе эксперимента пропадет слишком много психонов, и испытуемый будет потом страдать слабоумием. Я был близок к тому, чтобы испытать идеализатор на себе, но только подумайте, как много потеряет мир, если пострадает мозг Ван Мандерпутца. Но вы под рукой, и все выйдет отлично.
– Но… я не хочу!
– Полно, полно! – профессор нахмурился. – Опасность ничтожна. На самом деле я сомневаюсь, выделит ли эта установка из вашего мозга хоть какие-то психоны. В любом случае примерно полчаса у нас есть. Я с моим обширным и более продуктивным умом, несомненно, смог бы выдержать бесконечное напряжение, но слишком велика моя ответственность перед миром. Вы должны ощущать законную гордость.
– Ну а я ее почему-то не ощущаю!
Хоть я и не пришел в восторг от его предложения, но знал, что в глубине души Ван Мандерпутц меня любит, и, кроме того, вряд ли он захочет погубить сына своего шефа. Кончилось тем, что я оказался сидящим за столом лицом к зеркалу.
– Загляните в эту трубку! – приказал профессор. – Важно, чтобы вы сосредоточились на зеркале.
Я выполнил приказание и спросил:
– А теперь что?
– Что вы видите?
– Собственное лицо.
– Разумеется. Теперь я начинаю вращать рефлектор.
Послышалось слабое жужжание, и зеркало начало плавно поворачиваться.
– Теперь попытайтесь подумать, – продолжал Ван Мандерпутц. – Задумайте какое-нибудь существительное. Например, «дом». Если вы задумаете дом, вы увидите – нет, не определенный дом, но ваш идеал дома, дом вашей мечты. Если же вы задумаете лошадь, то увидите идеальную лошадь, такую, какую может создать мечта и желание. Вы поняли? Выбрали предмет?
– Да.
В конце концов мне было всего двадцать восемь, и, разумеется, моей первой мысль было «девушка».
– Хорошо, – сказал профессор. – Включаю цепь.
За зеркалом вспыхнуло голубое сияние. Мое лицо расплылось, но потом изображение стало вновь обретать форму. Я заморгал, не веря своим глазам: Она была здесь!
Бог мой! Как мне описать Ее?! Она была так хороша, что больно было смотреть.
Но я смотрел. Я должен был. Я видел это лицо – где-то… когда-то… В мечтах? Нет, внезапно я осознал, отчего оно кажется мне таким знакомым. Нос Ее, крошечный и дерзкий, принадлежал Уимси Уайт, губы имели совершенный изгиб, как у Типс Альвы, лучистые глаза и волосы цвета южной ночи напоминали о Джоанне Колдуэл. Я вдруг подумал: какова же Ее улыбка? – и тут Она улыбнулась. И теперь Ее красота стала… ну, оскорбительной, что ли. Это был обман, жульничество, обещание, которое невыполнимо.
Я подумал, каково же все остальное, и тут же Она сделала шажок назад, чтобы я мог разглядеть Ее фигуру. Я, должно быть, в душе скромник, потому что на ней был весьма закрытый костюмчик из переливчатой материи, с юбкой до колен. Но фигурка у Нее была стройная и прямая, точно столбик сигаретного дыма в недвижном воздухе, и я знал, что Она может танцевать, точно облачко тумана на воде. Танцевать Она не стала, лишь присела в низком реверансе. Да, я, должно быть, в душе скромник; несмотря на Типс Альву, Уимси Уайт и всех остальных, моим идеалом была сдержанность.
И в этот момент я почувствовал, как Ван Мандерпутц трясет меня и кричит:
– Ваше время кончилось! Выходите из транса! Ваши полчаса прошли!
– О-о-о-о! – простонал я.
– Как вы себя чувствуете? – резко спросил он.
– Чувствую?
– Корень кубический из 4913?
С цифрами я всегда ладил.
– Это будет… ммм… семнадцать. А какого черта…
– Ваши умственные способности в порядке, – объявил профессор. – Ну, так почему вы сидели, точно последний дурак, целых полчаса? Мой идеализатор должен был сработать, иначе и быть не могло с изобретением Ван Мандерпутца, но о чем это вы размышляли?
– Я думал… я думал о «девушке», – простонал я.
Он фыркнул:
– А-а! «Дом» или «лошадь» вас не устроили? Ну, так вы можете прямо сейчас начать забывать ее, потому что ее не существует.
– Но не можете ли вы… не можете ли вы…
– Ван Мандерпутц, – торжественно объявил он, – математик, а не чародей! Вы что, ждете от меня, чтобы я материализовал для вас идеал?
Когда в ответ я издал лишь стон, он продолжал:
– Теперь идеализатором могу воспользоваться я сам. Я возьму… ну, скажем, понятие «человек». Посмотрю, как выглядит супермен, потому что идеал Ван Мандерпутца не может не быть суперменом. – Он уселся. – Включайте же! Ну!
Я повиновался. Трубки загорелись нежным голубым светом.
– Эй, – произнес вдруг Ван Мандерпутц. – Включайте же, говорю я вам! Ничего не вижу, кроме собственного отражения!
Я взглянул – и разразился смехом. Зеркало поворачивалось, трубки светились, установка работала.
На этот раз профессору удалось покраснеть.
Я истерически захохотал.
– В конце концов, – произнес он раздраженно, – можно иметь и более низменный идеал человека, чем Ван Мандерпутц. Не вижу тут ничего смешного!
Я отправился домой, провел оставшуюся часть ночи в безумных мечтаниях, выкурил почти две пачки сигарет, а на следующий день не пошел на работу.
Типс Альва вернулась в город на выходные дни. Я даже не потрудился встретиться с ней, только позвонил по видеофону и сослался на болезнь. При этом я не мог отвести глаз от ее губ, потому что они напоминали губы идеала. Но губ было недостаточно, совершенно недостаточно.
Старик Эн Джи начал беспокоиться. Я больше не мог спать допоздна по утрам, а после того как прогулял тот единственный день, начал приходить на работу все раньше и раньше, пока однажды не случилось так, что я опоздал всего на десять минут. Он сейчас же мне позвонил.
– Слушай, Дик, – спросил он, – ты был у врача?
– Я не болен, – ответил я апатично.
– Тогда, во имя всего святого, женись ты на этой девушке! Не знаю уж, в каком именно хоре она топает ножками, женись на ней и веди себя опять как нормальное человеческое существо.
– Не могу.
– Ах, ты… Она уже замужем, да?
Ну не мог же я признаться ему, что ее вообще не существует! Не мог я сказать, что влюбился в видение, в мечту, в идеал! Пришлось выдавить из себя мрачное «угу».
– Ну, тогда ты это переживешь, – пообещал он. – Возьми отпуск. Возьми два отпуска. Все равно здесь от тебя мало толку.
Я не уехал из Нью-Йорка: у меня просто не было сил. Я слонялся по городу, избегая друзей и мечтая о совершенной красоте лица из зеркала.
И через несколько дней я сдался. Я боролся со своим голодом, но все было бесполезно – в один прекрасный вечер я снова постучался в дверь Ван Мандерпутца.
– Привет, Дик, – поздоровался он. – Вам никогда не приходило в голову, что идеальный университет не может существовать? Естественно, нет, ведь он должен состоять из совершенных студентов и совершенных преподавателей, а в таком случае первым нечего будет заучивать, а последним – нечему учить.
– Профессор, – произнес я настойчиво, – могу я снова воспользоваться вашим… этой вашей штукой? Я хотел бы… увидеть кое-что.
Ван Мандерпутц резко поднял голову.
– Ах так! – рявкнул он. – Значит, пренебрегаете моим советом! Я же вам сказал – забудьте ее. Забудьте, потому что она не существует.
– Но я не могу… Еще раз, профессор, только один раз!
Он пожал плечами.
– Ладно, Дик. Вы совершеннолетний, и предполагается, что у вас зрелый ум. Я предупреждаю, что ваша просьба очень глупа, а Ван Мандерпутц всегда знает, о чем говорит. Но если вам хочется утратить остаток рассудка – валяйте. Это ваш последний шанс, потому что завтра идеализатор Ван Мандерпутца займет место в бэконовской голове Исаака. Исаак заговорит, и Ван Мандерпутц услышит голос идеала.
Я смотрел, и не мог наглядеться. Когда я думал о любви, Ее глаза искрились такой нежностью, мне казалось, будто… будто я… я, Дик Уэллс, Ее Абеляр, Тристан и Ромео. И я испытал муки ада, когда Ван Мандерпутц потряс меня за плечо и рявкнул:
– Ну хватит! Хватит! Время вышло!
Я застонал и уронил голову на руки. Профессор, разумеется, был прав: я согласен был расстаться с собственным рассудком, лишь бы видеть красавицу из зазеркалья. А потом я услышал, как голландец бормочет у меня за спиной:
– Странно! Даже фантастично. Эдип… эдипов комплекс на основе журнальных обложек и афиш!
– Что? – устало прошептал я.
– Лицо! – пояснил профессор. – Очень странно. Вы, вероятно, видели ее черты на сотнях журналов, на тысячах афиш, в бесчисленных шоу. Эдипов комплекс принимает странные формы.
– Что? Разве вы могли ее видеть?
– Конечно! – рявкнул он. – Или я не говорил десятки раз, что психоны преобразуются в кванты видимого света? Если вы ее могли видеть, почему я не могу?
– Но… что вы там говорите об афишах и прочем?
– Это лицо, – медленно выговорил профессор. – Оно, конечно, некоторым образом идеализировано, и некоторые детали не те. Глаза у нее не такие серебристо-голубые, не того мертвенного оттенка, какой вы вообразили, они зеленые – зеленые, как море, изумрудного цвета…
– Какого черта, – спросил я хриплым голосом, – вы это о чем?
– Да об этом лице в зеркале. Случилось так, что оно мне знакомо!
– Вы хотите сказать – она реальна? Она существует? Она…
– Минутку, Дик! Она достаточно реальна, но в соответствии со своими привычками вы немного опоздали. Лет на двадцать пять, я бы сказал. Ей сейчас, наверное, лет пятьдесят… дайте сообразить, – года пятьдесят три, я думаю. Но во время вашего раннего детства вы могли видеть ее лицо повсюду: де Лизль д'Агрион, Стрекоза.
Я мог только сглотнуть комок в горле. Этот удар был убийственным.
– Понимаете ли, – продолжал Ван Мандерпутц, – идеал человека прививается очень рано. Вот почему вы постоянно влюбляетесь в девушек, обладающих той или иной чертой, которая напоминает вам о ней: ее волосы, нос, рот, ее глаза. Очень просто, но, пожалуй, любопытно.
– Любопытно! – взорвался я. – Любопытно, говорите. Всякий раз, когда я смотрю в ту или иную вашу хитрую штуковину, я оказываюсь влюбленным в миф! В девушку, которая умерла, или вышла замуж, или не существует, или превратилась в старуху! Любопытно, да? Очень смешно!
– Минутку, – прервал меня профессор. – Случилось так, Дик, что у нее есть дочь. Более того, Дениз похожа на свою мать. И мало того, на следующей неделе она приезжает в Нью-Йорк изучать в здешнем университете американскую литературу. Она, видите ли, пишет.
Это было слишком, чтобы осознать сразу.
– Как… откуда вы знаете? – выдохнул я.
Невероятно, но голландец смутился.
– Так случилось, Дик, что много лет тому назад в Амстердаме Гаскел Ван Мандерпутц и де Лизль д'Агрион находились в дружеских… очень дружеских… более чем в дружеских отношениях, мог бы признаться, но, если бы не то обстоятельство, что две такие сильные личности, как Стрекоза и Ван Мандерпутц находятся в вечном противодействии… – Он нахмурился. – Я был почти ее вторым мужем. Их у нее было семь. Я полагаю, Дениз – дочь от ее третьего мужа.
– Почему же… почему она едет сюда?
– Потому что, – поведал он с достоинством, – Ван Мандерпутц живет здесь. Я все еще друг Лизль. – Он повернулся и наклонился над сложной установкой, расположенной на столе. – Дайте-ка мне эту отвертку, – приказал он. – Сегодня я это демонтирую, а завтра вставлю в голову Исааку.
Но на следующей неделе, когда я в нетерпении примчался в лабораторию Ван Мандерпутца, идеализатор все еще лежал на столе.
– Да. Он еще здесь, – сказал профессор, улыбаясь. – Я решил построить для Исаака новый. Более того, выражаясь словами Оскара Уайльда, кто я такой, чтобы портить произведение гения? В конце концов эта установка – творение великого Мандерпутца.
Профессор намеренно терзал меня. Затем он смилостивился.
– Дениз! – позвал он. – Иди сюда.
Не знаю в точности, что я ожидал, но определенно знаю, что перестал дышать, когда девушка вошла. Конечно, она не была точь-в-точь воплощением моего идеала, она выглядела, вероятно, чуточку более хрупкой, а ее глаза и в самом деле были изумрудными. В глазах этих светилась дерзкая прямота, и я легко мог вообразить, почему Ван Мандерпутц и Стрекоза вечно должны были ссориться, легко было себе это представить, глядя в глаза Дениз.
– Ах, вот оно что, – с холодком произнесла она, когда Ван Мандерпутц представил меня. – Так это вы наследник корпорации Эн Джи Уэллса? Так это ваши шуточки то и дело оживляют приложение к «Пари Сандей»? Разве не вы выбросили миллион долларов на рынок, чтобы задать вопрос Уимси Уайт…
Я покраснел и начал оправдываться:
– Это сильно преувеличено. И вообще я потерял эти деньги еще до того… до того, как мы… как я…
– Но не до того, как показали себя таким дурнем, – закончила она. Если б она не выглядела так адски мило, если бы не напоминала так то лицо в зеркале, я бы вспыхнул, сказал: «Рад был познакомиться», – и никогда бы больше не встретился с ней. Но не мог я на нее разозлиться, раз ее волосы так походили на сумерки и она обладала такими совершенными губами и таким дерзко вздернутым носиком – носиком моей мечты. Так что я встретился с ней снова, а потом еще несколько раз. Вообще-то я, наверное, занимал большую часть ее времени между двумя курсами по литературе. Понемногу я начал убеждаться, что она близка к моему идеалу. За ее нахальством прятались честность и прямота, и даже доброта, так что я довольно быстро влюбился. Более того, я знал, что она отвечает мне взаимностью.
Такова была ситуация, когда однажды днем я зашел за ней и повел ее в лабораторию Ван Мандерпутца. Мы условились втроем пойти на ланч в университетский клуб, но обнаружили, что профессор проводит какой-то опыт в большой лаборатории. Так что мы с Дениз вернулись в маленькую комнату, чтобы поболтать тет-а-тет.
– Я собираюсь стать очень хорошей писательницей, – мечтательно говорила она. – Когда-нибудь, Дик, я буду знаменитой.
Ну, все теперь знают, что это святая правда. Я тотчас же с ней согласился. Она улыбнулась:
– Ты милый, Дик. Очень милый.
– Очень?
– Очень, – повторила она с чувством.
Я надеялся на продолжение столь удачно начавшейся беседы, но, к сожалению, ее внимание привлек идеализатор.
– Что это за безумное изобретение дяди Гаскела? – спросила она.
Я объяснил, боюсь, несколько невнятно. Тем не менее Дениз уловила суть, и в ее глазах вспыхнул изумрудный огонек.
– Это потрясающе! – воскликнула она, поднялась и шагнула к столу. – Я хочу это испробовать.
– Лучше не надо, это может быть опасно.
Зеленые глаза блеснули ярче.
– Но мне можно, – твердо сказала она. – Дик, я хочу… хочу увидеть моего идеального мужчину!
Я был в панике. А что если ее идеал окажется высоким темноволосым и сильным, а вовсе не полноватым коротышкой с волосами песочного цвета?
– Нет! – горячо запротестовал я. – Я тебе не позволю!
Она опять засмеялась.
– Не будь глупеньким, Дик!
Она села, заглянула в трубку и скомандовала:
– Включай же!
Увы! Я не мог ей отказать. Я заставил зеркало вращаться, потом повернул рубильник. И тут же немедленно встал у нее за спиной, скосив глаза на появившееся в зеркале отражение.
Я весь задрожал. Кажется, идеальный мужчина Дениз не был брюнетом. Нет, определенно, его волосы были светлыми. Я даже начал воображать, что нахожу сходство с моими чертами. Вероятно, Дениз что-то заподозрила, потому что вдруг отвела глаза от зеркала и подняла голову, слегка покраснев от смущения, что было для нее крайне необычно.
– Как скучны идеалы! – объявила она. – Мне нужно настоящее потрясение. Знаешь, на что я собираюсь посмотреть? Хочу увидеть идеальный ужас. Вот что я сделаю. Я посмотрю на абсолютный ужас!
– Нет, ты с ума сошла! Я запрещаю! Это действительно опасно.
Из другой комнаты я услышал голос Ван Мандерпутца:
– Дик!
– Опасно – чушь какая! – отрезала Дениз. – Я же писательница, Дик. Все это для меня – материал. Это же просто опыт, и он мне нужен.
Опять голос Ван Мандерпутца:
– Дик! Дик! Идите же сюда!
– Послушай, Дениз, – обратился я к ней, – я сейчас вернусь. Будь паинькой, ничего не трогай, пожалуйста!
Я кинулся в большую лабораторию. Ван Мандерпутц распекал своих перепуганных ассистентов.
– Эй, Дик! – взревел он. – Объясните-ка этим дурням, что такое клапан Эммериха и почему он не действует в потоке свободных электронов! Пусть увидят, что это знает даже обыкновенный недалекий инженер.
Ну, вообще-то обыкновенный инженер этого не знает, но так уж случилось, что я знал. За год или за два до того я выполнял кое-какую работенку с турбинами в Мэне, а они там используют клапаны Эммериха, чтобы избежать большой утечки электричества из своих конденсаторов огромной мощности. Вот я и начал объяснять, а Ван Мандерпутц время от времени вставлял замечания в обычном дружелюбном тоне, короче, освободится я смог только через полчаса. И тут же кинулся к Дениз.
Конечно же, девушка сидела, прижав лицо к проклятой трубке!
– Дениз! – вскричал я. – С тобой все в порядке? Дениз!
Она не пошевелилась. Я просунул голову между зеркалом и концом трубки – и то, что я увидел, меня просто ошеломило. Знаете, когда умный режиссер хочет вас напугать, он не показывает чудовище – он показывает лицо человека, который это чудовище увидел. Так вот, прелестное лицо Дениз сейчас могло напугать кого угодно. Так всеобъемлющ был застывший на нем невыразимый, непереносимый ужас.
Я кинулся к рубильнику.
Дениз не пошевелилась, даже когда трубки потемнели. Я оторвал ее от стола, повернул лицом к себе. Она вскочила со стула и кинулась прочь.
– Дениз! – закричал я. – Это же только я, Дик. Посмотри же, Дениз!
Но как только я хотел подойти к ней, она отчаянно вскрикнула и упала в обморок.
* * *
И вот неделю спустя я сидел перед Ван Мандерпутцем в его маленьком кабинете. Исаак исчез, а стол, где находилась установка, опустел.
– Да, – сказал Ван Мандерпутц. – Я ее размонтировал. Одна из немногих ошибок Ван Мандерпутца – оставить ее там, где парочка олухов вроде вас с Дениз могла до нее добраться. Кажется, я всегда переоцениваю интеллект других людей.
Я ничего не ответил. Я находился в состоянии крайней депрессии и был готов соглашаться с профессором.
– Отныне, – резюмирован Ван Мандерпутц, – не доверяю ничьему разуму, кроме собственного. Даже голове Бэкона. Я оставил этот проект, потому что, если как следует подумать, зачем миру механический мозг, если у него есть ум Ван Мандерпутца?
– Профессор, – внезапно вырвалось у меня, – почему мне не разрешают увидеться с Дениз? Я приходил в больницу каждый день, и меня впустили к ней в палату только один раз – всего только раз, и с ней тут же случился истерический припадок. Почему? Что, она… – я сглотнул комок стоявший в горле.
– Она поправляется, Диксон.
– Тогда почему мне нельзя ее видеть?
– Ну, – спокойно сказал Ван Мандерпутц, – вы сделали ошибку, просунув свое лицо перед зеркалом. Она увидела вас посреди того кошмара, который сама вызвала. Понимаете? С той минуты ваше лицо ассоциируется в ее мозгу с идеальным ужасом.
– Боже, Боже мой! – выдохнул я. – Но ведь она это преодолеет, правда же? Она забудет…
– Молодой психиатр, который ее лечит, – способный парень, кстати, он разделяет некоторые мои идеи, – верит в то, что она от этого избавится месяца за два. Но лично я, Дик, не думаю, что когда-нибудь ей доставит удовольствие вид вашего лица, хотя я сам повидал на своем веку физиономии куда более безобразные.
– Послушайте! – взмолился я. – Послушайте, профессор! Почему бы вам не привести ее снова сюда и не дать ей взглянуть на идеально прекрасного мужчину? И тогда я… я просуну свою физиономию на это изображение! Это… это не может не подействовать!
– Быть может, – произнес Ван Мандерпутц, – но, как всегда, вы чуточку опоздали.
– Опоздал? Почему? Вы же можете снова наладить ваш идеализатор! Вы ведь можете превращать время в пространство, а электроны в кванты!
– Ван Мандерпутц – само великодушие, – произнес он со вздохом. Я с радостью сделал бы это, но все-таки теперь уже немножечко поздно, Дик. Видите ли, сегодня в полдень она вышла замуж за этого талантливого молодого психиатра.
Ну что ж, сегодня вечером у меня свидание с Типс Альвой, и я собираюсь на него опоздать – ровно на столько, на сколько мне захочется. А потом я весь вечер буду любоваться ее идеальными губами.
3
Благодарю тебя, радуйся, Святая Дева! (лат.)
4
Чудесный доктор (лат.), прозвище Роджера Бэкона.
5
Соответственно «Большое сочинение», «Малое сочинение» и «Третье сочинение» (лат.).