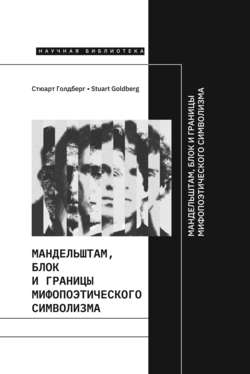Читать книгу Мандельштам, Блок и границы мифопоэтического символизма - Стюарт Голдберг - Страница 13
Часть II
ГЛАВА 5
БОРЕНИЕ С ВЕРОЙ
О старое преткнувшись, в новое упасть
ОглавлениеВ удивительном «сооружении» мандельштамовского «Notre Dame» (1912) и прозе «Утра акмеизма» (1913–1914?) читателю открывается гармоническое и глубоко динамическое ви́дение готики. Но если мы обратимся к более раннему его эссе «Франсуа Виллон» (1910), то увидим в нем два противоборствующих аспекта готического искусства, которое характеризуется не только динамическим равновесием, наблюдаемым в архитектуре (физической и социальной), но и отделением поэзии от жизни, искусственной оранжерейной атмосферой хрупкой аллегории, связующей средневековую поэзию с французским символизмом.
Стихотворение «Паденье – неизменный спутник страха…» (1912) находится в точке этого столкновения. Как и готика, такие образы и понятия, как камень, огонь и вечность, находятся в этом стихотворении на амбивалентном перепутье символистской и акмеистической поэтик Мандельштама. Позднее – и уже не столь снисходительно, как во «Франсуа Виллоне», где он дает понять, что они не просто «мертвые отвлеченности», – Мандельштам так охарактеризует эти понятия:
Пять-шесть последних символических слов, как пять евангельских рыб, оттягивали корзину: среди них большая рыба: «Бытие».
Ими нельзя было накормить голодное время, и пришлось выбросить из корзины весь пяток и с ними большую дохлую рыбу «Бытие».
Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой (II, 104).
Но вместо того чтобы отбросить эти абстракции, Мандельштам трансформирует их, создавая для них новые корни и новые ассоциации. «Паденье – неизменный спутник страха…» – отображение этого динамического процесса:
Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни к нам бросает с высоты —
И камень отрицает иго праха?
И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты —
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха…
Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут!
Немногие для вечности живут;
Но, если ты мгновенным озабочен,
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!
В этом стихотворении один абсолютно четкий и содержательный семантический план служит развернутой метафорой для другого, столь же глубокого. Чтобы по-настоящему понять мандельштамовский дискурс борьбы с символизмом в этих стихах, нужно сперва исследовать первичный в них дискурс амбивалентной веры.
Попытка рассмотреть «Паденье…» как религиозное по своей сути стихотворение была предпринята Марголиной; религиозный смысл первой строфы также комментировал Ронен, который отмечал целую матрицу библейских и иных подтекстов топоса камня в ранних стихах Мандельштама. Я вновь пройдусь по этому исхоженному материалу и кратко остановлюсь на поэтических свидетельствах более ранней борьбы Мандельштама с верой – и поскольку этот контекст имеет ключевое значение для понимания рассматриваемого стихотворения, и поскольку я надеюсь, что это способствует дальнейшему прояснению некоторых его логических и семантических связей237.
По признанию самого Мандельштама, он был «воспитан в безрелигиозной среде (семья и школа)» и «издавна стремился к религии безнадежно и платонически – но все более и более сознательно»238. Эти слова были написаны в 1908 г. и обращены к Владимиру Гиппиусу, представителю «враждебного начала» – «религиозной культуры, не знаю христианской ли, но во всяком случае религиозной»239. Апогей мандельштамовского кризиса веры пришелся, видимо, на 1910 г., т. е. это было за год до его обращения в методизм240. В поэтическом триптихе того же года, объединенном образом тростника, тонущего в омуте или же всплывающего из него, Мандельштам дает зашифрованное изображение конфликта между своими еврейскими корнями и приемной – христианской, русской – культурой241. В других стихах того же года лирический герой сравнивает себя со змеем, ползущим в пустой церкви к подножию креста («Когда мозаик никнут травы…»); он «уничтожен, заглушен» колоколами древних церквей, и «нету ни молитв, ни слов» («Когда укор колоколов…»).
Из всех стихов 1910 г. самым глубоким предвосхищением «Паденья…» является стихотворение «В изголовье черное распятье…», в котором кораблю – душе поэта, поднятому волнами евангельской латыни, угрожает тютчевский «подводный камень веры». Столкнувшись с крестом – символом веры, лирический герой обнаруживает в себе пустоту:
В изголовье черное распятье,
В сердце жар и в мыслях пустота <…>
Однако его влечет к себе церковь, точнее, ее эстетические и чувственные проявления:
Ах, зачем на стеклах дым морозный
Так похож на мозаичный сон!
<…>
И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибой242.
Результатом этого становится подъем веры:
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой…
Однако вера, основанная на пустоте, ведет к страху (как мы увидим далее, небезосновательному): «Страшен мне „подводный камень веры“». Так Мандельштам устанавливает (краеугольный) камень как эмблему рокового призыва к вере, эксплицитно связывает его с Тютчевым (подчеркивая диалогичность при помощи кавычек и единственного авторского примечания во всей его ранней поэзии) и переносит его из стихотворения, произносимого с позиции веры, в стихотворение, произносимое в ситуации кризиса243.
***
В свете этой продолжительной личной драмы первые две строки «Паденья…» читаются не как банальности, а как аксиома, испытанная в бурных водах личного опыта244:
Паденье – неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Вера, построенная на пустоте, влечет за собой страх, который, в свою очередь, неумолимо ведет к падению.
Последняя строка первого четверостишия отмечена определяющей смысл стихотворения амбивалентностью тона:
Кто камни к нам бросает с высоты —
И камень отрицает иго праха?
Эта строка может прочитываться, с одной стороны, как подтверждение спасительного потенциала краеугольного камня – «камня, который отвергли строители» и который «соделался главою угла», – т. е. как интонационное продолжение предыдущей строки. Неожиданное выражение «к нам» (а не «в нас» или «на нас») преображает угрозу, естественно ассоциирующуюся с брошенными сверху камнями, и они становятся подобными спасательным кругам или веревке. С другой стороны, четвертую строку можно прочесть и в контрастном тоне – легкого или сильного недоверия к этому потенциалу («И камень отрицает иго праха?»)245.
Как ясно из стихотворения «В изголовье черное распятье…», Мандельштам видит краеугольный камень насколько с точки зрения неверующего (подводный камень), настолько же и с точки зрения верующего (святыня): «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит» (Лк 20:18). Лишь через посредство Первого послания Петра приходит Мандельштам в конце концов к новому, «акмеистическому» пониманию слова-камня246:
…как новорожденные младенцы, возлюби́те чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; <…>. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный <…>. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих <…> камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову <…> (1 Пет 2:2–8).
Те, кто возлюбил чистое словесное молоко, кто покорился слову, образуют духовный дом, живые камни которого предвосхищают образ средневекового социума из «Франсуа Виллона»:
Кто первый провозгласил в архитектуре подвижное равновесие масс и построил крестовый свод – гениально выразил психологическую сущность феодализма. Средневековый человек считал себя в мировом здании столь же необходимым и связанным, как любой камень в готической постройке, с достоинством выносящий давление соседей и входящий неизбежной ставкой в общую игру сил (II, 308).
Этот образ социума из человеческих камней служит мостом между Первым посланием Петра и концепцией зрелого Мандельштама (изложенной в «Утре акмеизма») о словах как камнях, лежащих в динамическом равновесии «крестового свода». Эти слова-камни, в свою очередь, имеют своим прототипом Слово-Камень, понятое как тютчевский камень из «Problème» (как прямо указывает Мандельштам), но лишь после того, как «Problème» творчески перечитывается (в блумовском смысле) сквозь призму Книги пророка Даниила, которая прежде существовала как потенциальное прочтение, а теперь возвышена до господствующего положения, диссонирующего с тоном тютчевского стихотворения247. В «Паденье…» мы видим не отражение этого крайне индивидуального прочтения «Problème» Тютчева, а синхронический снимок развития этого семантического поля в поэзии Мандельштама.
В фигуре монаха во второй строфе Мандельштам воплощает противоречия слабой веры. Традиционная, эмблематическая поза идущего монаха подразумевает склоненную голову. Этот взгляд вниз («Булыжники и грубые мечты») противопоставляется подобающим монаху устремленным ввысь мыслям. Но даже при взгляде вверх вера не укрепляется, ибо в готическом приюте «потолком входящий обморочен». Гоголь писал:
Вступая в священный мрак этого храма, <…> поднявши глаза кверху, где теряются пересекаясь стрельчатые своды один над другим, один над другим, и им конца нет, – весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святыни, которой не смеет и коснуться дерзновенный ум человека248.
Не только головокружительная высота, но и наглядные изображения Судного дня, украшающие потолок, могли смутить нетвердого в своей вере249. Согревающее, мирское пламя мандельштамовского заветного очага (одиннадцатая строка) несет в себе неявный контраст с огнем очищающим или, хуже того, с огнем вечного осуждения.
Первая строка последнего трехстишия, по сути, подтверждает тот факт, что лирический герой не относит себя к тем, кто способен жить во имя вечности250. Жизнь сегодняшним днем, впрочем, тоже несостоятельна. Ответ на эту дилемму нужно искать вне антитезы «вера – неверие». Он кроется в камне Тютчева и веселых огнях очага, в преображении религии в культуру.
Символизм, однако, тоже может быть понят как религия, еще одна вера, вызывающая у Мандельштама сложное чувство влечения-сомнения. Письмо Мандельштама к Вячеславу Иванову, написанное в августе 1909 г., дает нам основания увидеть в выражении «готический приют» из первого трехстишия отсылку не только к физической постройке (церкви), но и к самому символизму, в особенности к той философии символизма, что систематично изложена в ивановской книге «По звездам». «Вы позволите мне сначала – несколько размышлений о вашей книге», – писал Мандельштам.
Мне кажется, ее нельзя оспаривать – она пленительна – и предназначена для покорения сердец.
Разве, вступая под своды Notre Dame, человек размышляет о правде католицизма и не становится католиком просто в силу своего нахождения под этими сводами? <…>
Только мне показалось, что книга слишком – как бы сказать – круглая, без углов.
Ни с какой стороны к ней не подступиться, чтобы разбить ее или разбиться о нее251.
В этом свете многозначное слово «обморочен» из первого трехстишия «Паденья…» должно пониматься в смысле «околдован», «зачарован»252. Войти в Нотр-Дам – значит стать католиком; прочесть «По звездам» – значит стать символистом. Заклятием «Так проклят будь» Мандельштам пытается снять эти чары, поскольку разрушить систему, как это сделали Вийон и Верлен, невозможно: «Ни с какой стороны к ней не подступиться, чтобы разбить ее или разбиться о нее».
Едва ли не всякий элемент этого стихотворения вполне естественным образом прочитывается как отсылка к поэзии символистов. В первой строфе эта соотнесенность ощутима в образе падения253, в пустоте, послужившей его причиной254, и в апокалиптическом и теургическом пафосе, с которым отвергается «иго праха», возложенное на человечество Богом в Книге Бытия (4:19). Как аллюзия на символистов может быть истолкован и образ монаха255. Младшие символисты часто именовали себя монахами256, и сам Мандельштам называет Ивана Коневского и Александра Добролюбова – представителей старшего поколения – «воинственными молодыми монахами раннего символизма» (II, 105). В «Паденье…» «походка верная» младших символистов257, неизбежное однообразие их «бдений» становится «деревянной поступью», машинальным кружением по монастырскому двору.
В выражении «булыжники и грубые мечты» можно увидеть почти аллегорически точное перекодирование выражения «камень претыкания и соблазна». В то же время в символистско-монашеском контексте «грубые мечты» отсылают к топосу греховного желания к Богородице. Опустив долу взгляд, «монах» старается не «преткнуться» о камень веры, а вместе с тем его желание оскверняет его святыню. Наконец, хотя «жажда смерти» окрашивает многое в поэзии раннего символизма, нельзя не вспомнить, прочитывая строку «жажда смерти и тоска размаха», и цыганских мотивов Блока: «Жизнь разбей, как мой бокал!»258
Присутствуют символисты и в трехстишиях. Для символистов огонь был тщательно оберегаемым пламенем свечей и лампад, пламенем мирового пожара или же неистового самопожертвования259. Этому огню вынужденного мученичества Мандельштам имплицитно противопоставляет «веселые дрова» домашнего очага.
Роман младших символистов с вечностью едва ли нуждается в иллюстрациях. В последнем трехстишии младшие символисты имплицитно противопоставляются старшим, носителям схожей привязанности к мгновению, знаменующему собой «наивысшую степень жизненной интенсивности»260. Неудивительно, конечно, что дом этих старших, декадентских поэтов обречен на падение. Как заметил Лекманов, ключевой контекст здесь – «Падение дома Эшеров» Эдгара Аллана По, которое, стоит отметить, служит аллегорией заката изнежившейся и выродившейся аристократии261.
В отношении к символистской вере, как и в чисто религиозном прочтении выше, четвертая строка стихотворения «Паденье…» может принять обособленную, отличную от предыдущей интонацию – скептическую или ироническую. Кроме того, напряжение между формой множественного числа слова «камень» в третьей строке и формой единственного числа в четвертой (оба варианта ритмически идентичны) усиливает ощущение парадокса, уже имплицитно присутствующего в строке «И камень отрицает иго праха?». Чувства обрушивают на нас множество откровений, целый метеоритный дождь из впечатлений, побуждений и страхов, но при этом нас призывают верить в один абсолютный и неизменный Логос. Этот контраст многообразия и единства служит аналогией, с одной стороны, противоречия между неясными религиозными чувствами, описанными Мандельштамом в письме к Владимиру Гиппиусу от 14 (27) апреля 1908 г. («поклонение „Пану“, т. е. несознанному Богу»), и грозным требованием принять Бога явленного, а с другой – конфликта между акмеизмом с его установкой на разнообразие и расхождение смысловых векторов и однонаправленностью (как считали акмеисты) мировоззрения и образной системы символизма262.
В конце концов, именно композиция стихотворения дает нам наиболее серьезное основание (помимо позднейших ремарок Мандельштама в «Утре акмеизма») видеть в третьей и четвертой строках «Паденья…», наряду с авторским недоверием, концепцию слова-камня как возможного источника освобождения от «ига праха». «Пешеход» и «Паденье…» строятся почти по идентичным композиционным принципам: вступление из двух строк, намечающее проблему, за которым следует (по крайней мере в «Пешеходе») явно конструктивное, если и не совершенно однозначное решение в следующих двух строках; негативно окрашенное второе четверостишие, углубляющее поставленную в первых двух строках проблему посредством содержащегося в нем изображения персонажа, который находится в двусмысленном отношении к лирическому «я»; энергичное возражение в четырех слогах, открывающее трехстишия, и, наконец, заключение, в котором озвучена по-прежнему амбивалентная позиция говорящего. Пик конструктивной мысли в «Пешеходе» приходится на третью и четвертую строки, и мы вольны ожидать, что и в «Паденье…» он окажется на том же месте.
В конечном счете лирическое «я» в «Паденье…» остается во власти неразрешимых противоречий романтического/символистского сознания – разрывающегося между верой и сомнением, вечным и мгновенным, возвышенным и низменным. Этим крайностям противостоят в стихотворении лишь тютчевский камень и пламя очага. Но для Мандельштама этого достаточно, чтобы приступить к строительству прочного здания новой поэтической системы, которая преобразит язык его предшественников.
В «Паденье…» Мандельштам не дает пропасть по крайней мере двум «евангельским рыбам» символистов. Путь к иной, пока неиспробованной поэтике указывает излюбленная рифма Владимира Гиппиуса «пламень – камень» («В не по чину барственной шубе»), скрытая, но заманчиво просвечивающая между строк стихотворения.
237
Анализ Марголиной демонстрирует догматическую верность аллегорическому смыслу писаний о. Павла Флоренского, что неуместно применительно к поэзии Мандельштама (см.: Марголина С. М. Мировоззрение Осипа Мандельштама. С. 39–42). К библейским подтекстам «Паденья…» не раз возвращался Ронен; из последних работ см.: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 196; о них же см.: Марголина С. М. Мировоззрение Осипа Мандельштама. С. 22–24; Гаспаров М. Л. Сонеты Мандельштама 1912 г.: от символизма к акмеизму. С. 151–152. О кризисе веры в ранних стихах Мандельштама см., например: Мусатов В. Лирика Осипа Мандельштама. С. 45–50.
238
Камень-1990. С. 204.
239
Там же.
240
О возможных мотивах обращения Мандельштама см. особенно: Аверинцев С. С. Конфессиональные типы христианства у раннего Мандельштама. С. 291–292; Микелис Ч. Дж. де. К вопросу о крещении Осипа Мандельштама // «Сохрани мою речь…». Вып. 4. [Ч. 2]. М.: РГГУ, 2008. С. 370–376.
241
Об этих стихах см.: Ronen O. Mandelshtam, Osip Emilyevich (1891–1938?) // Encyclopedia Judaica: Year Book 1973. Jerusalem, 1973. P. 294–296; Taranovsky K. Essays on Mandel’štam. P. 51–54; Freidin G. A Coat of Many Colors. P. 48–54.
242
Ср. замечание Александра Бенуа: «В настоящее время католицизм, можно сказать, держится эстетизмом, и красота – его последняя (но сколь могущественная) крепость» (Бенуа А. Художественные ереси // Золотое руно. 1906. № 2. С. 86).
243
Об этой инверсии см.: Аверинцев С. C. Конфессиональные типы христианства у раннего Мандельштама. С. 289. Ронен и Осповат подробно анализируют семантику и подтекстовую подоплеку тютчевского «камня веры», особенно применительно к произведениям Мандельштама, в статье: Ронен О., Осповат А. Камень веры (Тютчев, Гоголь и Мандельштам) // Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. С. 119–126. Добавлю к их наблюдениям, что появление в стихотворении «В изголовье черное распятье…» слова «святыня», весьма необычное с точки зрения его употребления, предполагает, что Мандельштам думал здесь об источнике образа камня преткновения в Книге пророка Исаии (8:14). Синодальный перевод: «И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля». Французский перевод: «Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre d’achoppement, Un rocher de scandale pour les deux maisons d’Israël». Отметим, что образ кораблекрушения потенциально присутствует в приведенном пассаже (в обоих переводах) и что обещанное падение грозит именно домам Израиля. Призыв к христианской вере чреват для Мандельштама особой опасностью ввиду его еврейских корней.
244
Ср. замечание Шершеневича: «…четкость и плавность стиха обесцвечиваются потрясающим безвкусием. Он не стесняется излагать в стихах такие аксиомы: [приводятся первые две строки „Паденья…“. – С. Г.]» (цит. по: Камень-1990. С. 220).
245
Ср.: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 196. Пунктуация в издании 1916 г. подчеркивает возможность такого интонационного разрыва: «Кто камни к нам бросает с высоты – / И камень отрицает иго праха?» (Камень-1916. С. 33).
246
О Первом послании Петра в этом контексте см.: Ronen O. An Approach to Mandel’štam. P. 204–205. Замечу, что я не пытаюсь приписать поэту линейность развития, а скорее хочу исследовать логику скрещивающихся текстов, образующих поступательное движение при ретроспективном взгляде.
247
Аллюзия на тютчевский камень из «Problème» обсуждалась многократно, начиная с: Тоддес Е. А. Мандельштам и Тютчев. P. 77ff. Тоддес называет отсылку к Тютчеву в «Утре акмеизма» «значительно более неожиданной и с историко-литературной, и с логической точки зрения, чем высказывания о Тютчеве символистов» (Ibid. P. 78). О второй главе Книги пророка Даниила как об основе тютчевского «Problème» и мандельштамовской семантики камня в «Утре акмеизма» и связанных с ним стихах см.: Ronen O. Osip Mandelshtam (1891–1938) // European Writers. The Twentieth Century. Vol. 10. N. Y.: Scribner, 1990. P. 1634–1635. Мандельштам и сам ретроспективно активизирует аллюзию на Даниила, когда в статье «О природе слова» (1922) называет символизм группы «Весов» «колоссальной, хотя на глиняных ногах, постройкой» (II, 255). Смысл, разумеется, в том, что акмеизм, вооружившись тютчевским камнем, разрушил этот идол «лжесимволизма».
248
Гоголь Н. В. Об архитектуре нынешнего времени // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1937–1952. Т. 8. С. 57. Влияние этого эссе на поэзию Мандельштама отмечает Ронен (Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Мандельштама. С. 368–369).
249
Ср. «Во храме» (1903) Белого: «И снова я молюсь, сомненьями томим. / Угодники со стен грозят перстом сухим <…>» (Белый А. Стихотворения и поэмы. Т. 1. С. 94).
250
Можно предположить, что, сочиняя эту строку, поэт имел в виду таких личностей, как его старший друг, глубоко религиозный С. П. Каблуков, служивший секретарем Религиозно-философского общества. Ср. неоконченное стихотворение «Я помню берег вековой…» (1910), посвященное Каблукову (Камень-1990. С. 242).
251
Камень-1990. С. 206.
252
См. статьи «морок» и «обморочить» в: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. [1880]. М.: Рус. яз., 1989. Ср. гоголевское оправдание колоссальных масштабов, присущих готической архитектуре: «Великолепие повергает простолюдина в какое-то онемение <…>» (Гоголь Н. В. Об архитектуре нынешнего времени. С. 66); Белый об Иванове: «не успокоится, пока – не пленит» (Белый А. О Блоке: Воспоминания; Статьи; Дневники; Речи. М.: Автограф, 1997. С. 353); послание Блока Иванову: «И много чар, и много песен, / И древних ликов красоты… / Твой мир, поистине, чудесен! / Да, царь самодержавный – ты» (III, 166).
253
Ср. стихотворение Блока «Дали слепы, дни безгневны…» (1904), завершавшее его сборник «Стихи о Прекрасной Даме» (1905): «Будут вёсны в вечной смене / И падений гнет» (II, 337). Разумеется, падение – это также и ключевой топос для декадентского старшего поколения. См.: Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. С. 122–125 и др.
254
Белый о Блоке: «…символы, как розы, гирляндой закрывают смысл и цельность переживаемых драм; приподымите эту гирлянду: на вас глянет провал в пустоту <…>» (Белый А. Арабески: Книга статей, С. 464).
255
Связь с Надсоном, указанная Лекмановым (Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. С. 474–476), не исключает этого круга ассоциаций. См. гл. 6, с. 138–139.
256
Фантазии о монашестве достигают апогея в «Сергии Радонежском» Сергея Соловьева, где молодая ипостась знаменитого монаха служит маской для лирического «я». Соловьев, стоит заметить, воплотил эту монашескую образность, приняв духовный сан в жизни.
257
Блок, «Инок» (1907), II, 320.
258
«Из хрустального тумана» (1909), III, 12. Ср. слова Мандельштама о символистах в «Письме о русской поэзии»: «<…> вздыхают любители большого стиля <…>. – То-то были поэты: какие темы, какой размах <…>» (III, 32). Ронен считает, что в этой строфе поэт обращается к Франсуа Вийону, воображающему свое грядущее повешение (Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 197–199). Хотя я рассматриваю эту строфу иначе, стоит отметить, что Вийон служит для Мандельштама прототипом поэта, способного разбить теплицу аллегорической поэзии, а значит, является духовным отцом слов «Так проклят будь», как я их понимаю.
259
Ср. у Мандельштама: «Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь» (II, 255); у Брюсова: «Да будет твоя добродетель – / Готовность взойти на костер» (СС, I, 447).
260
Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. С. 266.
261
Лекманов О. Язык булыжника. О сонете Мандельштама «Паденье – неизменный спутник страха…» // Лекманов О. Книга об акмеизме и другие работы. С. 477–478.
262
Камень-1990. С. 204. Ср. у Ронена о «гумилевской философии художественного творчества: формула последнего – „Уничтожиться как единство / И как множество расцвести“» (Ronen O. Osip Mandelshtam (1891–1938). P. 1629). Лозинский, который, несмотря на свои тесные связи с акмеистами, сохранял символистское миросозерцание, писал в стихотворении «Каменья», посвященном Гумилеву: «Ты созидал многообразный бред, / Эдемский луч дробя и искажая» (Лозинский М. Горный ключ: Стихи. Пг: Альциона, 1916. С. 41).