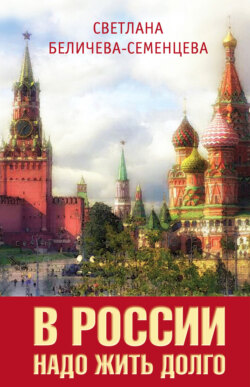Читать книгу В России надо жить долго - Светлана Беличева-Семенцева - Страница 3
Не буди лихо, пока тихо
ОглавлениеКто бы мог подумать, что в стране, где партийные органы тратили столь неимоверные усилия на идеологическую обработку народа, где повсеместно в коллективах обсуждали и одобряли решения партийных съездов и пленумов, а на демонстрациях носили портреты членов политбюро и кричали в их честь здравницы, где, не читая, осуждали Пастернака, Сахарова и Солженицына, в этой стране, в этом народе было столько недоверия к непогрешимости партии и к самой партии, столько желания жить по правде, не лгать и не лицемерить. Много было этих правдолюбцев и в рабочих коллективах, и в журналистских кругах, и среди творческой интеллигенции. Но и не меньше было и тех, кого раздражали эти правдолюбцы, кто, как говорится, с молоком матери впитал в себя общепринятые нормы лживой жизни и, кроме раздражения и агрессии, ничего не испытывал к правдолюбцам, нарушающим привычный жизненный уклад. И сейчас, когда сам генсек объявил гласность и перестройку, свой критический взгляд недовольные стали публично выражать и прежде всего в своих производственных коллективах. И в газеты, и в вышестоящие органы посыпались жалобы на расправы начальства с этими критиканами. Известный журналист «Литературной газеты» Лидия Графова свою объемную, на целый разворот статью от 22 апреля 1987 года посвятила описанию тех мытарств и расправ, которым подвергаются правдоборцы в рабочих и научных коллективах, начиная от Камчатки и до закавказских и прибалтийских республик. Вот некто научный сотрудник бакинского филиала НИИВОДГЕО Тамара Филлиповна Гумбарова публично уличила в плагиате Шарифова, стремящегося занять место завлаба. Обиженный Шарипов при поддержке дирекции написал на Гумбарову ложный клеветнический донос в прокуратуру. И три года шли судебные разбирательства, за время которых Гумбарову дважды увольняли, пытались исключить из партии. И когда 11-я судебная инстанция признала ее невиновной, на вопрос, почему Шарипов, уличенный в плагиате, оклеветал коллегу, он, не стесняясь, объяснил «В отместку». Однако, несмотря на плагиат и эту злостную клевету, клеветник получил вожделенную должность завлаба. А у руководства и парткома не клеветник и плагиатор вызвал осуждение, а потерпевшая Тамара Филлиповна, своими жалобами мешающая спокойно жить прежде всего директору Джалилову, под руководством которого их филиал отличался самой низкой эффективностью по всему НИИВОДГЕО.
Увы, если бы это был единичный случай. Ежедневно, пишет Графова, приходится выслушивать горькие истории затравленных за критику людей. Вот и сейчас, не успела журналистка закончить эту статью, как ее уже ждали со своими исповедями плотник из Нефтеюганска и преподаватель вуза из Алма-Аты, уволенные за критику.
Поток таких писем от пострадавших за критику людей шел не только в «Литературную газету». Вот «Комсомолка» описывает еще более дикий случай подобной расправы, закончившийся весьма трагично: гибелью человека, который был в числе преследователей одного из членов коллектива, критикующего сложившиеся в коллективе порядки. В Саранском аэропорту разбился «АН-2», распылявший удобрения на полях. Проведенная экспертиза показала, самолет был абсолютно исправлен, пьян был погибший пилот Савватеев. Пить на службе в Саранском аэропорту стало нормой, где начальник аэропорта Лебедев проводил производственные совещания в нетрезвом состоянии, за что позже и был освобожден от занимаемой должности. Дело в том, что в этом коллективе работал аккуратный дисциплинированный молодой техник Николай Фомин, один из немногих совершенно непьющих работников. Но, в отличие от других непьющих, Коля не мог мириться с пьянством товарищей, уговаривал их не пить, поднимал эту проблему на собраниях, критиковал и другие производственные недостатки. В результате эта критика надоела жившим в соседней комнате в общежитии инженеру Мажитову и его соседу, позже погибшему летчику Савватееву. Друзья ворвались в комнату Николая, и Мажитов жестоко избил его. Товарищеский суд, разбиравший этот инцидент, осудил не того, кто избивал, а того, кто был избит за то, что он спровоцировал драку, что и засвидетельствовал присутствовавший при этом летчик Савватеев. И Николаю не только вынесли выговор за «провокацию», но и постановили выселить из общежития, чтоб не накалял атмосферу. Однако самое печальное заключается в том, что товарищеский суд выражал коллективное мнение, а не мнение какого-то одного начальника-выпивохи, а стало быть, в коллективе большинство были так морально развращены, что потеряли ориентацию в том, что плохо и что хорошо, и кто прав, кто виноват в этой, казалось бы, очевидной ситуации. Как верно заметил Фазиль Искандер в своей статье в «Огоньке» от 11 марта 1990 года, «Наш народ, крученный-перекрученный за годы унижения и лжи, хотя и исхитрился выжить, тяжело болеет. Для выздоровления ему нужны правда, хлеб и надежда».
Горбачев, призывавший к гласности, видимо, и не подозревал, что многолетние и старательные усилия ЦК КПСС, насаждающие государственную политику лицемерия и лжи, не пройдут бесследно и впитаются в кровь и плоть сотен и сотен тысяч доверчивого населения, среди которого чудом уцелеют отдельные правдолюбцы, принимающие огонь на себя в этой борьбе за право жить по правде.
И если бы эта борьба разворачивалась только в производственных коллективах! Не меньшие страсти разгорелись среди творческой интеллигенции и в научных кругах. Вот в январском номере «Огонька» за 1989 год опубликовано открытое письмо главного редактора «Литературной России» Михаила Колосова к известному писателю, секретарю Российского Союза писателей Юрию Бондареву. Колосов начал свое письмо с признания, что Бондарев был его кумиром, с которым сближало фронтовое братство, и трогали его правдивые и честные книги о войне. «Ты выдержал испытание огнем на фронте, – пишет Колосов, – но ты не выдержал испытание властью». И далее он описывает, как, используя свою должность секретаря Российского Союза писателей, Бондарев всеми возможными средствами влияет на редакционную политику газеты, в грубой форме требуя, чтобы публиковались исключительно хвалебные статьи в свой адрес и не допускались никакие другие критические материалы, за публикацию которых грозил разгон редакции. Что и было приостановлено лишь вмешательством Союза писателей СССР. «Такая цензура как твоя, – пишет Колосов, – пожестче той, что насаждалась государственными органами в самые застойные времена. Если та за последнее время стала более умеренной, охраняет только то, что ей положено охранять, то твоя, бондаревская, наоборот, ужесточилась – стала более бдительной и нетерпимой, чем была раньше».
Да, когда Горбачев объявил гласность и отменил цензуру, которая должна была отслеживать лишь сохранение государственных тайн, то он, очевидно, и не подозревал, что за годы правления непогрешимой КПСС выросли цензоры пожестче государственных, которым претило все, что не совпадало с их единственно правильным мнением, как претила и сама гласность, и перестройка, объявленная генсеком. Они, эти цензоры, объявили войну в пределах своего профессионального поля коллегам, последовавшим призывам генсека. И в результате писательская общественность разделилась на два непримиримых лагеря, один из которых поддерживал демократические преобразования, начавшиеся в стране, другой лагерь был ее непримиримым противником. Противоборствующие стороны сосредоточились под крышей своих журналов. Правые-консерваторы облюбовали журналы «Москва», где был главным редактором Михаил Алексеев, «Молодая гвардия», редколлегию которого возглавлял Анатолий Иванов, и «Наш современник», редактором которого был Сергей Викулов. У них был и свой авторский актив, состоящий из известных и популярных писателей Юрия Бондарева, Станислава Куняева, Проскурина. И уж совсем удивительно и непонятно, по каким причинам к этой компании примкнули и знаменитые писатели-деревенщики Василий Белов и Валентин Распутин, так достоверно описавшие трагедию русской деревни, с которой коммунисты лихо расправились в советские времена. Этими журналами были прикормлены и свои критики, которые, не выбирая выражений, расправлялись с писателями из враждебного лагеря.
Имели свои журналы и левые-либералы. Это были «Новый мир», которым руководил Сергей Залыгин, сверхпопулярный «Огонек», редколлегию которого возглавлял Виталий Коротич, «Знамя» – редактор Георгий Бакланов, «Юность» – редактор Андрей Дементьев, примыкали к этому направлению журналы «Нева» и «Дружба народов». В писательском активе либеральных журналов были весьма известные имена: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Даниил Гранин, Владимир Лакшин, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, возглавлявший фонд культуры, созданный по инициативе Раисы Максимовны. И что особенно раздражало их оппонентов из враждующего лагеря, неудержимо росла подписка на эти издания. Лидером был «Огонек», за каких-то три года подписка на журнал выросла в 6 раз и в 1990 году составляла уже 4 миллиона шестьсот тысяч. Не отставал и «Новый мир», подписка на него по сравнению с доперестроечными временами выросла в 10 раз и составляла почти 2 миллиона. На станицах этих журналов публиковались ранее запрещенные авторы и произведения и, что особо интересовало читателя, неизвестные, ранее замалчиваемые страшные факты времен культа личности, рассказывалось о забытых и замалчиваемых невинных жертвах сталинского беспощадного режима. Это не могло оставлять читателей равнодушными, будило от гражданской спячки и равнодушия, призывая каждого к осмыслению общественной ситуации и к политической активности. Помню, когда я прочла в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, где он, опираясь на свидетельства многочисленных арестованных и осужденных, показал весь страшный конвеер гулаговской мясорубки от ареста, обыска, изуверских допросов с выбиванием признаний, пересылки в переполненных душных столыпинских вагонах, предназначенных для перевозки скота, голода, недоедания и изнуряющего труда в гулаговских лагерях, в которых не многим удавалось выжить, я написала заявление в свой партком о выходе из партии. Это был небезопасный шаг, грозивший мне крупными неприятностями. Ведь я работала тогда в самом консервативном институте Академии педнаук, академики и профессора которого яростно боролись с педагогами-новаторами, реализующими идеи перестройки на педагогической ниве. Были и внутренние психологические причины, заставляющие меня колебаться, когда писала заявление о своем выходе из партии. Ведь я вступала в партию по убеждению, что членство в партии позволит мне более активно заниматься общественно-полезной деятельностью. Да и принимал меня рабочий коллектив тюменского моторного завода, выбравший меня в комитет комсомола на освобожденную комсомольскую работу. И все-таки я не могла больше оставаться в партии, у которой руки по локоть в крови, и которая довела страну до столь кризисного состояния. Нужно сказать, что сталинисткой я никогда не была и о преступлениях этого режима знала не понаслышке. Я выросла в северном Тевризском районе Омской области, в дремучем урмане которого было пять сиблаговских поселков, куда в 30-е годы свозили семьи несчастных раскулаченных, среди которых были и мой папа со своими родителями, донскими казаками, так и оставшимися лежать в этой далекой неласковой для них земле. Но только после прочтения «Архипелага ГУЛАГ» я в полной мере осознала весь масштаб и ужас совершенных Сталиным злодеяний. Да, гласность открыла нам глаза на это. Но что интересно, во время перестройки еще непоколебим был для нас авторитет Ленина, и бытовало мнение, что его политику и идеи извратил Сталин. Не замахивалась на критику Ильича и прогрессивная пресса того времени. И только наш товарищ по Тюменскому университету начитанный и умный физик Валера Неверов, хитро прищурясь, мог задать мне, искренней ленинистке коварный вопрос: «А как вам такое высказывание вождя: «Если не согласны, то пожалуйте к стенке»? Тогда я страшно возмущалась этими осторожными попытками нашего друга очернить авторитет Владимира Ильича. И только через лет через пять и в моих глазах этот непререкаемый авторитет вождя начал меркнуть, что и выразилось в стихах, написанных мной в 1989 году.
Что ж ты наделал, Владимир Ильич?
Какую судьбу уготовил народу
Этот обманно-несбыточный клич
О равенстве и свободах?
Перед резнею гражданской войны,
Сталинского геноцида
Все нации и все сословья равны —
Вот что в бою добыто.
Всепоглощающий аппарат,
Совесть и честь забыты,
Да торжествующий бюрократ,
Дорвавшийся до корыта.
Но очищение гневом грядет
В дремавшем досель народе.
Плотину запретов правда прорвет,
Прорвется совесть к свободе.
Тем временем засияли на писательском небосклоне и новые имена издавших свои произведения, которые были под запретом до перестройки. Увидел свет арестованный когда-то роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», в котором автор посмел провести аналогию между политическими заключенными ГУЛАГа и нацистских концлагерей. Эта аналогия побуждала к размышлению о коммунизме и социализме, ради построения которых непогрешимый Владимир Ильич со своими сподвижниками, казненными потом в 30-е годы, совершил октябрьский переворот и развязал кровавую братоубийственную гражданскую войну. Но тогда было не до этих размышлений, нужно было переварить всю обрушившуюся информацию о жертвах культа личности и все стремительные бурные перемены, происходящие в обществе.
Тогда же мы начали зачитываться романом Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», ярким художественным произведением о сталинских преступлениях и сломанных сталинским режимом судьбах многообещающих молодых людей. И хотя его герои были городскими жителями, москвичами, он сумел показать и страшную трагедию крестьянства в пору ускоренно проведенной коллективизации. Вот главная героиня романа Варя, уже тогда возненавидевшая Сталина, беседует со старым интеллигентом, Михаилом Юрьевичем, работающим в центральном статистическим управлении, переименованном в ЦУНХУ-Центральное управление народно-хозяйственного учета. Михаил Юрьевич – единственный человек, с кем Варя может откровенно говорить о Сталине и его политике. Собственная сестра, член партии, категорически запретила говорить на эти темы даже с ней, поскольку в противном случае она вынуждена будет сдать сестру на Лубянку. Михаил Юрьевич, владея статистикой, в цифрах рисует трагические результаты ускоренной и насильственной коллективизации. С 1929 по 1933 поголовье лошадей сократилось с 34 миллионов до 17, крупного рогатого скота – с 68 миллионов до 38, свиней – с 21 миллиона до 12. В два раза сократилось поголовье скота, который уводили с домашних хлевов по сути дела на улицу под открытое небо, не успев построить конюшен и коровников и не успев запасти кормов на зиму. Можно представить, как голосили деревенские бабы, цыпляясь за уводимую со двора кормилицу семьи – корову. Мне об этом рассказывала моя деревенская бабушка, мамина мать из сибирской деревни Журавлевка. Когда поздней осенью в ноябре уводили последнюю коровенку, обрекая многодетную семью на голодуху, она выгнала на улицу свою бесштанную команду малолетних детишек, чтоб те облепили корову, голосили и не давали ее увести. К счастью, активисты, проводившие коллективизацию, смилостливились и не стали отдирать от коровы вцепившихся в нее ребятишек. Семья смогла выжить на картошке и молоке, иначе не остались бы в живых моя мама и ее братья, а заодно не появилась бы на свет и я. Благодаря тому, что в Сибири в изобилии садили картошку, ее жители в эти годы не умирали от голода, как вымирали на Украине и в южных районах России, после того как подчистую из амбаров выгребли все зерно. Да и зерна в 1933 году после коллективизации на 21 миллион тонн собрали меньше, что не помешало вывести за границу в неурожайные 1931-32 годы 12 миллионов зерна, тогда как в 27–29 годах вывезли за границу 2,5 миллиона тонн. Сталин, покончив с НЭПом и взяв курс на индустриализацию, за границей обменивал зерно на технику. И если во время НЭПа без всяких человеческих жертв смогли поднять из руин гражданской войны промышленность и сельское хозяйство, то ценой в 13 миллионов крестьян умерших от голода, погибших при раскулачивании и высылки в Сибирь, на север, была оплачена индустриализация. А к этой цифре еще следует добавить трудно подсчитываемые сотни тысяч и миллионы погибших крестьян, высланных в СИБЛАГи, и арестантов ГУЛАГа, ту бесплатную рабочую силу, непосильный 12-ти часовой труд которой оплачивался лишь скудной тюремной баландой.
Выдавая Варе всю эту убийственную информацию о коллективизации и ее трагических последствиях, Михаил Юрьевич убедительно просил ни с кем и нигде не говорить на эту тему, чтобы не погубить себя. Нельзя было также рассказывать и того, что Варя видела на Киевском вокзале, где вповалку лежали умирающие от голода люди, добравшиеся с голодного юга до Москвы с надеждой на спасение, и откуда их не выпускала милиция. Московский вокзал был оцеплен милицией, умирающих от голода, опухших, обезображенных людей не впускали в город, чтоб не портили картину победившего социализма. Знал ли об этом голодоморе Сталин? Наверно, знал, поскольку после гибельной, ускоренной коллективизации он издал Постановление ЦК ВКП (б) о перегибах на местах, обвинив во всем местные власти, которые добросовестно выполняли спущенную сверху разнарядку. А еще нашлись виноватые в Наркоземе, 35 руководящих работников которого вместе с заместителем наркома Конаром были расстреляны в 1933 году, о чем не преминули сообщить в «Известиях».
Популярность романа Рыбакова «Дети Арбата», в художественной форме описавшего ужасы сталинского режима, была так велика, что его сразу начали переиздавать миллионными тиражами. Очень это не понравилось собратьям по перу из противоположного лагеря. Наряду с положительными отзывами на писателя обрушился град критических статей, публикуемых в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Москва». Рыбаков вынужден был обратиться с открытым письмом в «Огонек», когда от критики романа его оппоненты перешли на личность автора, искажая и перевирая его прежние произведения с целью доказать, что Рыбаков, следуя моде, «перекрасился» из сталиниста в демократа. Особенно досталось популярному детскому роману «Кортик». Герои романа, подростки, разыскивая в старой крепости клад, обнаружили вооруженных контрреволюционеров и помогли их изловить. Критик Байнушев, очевидно, не очень внимательно читавший роман, а больше рассчитывающий на то, что и другие не знакомы с этим романом, мальчишек-романтиков превратил в павликов морозовых, доносящих на своих отцов. Как пишет Рыбаков, статья Байнушева началась ложью о «Кортике» и закончилась ложью о «Детях Арбата».
Невольно вспоминаются 30-е годы, когда критики дружно клеймили булгаковщину, произведения и пьесы М.А. Булгакова, добиваясь снятия их с репертуара. Его роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных», в которых русские офицеры, собиравшиеся дружной компанией у своего товарища Алексея Турбина в Городе, где беспрестанно менялась власть от гетмана Скоропадского, немцев до Петлюры и большевиков, совсем не были показаны с классовых позиций, как враги-белогвардейцы. И кроме симпатии и сочувствия, других чувств не вызывали, что уже было смело для того времени, когда шли процессы над врагами народа. И критические статьи в адрес автора носили характер политического доноса. Михаил Афанасьевич скрупулезно отслеживал эти разнузданные, критические публикации, насчитав 301 критическую статью в свой адрес, среди которых только 3 были положительными. Этими нападками и тем, что из репертуаров театров были сняты все его пьесы, а к печати не принимались его произведения, писатель был доведен до серьезного невроза, бессонницы и боязни одному выходить из дому. И вот что интересно, спас его Сталин, который прочитав письмо, написанное писателем, позвонил ему, и следствием этого разговора стало то, что Булгаков получил работу во МХАТе. По распоряжению Сталина в 1932 году был возобновлен во МХАТе спектакль «Дни Турбиных», снятый в 1929 после обильной серии критических статей, написанных собратьями по перу. Так велика была их зависть и желание выслужиться перед властями, что, однако, не спасло многих из этих критиков от ареста и расстрела в 1937-38 годах. И все-таки это удивительно и непонятно, как Сталин, не пощадивший Мандельштама, Пильника, Бабеля, Мейерхольда, несмотря многочисленные критические статьи, носящий характер политического доноса, не только не отправил Булгакова на Лубянку, но еще и поддержал его в самый критический момент жизни. Непрост был вождь и обладал каким-то сверхъестественным чутьем. Он сохранил Булгакову жизнь, что позволило писателю завершить свой последний гениальный роман «Мастер и Маргарита», который Елена Сергеевна, вдова писателя, смогла опубликовать в журнале «Москва» почти через 40 лет после смерти Булгакова, в конце 1966 года, на излете той самой хрущевской оттепели.
Не тронул Сталин и Пастернака, который вместе с репрессированными Бабелем и Мейерхольдом значился в списках вымышленной диверсионной организации работников искусства. Тогда ходили слухи, что Сталин отменил арест Пастернака со словами: «Не трогайте этого небожителя». И оставленный в живых небожитель получил возможность написать роман «Доктор Живаго», который, несмотря на время хрущевской оттепели, не пропустили строгие рецензенты из Союза писателей. Опубликованный в Италии, он был переведен на 24 языка, а автору в 1958 году была присуждена Нобелевская премия. Пастернаку в результате развязанной травли и опасения, что его могут лишить гражданства и выслать за границу, пришлось отказаться от Нобелевской премии. И опять же больше всего старались собратья по перу. На общем собрании московских писателей писатели, не читавшие романа, соревновались в красноречии, осуждая Пастернака. И роман его «поганый», и сам он «предатель, продавшийся за 30 сребреников», и «ему не место на советской земле», «дурную траву – вон с поля!». В обличительном красноречии всех переплюнул председатель КГБ СССР Семичастный, заявивший, что Пастернак хуже свиньи, которая не гадит в корыто, из которого ест. А ведь в романе ничего открыто антисоветского не было, ни критики Сталина и Ленина, ни критики большевиков и революции. Просто показаны мытарства во время гражданской войны врача-поэта доктора Живаго, его жены Жени, его любимой Лары, вынужденный отъезд за границу этих близких ему женщин и одинокая смерть в московском трамвае опустившегося Живаго. Несмотря на все публичные политические обвинения и разнузданные оскорбления писателя, Хрущев, прочитав письмо в ЦК, написанное Пастернаком с просьбой не высылать его из страны, что для него будет равносильно смерти, воздержался от высылки писателя. Не предполагал тогда Никита Сергеевич, что через 10 лет свои мемуары, которые ему запрещали в ЦК КПСС, придется, как и Пастернаку, публиковать на Западе. И также до того, как они будут изданы на родине, их переведут и издадут в 24 странах. Эта массированная и беспрецедентная травля не прошла бесследно для здоровья Бориса Леонидовича. В стихотворении «Нобелевская премия» он писал:
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, где-то свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет.
И действительно, столь беспрецедентной публичной травли Пастернак не выдержал, сердце «загнанного» писателя вскоре остановилось. После этих событий он прожил чуть больше года.
Горбачевская перестройка отменила политические доносы в форме критических статей, но не укротила завистливо нетерпимое отношение к чужому таланту и успеху, оставив в распоряжении этих критиканов такие испытанные средства как ложь, клевета, шельмование. К этим средствам недовольные перестройкой и демократизацией прибегали не только в писательских кругах, с этим же столкнулись и мы в той борьбе, которая разворачивалась на педагогических баррикадах.