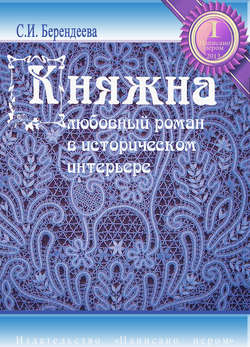Читать книгу Княжна - Светлана Берендеева - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
Оглавление– Марьюшка, готова банька, и ладану росного я достала. Пойдем, лебёдушка! – старушка в тёмном сарафане остановилась на пороге.
– И-и! Всё чтением глаза маешь. Ох, причуды заморские! Девичье ли дело…
Мария встала из-за крытого лаком столика с книгами, закинула за спину гибкие руки, потянулась.
– А худенькая-то какая, ровно тростинка! Не кормили тебя в том Никольском, что ль? Ведь шестнадцать уж сравнялось, пора бы и в тело входить. Женихи на что смотреть станут, на худость твою?
– Полно, няня. Это в старину красота по дородству считалась, а нынче лишнее дородство ни к чему – в танцах мешает.
Синие глаза девы смеялись. Она вдруг поднялась на носочки, повела рукой, прошлась перед старушкой в менуэте, изогнув стройный стан. Потом чмокнула её в щёку и побежала из горницы, крикнув на ходу:
– Пусть Пелагея одёжу несет, я в мыльню дорогу помню.
В бане княжну обихаживали втроём: и кормилица Пелагея, и няня Ирина, матушкина кормилица, да ещё горничную девушку Акульку взяли – подать что, принести.
Немка, что батюшка Борис Алексеевич по прошлому году прислал обучать княжну танцам да политесу разному, в баню не пошла. Приказала, как всегда, корыто в комнату принесть. Ирина за водой и корытом дворовых послала, но без воркотни не обошлась:
– Ишь, мода бусурманская – в горнице дрызгаться, пол гноить. Да и чистоты от этакого мытья никакой не будет…
А Марии даже воркотня старой нянюшки была мила. И по-особому милым был этот старый дом.
Хорошо в Никольском, там простор, приволье, а всё ж московский дом и там вспоминался. Как, бывало, сиживала у матушки в спальне, слушала сказки её, грамоте училась. Матушка…
– Что задумалась, дочка? Давай-ка на полок, я на тя повею.
Мария легла на гладкие горячие доски, зажмурилась. От каменки поднимались клубы ароматного пара – няня по капельке точила настой трав с ладаном на раскалённые камни, одобрительно поглядывала, как осторожно гонит пар к полку дородная кормилица. Пелагея ещё и ещё веяла на Марию распаренным веником, пока та как следует не разогрелась, не распустилась всем розовым телом. Теперь веник уже прикасался к коже, но мягко, как бы оглаживая. Потом его касания стали резче, потом ещё – от маленьких узких ступней по крутым лодыжкам, едва начавшим полнеть бедрам, розовым крепким округлостям, прогибистой талии и нежной спине, и обратно – старательно ходил веник кормилицы.
– Ну, хватит ли, Маша?
– Довольно, – бормотнул томный голос.
И веник умерил свой ход, плясал всё медленнее и плавнее, потом погладил напоследок разгорячённую кожу и упал бессильно на лавку, а хозяйка его села ещё ниже, прямо на пол, часто дыша открытым ртом.
– Ох, здорова ты парить, Пелагея. Я вот тоже боярыню покойницу с малолетства приучила к баньке, оттого она и была всегда краше всех, и личиком беленькая и телом крепенькая, пока болесть её не свалила.
Ирина открыла берестяной туесок, окунула в него греческую губку и принялась растирать тело Марии.
– Да что ж ты боярышню своим варевом трёшь! Вон я мыла душистого принесла, у французского купца брато.
– Тьфу на ваше французское мыло, бог знает из чего оно варено. Я всю жизнь господ парю, и белей да румяней Голицыных на Москве нет. Желтки куриные гладкость телу дают, от меду тело крепчает, да взвар на сорока травах от всех болестей, ну и ладан росный, чтоб дух был как от ангела. Куда тут твоему мылу!
Няня крепко растёрла Марию губкой со своим зельем и обмыла ее той же губкой, набирая воду из подставленной Акулькой шайки.
Мария медленно поднялась, чувствуя блаженную легкость во всем теле.
– Спасибо, нянюшка, спасибо, мамушка. Хорошо-то как!
Вышла из парной и, завернувшись в поданное Акулькой мягкое льняное покрывало, села на лавку. Приняла у девки чашу с брусничным квасом, кивнула:
– Иди, ничего не надо.
За слюдяным окошком уже смеркалось. Слышно было, как заржали лошади в конюшне. Вот в такой же зимний вечер она тайком от отца попробовала ездить верхом. Саша потихоньку оседлал и вывел своего Огонька и для нее старого Побегая. У нее тогда сердце замирало от восторга и страха. А пуще всего боялась, чтоб не увидел кто, не сказал отцу. Всю зиму, до самой слякоти, уезжали они с Сашей – приёмышем Бориса Алексеевича Голицына – в ближнюю рощу, и она научилась не уставать в седле и не бояться галопа. Со смирного Побегая пересела на горячую Зорьку – сама ее выбрала. Саша даже удивлялся, как слушается её такая норовистая лошадь.
Полюбилась ей эта мужская забава. Когда развезло дороги и нельзя стало тайно лошадей брать – заметят по грязи, ходила Мария навещать Зорьку, носила ей сухари с солью. И Зорька тоже будто скучала по их прогулкам, тоже ждала.
И надо же было так случиться, что в первый же раз, как, дождавшись погожего дня, уехали они кататься в рощу, прознал об этом батюшка Борис Алексеевич. Ох и разгневался! Слыханное ли дело: девица боярского рода в мужской одёже, да верхом на лошади! Да ей и со двора-то без мамки, без няньки выходить не след; а уж мужскую-то одёжу только на святках девки надевают, да и то из подлого рода, а не боярышни.
Грозен был Борис Алексеевич, когда встали перед ним два преступника: дочь единственная ненаглядная, памятка любимой жены, рано его оставившей, и приёмыш, коего как сына жалел он за сиротство его, а более за голову ясную, за понятливость в науках.
Стояли перед ним отроки и молчали. Ждали слова. А слово у князя Бориса не шло. Глядел на две склоненные головы – черную и русую – на две тоненькие фигуры, такие юные. Не выговаривался уже заготовленный приговор, а обдуманная кара казалась чрезмерной. Подумалось:
– Старею, должно быть, размяк.
Повел глазами, увидел в приотворенную дверь испуганные лица дворни и со всей силы гаркнул:
– Подслушивать? Запорю!
За дверью только вихрь пронёсся – и никого.
Повернулся к бедокурам.
– Ну, что скажете?
Подались вперед оба, но опередила Мария:
– Меня накажите, батюшка. Это я все затеяла и Сашу понужала.
На минуту замолчала, глянула исподлобья и тихим голосом:
– А лучше бы велели Зорьку мне под седло отдать. Вот братец сказывал, что в польской и французской землях дамы вместе с кавалерами верхами ездят, и даже и на охоту…
Борис Алексеевич крякнул от неожиданности, а потом поднял руку – гладить усы, чтобы скрыть улыбку.
Ай да княжна Голицына! А ведь верно! И царь Пётр недавно говорил, что баб да девок наших надо из теремов выводить, к европейскому обхождению приучать.
С тех пор многое переменилось в Марииной жизни. Ей не только седло дамское купили боком ездить и костюм сшили с юбкой такой длины, что в ней ходить нельзя, а только на лошади сидеть – амазонка называется – но и немку из слободы наняли – политесу и танцам иноземным обучать. Да ещё позволили вместе с Сашей французскому языку и математике учиться. Хвалил ее учитель, удивлялся быстрым успехам, а она улыбалась и с Сашей переглядывалась. Рано утром, когда еще боярским детям спать положено, сходились отроки и твердили французские слова, чертили фигуры геометрические… Хотела Мария побыстрей узнать всё, что Саша с учителем уже прошли.
И верхом кататься им разрешили. Не вдвоём, конечно, с конюхом Игнатом и двумя-тремя дворовыми для охраны. Ох, и дивились московские кумушки! Ох, и чесали языки! Брат Василий сказывал, что царь хвалил Бориса Алексеевича за эту затею и другим в пример его ставил.
Только вслед за всеми этими радостями и печаль вскоре пришла. Приехал в Москву государь – смотр боярским недорослям делать. И очень понравился ему Голицынский приёмыш. Самолично его экзаменовал, а потом целовал и по плечам хлопал. Приказал выдать ему паспорт, как дворянскому сыну, поименовав Александром Бековичем-Черкасским – по месту, где нашли его – и отправить вместе с другими боярскими детьми на учебу в далекую италийскую землю, в город Венецию.
Грустно было тогда Марии. Завидовала Александру, сетовала на женское своё естество. Ах, как бы хотела она поехать в далёкую Италию, постигать неведомые науки.
Увидел как-то батюшка её понуро сидящей на подоконнике, спросил:
– Что притихла, Марьюшка? Не больна ли?
У неё вдруг губы затряслись и слезы градом. Борис Алексеевич опешил.
– Да что с тобой? Нянька, доктора!
– Батюшка, пошлите за границу, учиться хочу, – еле выговорила сквозь рыдания.
– Что?!
Уж и хохотал Борис Алексеевич, аж цветные стёкла в окошке позвякивали.
– Нянька, забери ее. Пусть доктор посмотрит, нет ли жара, да даст чего успокоительного. Ну, дочка, ну, учудила!
Но после этого случая перестал гнать Марию из своей книжной комнаты, где рядами стояли тяжелые фолианты. А иногда даже сажал рядом в креслице и читал нараспев латинские вирши, называл по-русски незнакомые ей слова.
Александр перед отъездом сказал ей странное:
– Я письма буду князю-батюшке писать, а тебе поклонов особых слать не буду, невместно это. Ты меня жди.
Она не поняла:
– Почему «жди»? Мы тебя все ждать будем. А почему поклоны невместно?
Он стоял, красный, насупленный, и молчал. Потом протянул что-то на потной ладони. Взяла – серебряный перстенёк, два голубка клюют бирюзовый камешек.
Мария улыбнулась.
– Какой баский, – залюбовалась.
– Меня три года не будет, ты меня помни.
– Ой, какой ты смешной. Как же мне не помнить, ты же мне брат названный.
Тут с Сашей совсем что-то непонятное сделалось, и Мария убежала в поварню помогать пирожки ему в дорогу стряпать.
Уехал Саша, и очень скучно без него стало. И на качелях качаться не хотелось, и на лодке по пруду кататься. Даже Зорьку свою любимую Мария забыла, напрасно та перебирала коваными копытами, звала звонким ржанием хозяйку.
Часто сидела она теперь на самом высоком окне, под крышей терема, смотрела на туманный горизонт, на облака. Грезились ей большие корабли с надутыми парусами, как в батюшкиной книге. А на носу самого большого корабля стоял ладный капитан с чёрными развевающимися волосами в алом заморском кафтане и смотрел в подзорную трубу, и командовал пушкам стрелять, и плыл отважно всё вперёд и вперёд…
Вскоре князю Голицыну пришлось отбыть из Москвы по государевой службе надолго. И, вняв сетованиям няни и советам доктора, отправил он дочь в Никольское, старинную свою вотчину.
Она не прекословила, только попросила позволения книг с собой взять. Книг батюшка дал без ограничения и француза-учителя с ней отправил, а потом и лекаря своего, голландца Кольпа, вдогон послал.
Хорошо в Никольском. Какие песни девки поют, на Москве таких и не слыхивали. А какие леса, травы. С мейнхеером Кольпом все окрестности исходили, все целебные травки и корешки здешние опознали. Да много еще старая знахарка Нава рассказала. Она такая древняя, что еще няню Ирину повивала. Живет одна в лесной избушке, деревенские её боятся и без крайней надобности не навещают. Говорили, будто она с лешим и с водяным покумилась и древним славянским богам молится.
А Мария к Наве часто бегала. Песни её слушала, травы помогала сушить да в пучки вязать, запоминала, какое средство от какого недуга.
Мамка Пелагея ворчала:
– И на что боярышне лекарское дело знать? Нешто дохтуров, случись что, не найдётся!
Мария не знала, зачем ей знать это. Так же, как не знала, почему любит слушать рассказы мейнхеера Кольпа о Голландии, о знаменитых врачах и механиках. И чем так привлекают её геометрические задачи в тетрадях месье Жюля. Любопытно – вот и вся причина. Хотелось понять, как движутся звезды на небе и токи крови в человеческом теле, как живут люди в других странах и на каких языках говорят.
Вот в языках она преуспела. Кроме немецкого и французского, еще и по-голландски с Кольпом говорила вполне свободно. А латынь оказалась пригодною не только для чтения Плутарха, но и для медицинских прописей.
А всё ж промеж занятий, прогулок и хороводов с девками часто виделся ей корабль с надутыми парусами… Да и перстенёк с двумя голубками, вот он, обнимает палец.
– Что, Маша, одеваться?
Это няня подаёт тонкую белую рубаху с прошвами.
Мария очнулась. Да, вот опять в Москве, и завтра ехать в Петербург. Батюшка в письме велел не мешкать. Собирались впопыхах, все ворчали. А Мария довольна. Никогда не была в новой столице, сказывали – там чудно. Только что за спешка такая? Ну, уж скоро узнает.
А в глубине души: «Может, Саша вернулся? Пора бы ему.»
В дом шли уже под яркими морозными звездами.
– Вот и славно. Поужинаем, и спать ложись, Машенька, завтра уж ехать. И что за спешка в зимнюю-то пору? – вздыхала няня.
Не успели войти, навстречу заполошный дворецкий:
– Гости у нас. Царевич. В гостиные палаты провел. Подавать-то что?
Мария удивилась. Вроде не по политесу это. Да и время позднее.
Вошла в свою горницу, остановила Акульку, спешно вытаскивавшую из уложенного сундука бархатную робу.
– Не надо, так выйду.
Взглянула в стеклянное венецианское зеркало: вишневый ярославский сарафан, синие глаза, тяжелая золотая коса по спине.
– Да как же, дочка, ведь царевич! – заохала мамка.
Усмехнулась:
– Ничего. Венец подай.
Надела шитый северным речным жемчугом венец на пушистые после мытья волосы и пошла встречать гостя.
Царевич, Алексей Петрович, разглядывал висевшую на стене гравюру и к двери стоял спиной. Заслышав стукоток каблучков, повернулся – на лице заготовлена высокомерная улыбка, повел рукой в небрежном полупоклоне. И, не довершив, замер, глядя на деву ошалело.
А она улыбнулась лукаво и в старинном своем наряде присела по всем правилам реверанса, выставив напоследок узорный сафьяновый носочек.
Алексей всё молчал, не двигался и даже, кажется, не дышал.
В дверь заглянул дворецкий, встретился глазами с хозяйкой, вопросительно поднял брови. Она кивнула. И тотчас бесшумно побежали слуги. Мигом стол накрылся браной скатертью и уставился серебряными и золочеными блюдами под крышками и без оных, кубками и бутылями. На двух концах стола напротив друг друга два прибора.
– Милости просим, Алексей Петрович, откушать, – теперь Мария поклонилась по-русски, в пояс. Алексей очнулся, подал ей деревянную руку, повел к столу.
А на столе чего только не было! Постарались дворовые не ударить в грязь лицом перед знатным гостем! И сочный, порезанный ломтями, окорок, и тугой студень, и пареный в сметане лещ, и жареные гуси, обложенные мочёной брусникой, и телячьи губы в уксусе, и рубленые лосиные котлеты. А посреди стола сияла знаменитая голицынская кулебяка о четырех углах с вязигой, налимьими печенками, курятиной и белыми грибами. Не забыт был и поросенок с хреном и клюквенной подливкой, и ушное из осетров и ряпушки, и пироги всех сортов и начинок. Вина в бутылях и сулейках стояли все больше заморские, фряжские да испанские, да к ним домашняя голицынская наливка смородинная.
И такой дух шёл от блюд манящий, что и сытом сытый человек не утерпел бы, отведал каждого. А молодые люди, что за этим столом сидели, будто и не видели сего изобилия.
Ну ладно Мария, она сызмальства малоежкой была. А вот Алексей-то Петрович никогда малым аппетитом не отличался. Но теперь и он сидел, ни к чему не притрагиваясь, только вилку с костяной ручкой тискал в руке да кубок опорожнял почти сразу, как наполнял его слуга.
Молчали.
Мария первый раз принимала гостя сама, как хозяйка, да ещё такого важного. Ждала, что заговорит о деле, с каким пришел. А он только глядел на неё карими круглыми глазами и краснел от выпитого.
Наконец, начал. Сказал, что имеет надобность срочное донесение к государю послать по делу о заготовке провианта и наборе рекрутов.
– Вы же, как слышал, в Петербург скоро отправляетесь?
– Да, ваше высочество, завтра.
– Так не изволите ли передать донесение? Курьеры-то сейчас все в разъезде.
– С радостью, Алексей Петрович, почту за честь.
Подняла глаза на слугу:
– Фёдора позови.
Вошел управитель, с поклоном принял у царевича пакет.
– На словах не изволите ли чего передать?
– На словах? Чего ж на словах… хворал осень, лихоманка трясла, – Алексей облизал сохнущие губы. – Теперь оправился, исполняю по государеву наказу, что надобно…
Мария смотрела в его лицо, и казалось оно ей будто знакомым. Откуда бы? Ведь не встречались раньше. Хоть и московитяне оба, да дочерей в гости водить по русскому обычаю не принято. А на ассамблеях царёвых Мария по малолетству не бывала, последнее же время и вовсе в деревне жила.
Смотрела на мягкие кудри, нежный рот и вдруг вспомнила. Деревенский пастушок! Тот, что так ладно делал дудочки из тростинок. Он и Марии делал, и однажды они, сидя на берегу, играли «Иволгу» в две дудочки и смеялись, глядя как, подпрыгивая, бодает телёнок шмеля… Она разулыбалась и, спохватившись, – не принял бы гость на свой счёт – невпопад сказала:
– Летом к нам в Никольское невестка с племянниками приезжала, рассказывала, что в Петербурге италианские актеры кукол на веревочках показывают, марионеты называются. И те куклы как живые люди ходят и разговаривают. Очень забавно.
Алексей с запинкой ответил:
– Я в Петербурге больше в адмиралтействе, да по армейским делам. Марионетов смотреть недосуг было. А вот сейчас в Москве тётенька Наталья Алексеевна настоящий феатр устроила. В Преображенском покои под него отвела. Хочет, чтоб со временем и русские люди, способные к лицедейству, перенимали сиё мастерство.
А руки вот у него совсем не пастушьи, подумалось Марии – белые, мягкие, точно девичьи.
– Третьего дня представление было и на завтра назначено. Комедия с пением и танцами о доне Педре, соблазнителе женских сердец, искусном амурных дел мастере.
Царевич запнулся, облизал яркие губы. Круглые глаза загорелись:
– Изволите ли, я вам билет на представление пришлю? Многие боярышни ездят смотреть и довольны бывают.
– Благодарствую, Алексей Петрович, не могу. Завтра мы до свету выезжаем. Батюшка письмом торопит, а дорога дальняя.
– Так вы сегодня только в Москву прибыли, отдохнуть надо. А после и я бы с вашим поездом отправился.
Мария молча подняла и без того высокие брови, посмотрела удивленно.
– Ну как же, дорога неспокойная, шалят по лесам, – совсем смешался царевич. – И государь моего доклада ждёт. Что уж донесение-то, я уж сам ему всё…
И залился краской, глаза по сторонам рыскают.
Мария еле удержалась от смеха: ну вылитый пастушок, когда перед старостой за недогляд скотины отвечает.
Куда как кстати вошёл дворецкий – подавать ли кофий?
К кофию были заморские засахаренные фрукты и своего изделия медовые рожки да коврижки. Ради гостя были вынуты прозрачные китайские чашки розового фарфора. И такими же фарфоровыми казались Мариины пальцы, держащие бесценную чашку. На эти пальцы и глядел неотрывно царевич Алексей. Один раз только осмелился поднять глаза и сразу отвел, встретившись с удивленным синим взглядом. Руки его неистово мяли салфетку. Встал.
– Время позднее, пойду. Спасибо, Мария Борисовна! Счастливого пути вам.
Не поднимая глаз, ответил на поклон и вышел за слугою с фонарём.
– Странный он какой-то, – подумала Мария вслух.
Вынырнувшая, откуда ни возьмись, няня хихикнула:
– Что ж странного, дело молодое.
– Что? Что ты, Ириньица?
– Полно, девонька, уж большая ты, али не поняла? По сердцу ты ему пришлась. Жди теперь сватов.
– Каких сватов, няня! Он, чай, царевич. Разве можно ему по своей воле жениться!
– А что же, что царевич? Вот попросит государя-батюшку, а тот и согласится. И ты ведь у нас не простого роду.
– Ну вот ещё, нужно мне очень. И хватит, спать пора, – Мария пошла наверх, рассердившись непонятно на что.
– И то верно, припозднились мы с этим гостем, – старушка заспешила следом.
Скрипит снег под полозьями, качается возок. Слышно фырканье лошадей, окрики возницы да временами вороний грай. В окошко выглянешь: тёмно-зелёные еловые лапы, придавленные белыми сугробами, ажурные опушённые инеем берёзки и снега, снега.
Сладко спится в дороге.
В возке Мария с Пелагеей-мамушкой, да Фёдор, Пелагеин сын, на козлах. Он теперь поставлен батюшкой управителем, а бывало, играли вместе, вместе страшные сказки на печке слушали. Да и недавно в Никольском на лыжах вместе бегали, дичину скрадывали.
Вот сейчас бы на лыжах! Поразмяться.
Приоткрыла дверцу, выглянула.
– Фёдор, куда лыжи сложили?
Пелагея открыла глаза.
– Маша, что ты, возок-то выстудишь, закрой.
Но Фёдор уже соскочил, пошёл рядом, радуясь разминке.
– На третьей телеге близко убраны. Достать?
Пелагея всполошилась:
– Да ты что, Федька, какие лыжи! Очумел?
– Так что ж, матушка, сейчас кормить встанем, княжна и прокатится.
– Статочное ли дело боярышне на лыжах, как мужичке. Ну, ладно в Никольском, там чужих нет…
– Так и здесь чужих нет, – засмеялась княжна. – Кто, кроме ворон, меня увидит?
И завозилась оживлённо, принялась вытаскивать из сундука под сиденьем суконные штаны и валенцы.
Ах, как хорошо скользить на широких лыжах по снежному лесу! Морозный воздух пахнет смолой и можжевельником. Лёгкие ноги послушно и уверенно несут гибкое тело. То и дело приходится наклоняться под придавленными снегом ветками. Обоз вперёд ушел, а Мария с Федором и дворовым охотником – по лесу обочь дороги. Федя мамушку Пелагею тем умилостивил, что поохотятся они по дороге, дичинки к ужину добудут – очень Пелагея лесную птицу с лапшёй любит.
Вот охотник впереди остановился, руку поднял. И они с Федей замерли. Старик, пригнувшись, плавно и бесшумно заскользил вперёд, поднял ружьё. Выстрел. И забил крыльями по снегу большущий иссиня-черный глухарь. Вот и подарок Пелагее.
И вдруг, как бы в ответ, вдалеке, в той стороне, куда ушел обоз, захлопали выстрелы. И – людские крики!
Фёдор поправил завязки лыж на валенках, снял с плеча ружьё.
– Стойте здесь тихо. Я сбегаю, гляну…
Споро побежал размашистым шагом. Вернулся быстро, тяжело дыша и хватая на ходу снег.
– Княжна, плохо дело. Лихие люди на обоз напали. Думаю, вернуться нам надо. В деревне лошадей возьмем, верхами доедем.
– Постой, какие люди, что делают-то?
– Да я близко не подходил, только глянул и назад. Наших всех в кучу согнали, в возках шарят. Слышал, кричали: «Боярышню ищите, тут должна быть».
– Если тати это, так ограбят и уйдут, чего ж нам бежать.
– Так ведь тебя ищут, видать, выкуп взять хотят.
– Вот что, Федя… Тебя не заметили?
– Нет. Там ёлки кругом густо стоят, хоть сотню схоронить можно.
– И хорошо, что ёлки. Давай-ка подберёмся и посмотрим, что тем людям надо.
– Да что ж, Мария Борисовна, вам-то? Я сам в разведку схожу. А вы с Никифорычем меня здесь подождите.
– Опять ждать? Застынем. Пошли вместе. Сам говорил, сотню спрятать можно.
Пошли по Фединому следу, взяв наизготовку ружья и стараясь двигаться бесшумно. Дойдя до места, где стоял обоз, встали за большой елью.
Картина предстала довольно мирная. Лошадям был задан овес. Голицынские люди, сбившись в кучу, молчали. Напавшие на них мужики тоже молчали, расхаживали кругом и будто ждали чего-то.
Мария потянулась к Федору, зашептала на ухо. Позвали Никифорыча, который подполз тем временем ближе к обозу и лежал за поваленным деревом, прислушиваясь.
– Фёдор, боярышня, разбойники-то без опаски ходят. Вон ружья у телеги сложили, безо всего ходят. Только у атамана пистоль, и то за поясом. Вот бы…
Двое молодых переглянулись, враз закивали головами и, наклонившись к старику, стали наперебой говорить ему горячим шёпотом…
Через небольшое время среди сбившихся в кучу поникших дворовых началось едва заметное шевеление: бабы перемещались к центру, а мужики – к краям кучи, поближе к повозкам и разбойникам. Атаман, заметив это, подошёл поближе. Ничего подозрительного не увидал: застывшие на крепком морозе люди переминались валенками, похлопывали рукавицами. Атаман отошёл.
И в тот же миг грянули враз три выстрела. Атаман и еще двое упали. Как по команде голицынские мужики кинулись на разбойников. Одни валили их на снег, другие доставали из телег веревки – вязать. Когда подбежали Фёдор с Никифорычем, им почти уж и не досталось подраться.
Пелагея, увидев Фёдора, заголосила:
– Боярышню-то, боярышню куда дел, окаянный?! Да где ж деточка моя ненаглядная…
И смолкла, увидев шедшую к ним из леса Марию с тремя ружьями в руках. Как было договорено, она их перезарядила на всякий случай.
Фёдор уже хлопотал, распоряжаясь ставить возки и телеги прежним порядком, торопил: не в лесу же ночевать, скоро темнеть начнёт. Разбойничков велел связанными положить в телегу и охрану вооружённую к ним приставить. Да и остальным возницам ружья раздал. Теперь с опаскою ехать надо – учёные.
Люди споро собирались, весело переговаривались:
– Ловко я его под дых, сразу свалился.
– А Фёдор-то молодец, не растерялся, всех выручил.
– Мы-то – разини. Разбойников малая горстка, а всех захватили.
– Так не ждали. И оружья не было. Ну, вот теперь есть. Теперь хоть самому Соловью-разбойнику не дадимся.
– Ребята, а княжна-то… Ну и княжна у нас…
И враз замолчали, поглядели на головку в черно-лисьей шапочке, выглядывавшую из возка. И слов нет.
Не успел обоз тронуться, как сзади на дороге послышались выстрелы и крики.
– Стой! Руки вверх! Бросай оружие!
Из-за ёлок выскочили трое верховых. Мужики дружно остановили лошадей и встретили чужаков зрачками ружейных стволов.
Фёдор требовательно крикнул:
– Сами бросайте! Кто такие?
Всадники подскакали ближе, и Фёдор не удержался от удивлённого возгласа:
– Царевич?! Алексей Петрович?!
Царевич Алексей соскочил с лошади, бросил поводья спутнику.
– Стреляли тут? Что такое?
– Лихие люди на нас напали. Ну да ничего, справились. Извольте посмотреть, вот они, голубчики, смирно сидят. Сдадим их куда следует.
– С Марией Борисовной что?
– Всё в порядке. Госпожа в карете своей.
Алексей подбежал к возку, заглянул.
– Здоровы ли? Зла какого супостаты не причинили? Я следом за вами в тот же день выехал. Думал сразу догнать, да вот не вышло. Выстрелы на дороге. Поскакали вперед. Карета моя следом едет.
Царевич говорил отрывисто и испуганно, коротко взглядывал и сразу отводил глаза от румяного девичьего лица.
– Здравствуйте, Алексей Петрович, – приветливо сказала Мария. – Супостатов мои люди повязали. Все здоровы, спасибо. Из разбойников, правда, есть раненые.
Подошёл Фёдор, поклонился в пояс.
– Простите, госпожа, ехать надо. Как бы в лесу тёмка не застала.
– И верно, поезжайте, – засуетился царевич. – Я свой обоз встречу, и за вами. Ночевать в Левонтеевке будете?
Царевич повернулся к Фёдору.
– Не сочти за труд, голубчик, скажи, чтоб одну избу мне приготовили. Ну, с богом, княжна.
И коротко поклонившись, Алексей вскочил в седло.
До ночёвки доехали быстро. Избы были уже вымыты и натоплены – предусмотрительный Фёдор заранее послал распорядиться. Собирались стоять здесь весь завтрашний день, дать отдохнуть и людям, и лошадям после трех дней пути. И потому устраивались основательно, заносили в дом припасы – наготовить впрок на дальнейший путь, осматривали лошадей и повозки.
Пока Пелагея собиралась для бани – следовало побыстрее княжну помыть, чтоб после неё и люди успели – Фёдор отозвал Марию в сторонку.
– Слышь-ка, боярышня, как тебе царевич показался?
– Да никак, испугался вроде. А что, Федя?
– Приметил я, как он мимо телеги с разбойниками проходил, так вроде знак атаману подал. И те двое, что с ним были, как будто со знакомыми с разбойниками говорили. А как я подошёл, враз замолчали.
– Может, почудилось тебе? Откуда у царевича такое знакомство?
– Может, и почудилось. А думка у меня есть.
Обоз царевича пришёл поздно, голицынские уже отужинали и спать укладывались. Изба для царевича была обихожена, и снедь ему к ужину доставлена. Он было стал просить княжну с ним отужинать. Но ему было сказано, что княжна с дороги и со всех происшествий устала и почивать изволит, а утром просит пожаловать к завтраку.
Но вместо завтрака был переполох. Сбежали разбойники. Даже раненых с собой унесли. Сторож был связан и божился, что лиц нападавших не видел. Между тем никто ночью в деревню не входил: сторожа у околицы никого не видали, собаки не лаяли. Не в деревне ли сообщники нашлись? Фёдор с ног сбился: допрашивал старосту, призвал на дознание жителей близлежащих домов, в который раз приступал к сторожу…
Потом пришёл к Марии, попросил всех из горницы выслать.
– Мария Борисовна, дело сурьёзное. Прямо и не верится…
– Федя, может, не надо сыск устраивать? Сбежали и ладно. Бог им судья.
– Не в том дело, боярышня. Сторож сознался всё-таки. Просил только царевичу о том не говорить, дыбой его стращали.
– Царевичу?
– То-то и оно! Разбойников ослобонили его люди, те двое, что давеча к нам подъезжали. А сторожу сказали, мол, нишкни, не то на дыбу пойдешь. И еще он слышал, как говорили, что раз дали себя повязать и уговор не исполнили, то обещанной награды не будет. Уносите, дескать, ноги и благодарите Бога, что живы остались.
Мария ошеломлённо молчала. Зачем это царевичу? Грабёж? Смешно. Походила по горнице. Потом решительно повернулась к Фёдору:
– Позови царевича ко мне.
Фёдор повернулся уйти.
– Или нет. Стой. Сама пойду к нему. Скажи Акульке, пусть шубу подаст. И ты со мной.
Но пока одевалась, одумалась. Не годится так. Как батюшка говорил, первое слово изо рта выпускать не след.
– Вот что, Федя, пошли к царевичу спросить, что, мол, завтракать не идёт. Княжна Голицына заждалась, просит пожаловать. Пусть стол быстро накроют, да по-парадному.
Фёдор ушёл, а она опять принялась мерить шагами комнату. Что же это? В голове не укладывается!
К приходу гостя надела голландское платье голубого бархату с серебряными кружевами. Волосы зачесали ей наверх по-иноземному и черепаховыми шпильками скололи. К высокородному гостю вышла совсем спокойная, румяный маленький рот улыбался.
Царевич выглядел неважно. Глаза красные, лицо осунулось, как-то весь ссутулился, съёжился. Глянул на красавицу, присевшую в поклоне, и будто совсем худо ему сделалось, еле до стола дошёл.
А хозяйка его потчевала, то и это отведать уговаривала, слугами, блюда переменявшими, командовала.
И царевич мало-помалу в себя пришёл, отдал честь и шаньгам с творогом и белорыбице, и пирогам с курятиной. Да почитай ни одного блюда не пропустил. И кубок за здоровье хозяйки не раз поднимал.
В конце завтрака кофий подали. И тут Алексей с таким видом, будто решился на что-то отчаянное, выпалил:
– Княжна Мария Борисовна, посвататься за вас хочу.
Мария медленно отодвинула от себя чашку. Встала. Крылья точеного носа напряглись, тонкие брови взлетели, синие глаза налились чернотой.
– Разве ж так, Алексей Петрович, сватаются? Разве вы татарин какой, разбоем жену добывать?
У царевича заходил кадык, лицо запылало так, что резко выделились светлые брови. Начал было говорить, но в горле засипело. Поперхал, и сдавленным полушёпотом:
– Давеча как увидел вас… Красота дивная, ровно в сказке… Отец на иноземке женить хочет. Любить буду, беречь, пуще глазу…
Шагнул к ней, протянул руки.
Мария подалась в сторону, загородилась столом.
– В полонянки, значит, меня решили взять, Алексей Петрович, в наложницы? Великая честь, премного вам благодарна!
– Да я… Да мы… Да в ноги отцу бы потом…
Алексей что-то ещё булькал и сникал, сгибался под её гневным взглядом.
– Фёдор, – крикнула Мария, – проводи, гость торопится.
Присела в низком, очень низком поклоне.
Когда Фёдор вернулся, спросила, не глядя на него:
– Сегодня можем выехать? Повозки поправлены?
Фёдор улыбался во весь рот, прямо распирало его.
– Можем, всё готово. Вот люди счас горячего поедят и тронемся. Ночевать только на заимке придется, ну да ничего, не впервой.
Только в возке Мария окончательно успокоилась. Посмеялась про себя: вот так приключение, рассказали бы – не поверила. Пелагее ничего говорить не стала, и Фёдору наказала, чтоб никому не сказывал.
Остальную дорогу ехали без происшествий, хоть и с опаскою. Фёдор осунулся от недосыпа, проверяя каждую ночь сторожей по нескольку раз. И когда показалась петербургская застава, и он, и все люди вздохнули и перекрестились.
– Слава те, Господи, целы доехали.
Прибыли быстро, раньше срока, так что в голицынском доме их ещё не ждали. Дома была одна Наталья, невестка, с детьми. Выбежала в сени, обняла Марию.
– А мы вас на той неделе ожидаем. Скоро вы собрались. Борис Алексеич с Василием только вечером будут. Все дни на верфи. Горячка у них – завтра спуск корабля и вечером бал у Меньшикова. Вот ты и кстати. Выросла ты. Александр, поди, и не узнает сестрицу названную.
– Саша приехал?
– Недавно. И сразу государь его в работу. Вечером будет, увидитесь. Возмужал он. Усищи черные. Ну, ты отдыхай с дороги, а я посмотрю, как с обедом.
Наталья укатилась колобком, звонко распоряжаясь по дороге об устройстве приехавших с Марией людей, о лошадях, о бане.
Мария оглядела свою новую комнату. Высокое окно в частом переплете, зеркало во всю стену, богато убранная кровать. Подошла к кафельной стенке, прижалась к теплым изразцам, закрыла глаза. Саша приехал. Интересно, какой он стал…
В полудрёме услышала голос Пелагеи:
– Дочка, да ты совсем спишь. Ну-ка ложись.
Проснулась вечером и не сразу поняла, где она. Издалека доносился раскатистый голос батюшки и ещё чьи-то голоса. Соскочила с постели, поскорее оделась, заплела распустившуюся косу. В дверях столкнулась с Натальей.
– Встала? А я как раз за тобой, батюшка кличет.
Быстро пошли по тёмным комнатам. Когда добрались до столовой, где шумели гости, Наталья, увидев на свету Марию, всплеснула руками.
– Маша, да ты в сарафане! Ведь против царского указу!
Но их уже увидели, закричали:
– Вот и дочка!
– Ну-ка, ну-ка, покажите красавицу!
– Иди сюда, затворница.
В ярко освещенной столовой вокруг большого стола было полно народу. У Марии зарябило в глазах от нарядных камзолов, разноцветных париков. Оглушили крики. Застыла на пороге, забыв поклониться. Рты закрылись, даже жевать перестали. В тишине прошла Мария к отцу, поднявшемуся ей навстречу у дальнего конца стола. Все головы, как подсолнухи за солнцем, поворачивались вслед вишневому сарафану. Толстый краснолицый человек сказал соседу по-голландски:
– Сколь уродлива русская одежда. Она портит фигуру даже такой красавицы.
Сосед улыбнулся бледными губами.
– Напротив, сарафан есть свидетельство скромности русских дам, не желающих выставлять свои прелести на всеобщее обозрение.
Борис Алексеевич раскрыл объятия, шагнул навстречу, облобызал троекратно, потом повернул дочь за тонкое плечо к гостям.
– Прошу быть знакомыми, господа, Мария Борисовна Голицына.
Поднялся рядом сидящий большой, весь в золотом шитье человек.
– Приветствую вас, принцесса, в нашей новой столице, коей вы будете лучшим украшением. Надеюсь, мы увидим вас завтра на бале в моем доме?
За Марию ответил Борис Алексеевич:
– Непременно, Александр Данилович, непременно будет.
Поднялся с бокалом в руке голландец, которому не понравился сарафан.
– Позфоляйт мне потнимать тост за прекрасный княшна, прекрасный, как древний богиня.
Мария улыбнулась, повела плечиком и громко сказала, отчетливо выговаривая голландские слова:
– Как может уважаемый мейнхеер сравнивать с богиней девушку, одетую в такую уродливую одежду?
Сказала это неожиданно для самой себя и тут же испугалась своей смелости. У голландца же от удивления рот стал таким же круглым, как и щекастая физиономия. Многие гости засмеялись, видно, те, что понимали по-голландски. За ними подхватили другие. А громче всех хохотал сам хозяин, приговаривая сквозь смех:
– Ай да дочка! Знай наших! Голицынская порода сразу видна.
Гости принялись вставать и пить здоровье красавицы и хозяина. А он махнул Наталье уводить совсем смутившуюся Марию. Они ужинали вдвоем. Наталья все удивлялась, как её золовка так по-голландски наловчилась, у неё самой иноземные слова совсем в памяти не держатся. Вдруг прервалась на полуслове:
– Ой, главное-то забыла! Приметила такого худого в сером кафтане?
– Какого худого?
– Ну, с голландцем этим рядом сидел.
– Не помню. А что?
– Князь Борис Иваныч Куракин. К государю ближний и богат. Раньше при армии был, а теперь с посольством в скором времени отправляется. И как раз в Голландию.
– Почему «как раз»?
– Ах ты, Господи! Вдовый он, и ещё молодой. Сговорились они с батюшкой, что за него тебя отдадут. А как раз ты и по-голландски знаешь. Как смотрел-то он на тебя! Прямо ел глазами! Ну, что молчишь, Маша?
– Натальюшка, я там Сашу не углядела, неужто он так переменился?
– Да там его и не было. Ни его, ни Василия. Видать, опять на верфи до ночи будут. Так бывает, когда работа спешная. А что ж ты про жениха-то… Али не слышала меня?
– Да что ж жених… То воля родительская.
– Это конечно… А все ж хорошо, когда муж добрый, да по сердцу. Так-то сладко… Ну да тебе, девице, рано знать ещё про это.
Наталья засмеялась и, расходившись, толкнула Марию локтем. Но взглянув на притихшую золовку, остановилась.
– Пойди-ка, Маша, приляг, дорога-то неблизкая. Пошли провожу, дом-от большой, я поначалу плутала.
Встали.
Внизу вдруг грянула музыка.
– Наташа, что это?
– Дак, гости ж, танцы начались.
– Поглядеть бы.
– В сарафане ты, да и я не больно нарядна… А мы вот что: наверху залы галерейка есть, оттуда поглядим. А коли захочешь спуститься, переодеваться надо.
Галерейка была обнесена перилами с пузатыми столбиками. За ними и присели, между столбиками скрытно выглядывая. Зала была полна народу. Дамы в пышных платьях с сильно открытой грудью, кавалеры в атласных кафтанах и кудрявых париках. Всё пестро, шумит, кружится под музыку. Марии показалось, что народу в зале много больше, чем за столом было.
– Знамо, больше. К танцам ещё подъехали. Но эта ассамблея небольшая. Вот завтра у Меньшикова – увидишь – целая толпа будет. Ну что, спустимся? Одеваться тогда пошли.
– Подожди, посмотрю ещё.
Очень красивыми казались ей танцующие внизу люди. А как изящно приседают и кланяются! Ей никогда так не смочь. Немка учила её танцевать, хвалила; но она танцует совсем не так красиво! Ловчее всех двигался широкоплечий и узкий в поясе красавец в черном парике. Он был самый ладный среди всех. И показалось Марии, что похож он на того капитана на большом корабле из её мечтаний.
– Ну, Маша, насмотрелась ли?
– Скажи, вот этот в черном парике, он русский?
– Ой, да это Саша. Приехали, видать.
– Саша?! Какой он стал… А кто это с ним в паре?
– Это княжна Цицианова. Её отец из грузинских князей, сподвижник царёв.
– Она красивая. Вон как танцует ловко.
– Ну уж и красивая. Только что танцует, а собой черная, длинноносая.
Увлёкшись, они высунулись из-за столбиков, и снизу к ним поднялись лица, заулыбались. Наталья потянула Марию за руку, на носочках пробежали несколько комнат и только тут дали волю хохоту. Чему смеялись, и сами не знали, но так разобрало, что остановиться не могли.
– Ишь, хохотушки, – послышался мужской голос.
Неслышно за их смехом подошёл Василий.
– Ну, здравствуй, сестрёнка.
Поцеловал в голову, оглядел. Выросла.
– А вот узнаешь ли? Иди сюда, Александр. Каков молодец вымахал! Уезжал мальчонкой, играли вы с ним детьми. Помнишь?
И Мария и Александр молчали, глядя друг на друга.
– Наташа, устал я. Государь и двужильного замотает.
Наталья сразу заполошилась.
– Пойдём, Васенька, пойдём. Жаркое я укутать велела, чай, ещё тёплое. Поешь, и ляжем.
Обнявшись, они ушли. Затих в переходах ласковый говорок Натальи.
Мария первой нарушила молчание.
– Давно ты приехал?
– Две недели, как в Петербурге, – он прокашлялся. – А ты еще краше стала… Постой, у меня гостинец. Подожди здесь, я сейчас…
Метнулся из комнаты и быстро вернулся, неся малый сверток. Молча подал, уставив на неё чёрные дышащие зрачки. Она развернула и ахнула: невесомыми складками пролилась из её рук до полу тончайшая кружевная шаль. Накинула её на голову и плечи и до самых ступней покрылась кружевной пеной. В простенке висело большое зеркало со свечами по сторонам. Мария повернулась к нему и увидела поверх своего отражения черные глаза стоящего сзади статного красавца. Казался он близким, родным – Саша ведь – и в тоже время будто пугал чем-то. Пальцы её ослабли и шёлковое кружево заскользило вниз. Он подхватил, робко окутал шалью тонкие плечи, и его руки остались на этих плечах, как бы не в силах подняться. Прошептал:
– У тебя волосы можжевельником пахнут.
На Марию нашло какое-то странное оцепенение. Она чувствовала спиной исходящее от него тепло, сильные удары сердца, прерывистое дыхание на своём затылке и не могла пошевелиться. Странная слабость охватила все члены.
– Маша, где же ты? Батюшка кличет.
Голос Пелагеи помог ей прийти в себя.
– Иду.
Она сняла шаль, протянула кормилице.
– Вот, отнеси ко мне в комнату.
Оглянулась. Ещё раз встретились два взгляда, чёрный и синий. Быстро ушла.
Батюшка был не один. С ним сидел бледный сосед давешнего голландца. При входе Марии он встал и с поклоном пошёл навстречу. Подал руку и подвёл к стулу. Борис Алексеевич с усмешкой смотрел на эту сцену.
– Куртуазен ты князь, зело куртуазен.
Потом повернулся к Марии. Оглядел её, смирно сложившую руки на коленях.
– Что ж Маша, не спросишь, зачем так спешно тебя в зимнюю пору вызвал?
– Чаю, батюшка, сами скажете, что изволите.
Улыбнулся.
– Скажу. Дело вот какое: возраст твой подошёл, замуж самое время. И вот от меня жених тебе, Борис Иваныч Куракин, моя на то отцовская воля.
Сказал и с некоторою опаской взглянул на дочь. Строптивой росла, как бы не заупрямилась. Но она спокойно подняла глаза.
– Хорошо, батюшка.
У Бориса Алексеича отлегло от души. Поднялся князь Куракин.
– Позвольте мне, княжна, уверить вас в том, что я совершенно счастлив вашим согласием, найдя в вас сочетание телесной прелести и образованного ума с благонравием и благовоспитанностью. Вы можете быть уверены, что я приложу все мои старания, чтобы составить ваше счастие.
Мария в замешательстве смотрела на него. Она решительно не знала, что бы такое сказать и надо ли говорить вообще.
Выручил отец.
– Вот и ладно. Ты, Маша, иди отдыхай с дороги, а мы с князем о делах поговорим.
Она опять получила поклон от князя, поклонилась ему и батюшке и вышла.
Идя к себе в комнату, несколько удивлялась своему спокойствию. Сейчас решилась её судьба, а ей будто всё равно. На кровати лежал Сашин гостинец. Она расправила его весь, и кровать полностью покрылась белым узорочьем. Как искусно сделано: птицы, цветы, травы дивные. Она водила пальцем по хитрым переплетениям, забыв обо всем.
– Охти, красота какая, – ахнула вошедшая Пелагея.
– Саша привёз. А ты видела, как он вырос?
– Да не то, что вырос – возмужал. Орёл! Ну, давай ложиться, Маша. Время позднее, в Москве об эту пору давно спят, а здесь, вишь, всё галашатся.
Раздеваясь, Мария задела грудь и поморщилась.
– Мамушка, что это мне здесь больно и будто напухло?
– Что такое? – Пелагея всполошилась. – Не зашиблась ли?
Но увидев, куда показывала дева, засмеялась.
– В возраст, Маша, входишь. Дела-то твои давно у тебя были?
– В Никольском ещё.
– Ну вот, скоро опять начнутся, вот грудь-то и припухает.
– Но раньше ведь не болело.
– Раньше не болело, а теперь болит, привыкай. Ох, Машенька, сколько этой боли-то у тебя ещё будет. Да и не такой, а покруче. Доля наша бабья клятая! Да что ты, голубка, испугалась? Будет и радость, будет и сладость. Без этого и жить бы неможно было.
Пелагея давно спала, закинув за голову полные руки. А к Марии сон не шёл. То виделись хохочущие рты под разномастными париками, то батюшка, то танцующие пары. Вспомнила себя и Сашу в зеркале, как в раме. Ну и что ж, что он красавец, она тоже не дурнушка. Вот и князь Куракин говорил «Прелестная…». Замуж. Он что же, будет жить с ней вместе и спать в одной постели? Мария представила себя раздетой, в одной сорочке и князя, подходившего к ней с протянутыми руками… Ну, это ещё не скоро, сначала положено свахе ходить, потом сговор… нескоро.
И вдруг она села в постели и широко открыла в темноту глаза. Саша не учился танцевать, тогда ещё и немки той у Голицыных не было. Значит, в Италии он на всякие ассамблеи ходил? Танцевал там со всякими италианками? Эвон как наловчился! То-то на него та черноглазая девица смотрела, глаз не сводила. Как, бишь, её фамилия, Наташа сказывала? Да, Цицианова, из грузинцев. Так ведь и Сашу на Кавказе подобрали, он тоже князь, только кабардинец. Может, близкая кровь в них и заговорила? Как хорошо они танцевали. А её немка совсем не так учила, всё по-другому.
Мария встала с постели, подошла к зеркалу и стала делать те поклоны и повороты, что запомнила, глядя в залу между столбиками галереи.
Паркет скрипел, пламя свечи колыхалось, а расходившаяся Мария кружилась и приседала, напевая то менуэт, то контрданс.
Вдруг дверь открылась, и в дверь просунулась Натальина голова.
– Что тут? О Господи!
Мария глянула на себя в зеркало: коса растрёпанная, руки голые, босая – прыснула. Ну а Наталье только дай повод посмеяться – обе в голос захохотали. Подняла голову сонная Пелагея.
– Что это вы, среди ночи-то?
На неё замахали руками:
– Спи, спи.
Наталья накинула на Марию халат и потащила за собой. В кофейной комнате был Василий, в халате, как и Наталья, без парика.
– Вообрази, Вася, иду с кухни, слышу – шум. Думала, может залез кто или прислуга шалит. Заглянула – а там…
Наталья опять залилась смехом, замахала руками. Еле выговорила:
– Пойду, скажу, ещё прибор.
Выбежала, смеясь.
Василий похлопал рукой по дивану.
– Садись, сестрёнка. Так что там у вас?
Мария насупилась.
– Давеча мы с Наташей сверху смотрели, как танцуют… А я другим танцам учена, ну вот и хотела попробовать…
Василий тоже засмеялся.
– Ну, это дело нехитрое. Тем паче для тебя, ты у нас легконога.
– Не запомнила я. Вот смотри: так поклон, потом боком, а теперь куда?
Мария потянула его за руку с дивана.
– Ну покажи. Давай сначала.
Когда пришла Наталья и увидела менуэт в халатах, она даже смеяться забыла от удивления.
– Ну, Голицыны! Чего только не учудят!
Мария обернулась через плечо.
– Глянь, Наташа, в этом месте ногу приставлять?
– Нет, вытяни вперёд, самым носочком пол тронь, а потом снова подними и с носочка шагай. Дай-ка я покажу…
Урок был прерван лакеем, принёсшим холодный ужин и три прибора.
– А зачем это вы среди ночи едите?
Наталья засмеялась.
– Мода такая французская, чтоб супруги ночью закусывали.
– Только супругам можно?
Наталья засмеялась ещё пуще, и за неё ответил Василий:
– Не только. Вот замуж выйдешь, сама узнаешь, зачем ночью едят. Говорил тебе батюшка?
– Говорил.
– И как жених на твои глаза?
– Не знаю, жених как жених.
– Он роду хорошего и у царя в чести. Образован, за границей с царём был, а теперь вот в Голландию послом едет. Про богатство и говорить нечего, ну да ты сама не бесприданница. Мужем хорошим будет, Маша, не сомневайся.
Мария молчала. Отчего-то неприятно ей стало на душе.
Василий глянул на неё, усмехнулся.
– А уж как он восхищался тобой сегодня! И красотой твоей, а пуще того разумом: что и по-голландски знаешь, и держать себя умеешь, и поступь у тебя величавая.
Мария фыркнула:
– Поступь он тоже к разуму отнёс?
– Вот только языка твоего острого не приметил. Ну да у него всё впереди. Давайте, девоньки, выпьем за Машино счастье.
Разлили в стеклянные заморские бокалы терпко пахнущее вино, чокнулись. Закусывали маленькими колбасками, сыром, винными ягодами. Чудно было Марии есть среди ночи, пить сладкое вино, чудно и весело глядеть на милые лица родных.
– А что, Маша, – спросил Василий, – в дворне рассказы ходят о твоём лесном геройстве, будто ты с разбойниками сражалась?
– Я? – удивилась. – Я не сражалась, это Фёдор с Никифорычем, да и все мужики.
– Ну расскажи, расскажи, как дело было.
Она рассказала всё по порядку, умолчав только о дознании Фёдора и о последнем своём разговоре с царевичем.
Василий помолчал, с интересом глядя на неё.
– Лихая у меня сестрёнка. А про царевича – любопытно. Он в Москву вернулся?
– Не знаю. Я его больше не видала. Пакет его для государя Фёдор батюшке отдал.
– Любопытно, – повторил Василий. – Ладно, Маша, иди спать, у тебя уж глаза слипаются.
На другой день сборы к вечернему выезду начались сразу после завтрака. Сначала была примерка, и не одна, бледно-голубого с серебряными блёстками платья. Потом Марии долго сооружали башню из волос. У неё даже шея устала поворачивать и наклонять голову в разные стороны. Обедали наспех, после обеда последние примерки и ушивки. И вот, наконец, после малого отдыха – одеваться. Ажурные чулки, башмаки с серебряными каблучками. Корсет затянули несильно – и так тонка. От платья с широченной растопыренной юбкой в комнате даже места меньше стало.
Вошёл батюшка, оглядел.
– Хороша! Хоть сейчас ко французскому двору. Вот одень-ка.
Протянул убор драгоценный: серьги, кольца, ожерелье. Сам вдел в уши и надел на пальцы, застегнул на шее. Взял за руку, к зеркалу подвёл. Мария увидела красавицу с большой от пышной прически головой, со сверкающими камнями вокруг тонкой шеи. Красавица улыбнулась Марии маленьким розовым ртом, подмигнула синим глазом.
Борис Алексеич любовался дочерью, не скрывая гордого удовольствия.
– Ну, пора. Да не забудь, Маша, государя Петром Алексеевичем зови и говори с ним смело, он это любит. Танцуй, от кавалеров не шарахайся, как наши московские барыни. А то вчера как деревянная с испугу стояла. Одичала ты у меня в деревне.
– Вы говорите «деревянная», а жениху я вчера величавой показалась.
– Ишь! Уж вызнала. Ну, напрасно я беспокоюсь, бойкость у тебя природная.
По улицам ехали в санях, а снегу на земле совсем не было. Лошади из сил выбивались, тащивши, хорошо хоть грязь жидкая – скользко. Мария больше не по сторонам смотрела, а на лошадей, жалко их было. По сторонам-то и смотреть не на что: лачуги убогие под дерновыми и берестяными крышами, грязь кругом, и сверху дождь моросит – это зимой-то! Кое-где, правда, стояли каменные дома затейливой архитектуры, но всё больше недостроенные. Грустный вид у новой столицы, царского парадиза.
Вот у сидевшей напротив Натальи вид очень весёлый и глазу приятный. Тёплые карие глаза, румянец во всю щёку, нос чуть кверху вздёрнут, на губах всегдашняя улыбка. Славная Марии невестка досталась. Не утерпела, наклонилась и чмокнула её в щёку.
– Что на тебя нашло, Маша?
– Славная ты, Натальюшка. Повезло Василию. И живёте вы с ним ладно – глядеть весело.
– И ты ладно жить будешь. Вася говорил, ты жениху сильно по сердцу пришлась.
– Да… А ты не знаешь, Саша туда приедет? За обедом его не было.
– Приедет, наверное. А что это ты о нём?.. Постой-ка, Маша, да уж ты ли… Глянь-ка на меня. Девонька, что ты, Бог с тобой!
– Да я ничего. Мы ж сызмальства вместе. Я привыкла к нему. Не виделись давно, а поговорить не успели…
Мария говорила отрывисто, странным сдавленным голосом и упорно не поднимала глаза на Наталью. Та молчала, слушая её лепетанье, только вздохнула участливо, да поправила белую розу в Машиной прическе. Показала в окно:
– Подъезжаем. Глянь, красота какая.
Дворец светлейшего князя Меньшикова был похож на сказочный замок. В ранних зимних сумерках он весь сверкал от бесчисленных огней. Мало того, вся река напротив дворцовых окон словно пожаром горела: костры на плотах, бочки с горящей смолой плавали по воде. Фейерверочных огней в небе было больше, чем звезд в самую раззвёздную ночь.
Гостей встречал важный человек в большом парике, стояли напудренные лакеи, вдоль всей лестницы – огромные вазы с дивными цветами. Светло было, как днём. Какое-то дрожащее сияние наполняло пространство между колоннами, отражалось в зеркалах и лицах людей. Мария чувствовала себя невесомой, казалось, она едва касается башмачками красно-ковровых ступеней лестницы.
С гордой улыбкой поглядывал на дочь князь Голицын. Хороша, прямо царевна! Да что там царевна, королевна заморская! Царевны – государевы племянницы – в подмётки ей не годятся: ни красы такой, ни стати. Может, поторопился он, сговорив дочь за Куракина? Не подвернётся ли кто поважнее? Хотя и Борис Иваныч из родовитых, да и у государя в чести. Остальные-то царёвы сподвижники всё больше из подлого рода, выскочки. При Петре высоко летают, а что дальше будет…
В залу вошли под звуки музыки. К Марии уже в дверях подлетел кавалер. Развязно, не спросясь батюшки, пригласил на танец. Она оробела сначала, но, подбодрённая улыбками родных, взялась за кавалеровы пальцы и пошла по вощёному паркету на виду у всех. После первого танца сразу начался второй, за ним без перерыва – третий… Марию приглашали наперебой, и она никому не отказывала. Робости как не бывало, ноги сами неслись под музыку, и всё выходило складно, всё к месту.
Батюшка стоял с хозяином дома, Александром Даниловичем Меньшиковым. Тот улыбнулся ей, как знакомой, и потрепал за кончики пальцев, когда Мария подошла после очередного танца. Но она даже сказать ничего не успела – опять пригласили. Александр Данилович милостиво кивнул и, глядя ей вслед, наклонился к Борису Алексеевичу:
– Прямо фурор наделала прелестница твоя. Как молодёжь-то вкруг неё вьётся! Уж мамаши забеспокоились, как бы не увела всех женихов сия прелестница.
– Напрасное беспокойство, Александр Данилыч. У Маши свой жених есть.
– Уже! Кому ж такое счастье?
– За Куракина отдаём. Родство хорошее.
– Что ж ты молчал! Отметить надо! Эй, бокалы сюда…
– Постой, светлейший, постой. Вот государь приедет и объявим. Да устроим на той неделе помолвку, ну, вроде как сговор по новой моде.
– О, вот и Куракин пожаловал. Счас мы его спросим… Ишь, и не глядит – сразу к своей любезной. И то сказать, хороша, от такой немудрено белый свет забыть.
Князь Куракин, едва войдя в залу, увидел Машу Голицыну. Она танцевала в первой паре и, казалось, притягивала всеобщие взоры – то восхищённые, то завистливые. Она была не просто красива, в тонком очерке высоких бровей, нежном изгибе шеи, отведенных назад плечах чудилось что-то неземное, какая-то тайная сила.
Увидев склонившегося в поклоне князя, Мария обрадовалась ему, как знакомому. Куракину же её улыбка показалась знаком райского блаженства.
Ей нравилось, как он вёл танец – спокойно, чуть небрежно уверенной рукой направлял свою даму. Ему хотелось довериться.
После танца перешли в другую залу, где были столы с закусками, и сели у окна на Неву. Борис Иваныч спрашивал о жизни в Никольском, о том, где она выучилась по-голландски. Потом стал рассказывать об Амстердаме, Гааге, о голландских каналах и тюльпанах, тамошних обычаях. Многое из этого Мария уже знала от мейнхеера Кольпа, но не встревала, вежливо слушала.
Вдруг все зашевелились, пронеслось:
– Государь приехал.
Мария с Куракиным тоже пошли в главную залу. Пётр был уже там, весёлый, с торчащими усами над широкой улыбкой. Рядом с ним стоял царевич. Мария не смогла скрыть удивлённого возгласа и, чтобы объяснить его, спросила:
– Борис Иваныч, а что это за дама рядом с царём?
Она указала на черноволосую коренастую женщину в роскошном платье алого бархату, с улыбкой слушающую склонившегося к ней Меньшикова.
– Эту даму, княжна, надлежит называть Екатериной Алексеевной и быть с ней попочтительней. Более же, ввиду вашей невинности, ничего сказать не могу.
Мария внутренне усмехнулась. Что ж, значит, она не невинна, если знает, кто такая Екатерина царю Петру. Подумаешь, у всех европейских государей есть метрессы, а чем наш хуже. Екатерина ей понравилась – чем-то на невестку Наталью похожа. Может, смешинкой в карих глазах и румяным круглым лицом?
Куракин между тем подал ей руку.
– Мария Борисовна, надобно подойти, поприветствовать его величество.
Но только они начали пробираться через толпу, умолкнувшая было музыка вновь грянула сверху. И Пётр, подхватив свою роскошную подругу, пошёл в первой паре. А прямо к ним быстро подходил через расступавшуюся толпу царевич. Подошёл, поклонился сначала князю, затем Марии, прося на танец.
Она так удивилась, что чуть не забыла, с какой ноги начинать. Думала, Алексею стыдно за лесное происшествие, что он и глаз ей не покажет, а он вишь…
Танец меж тем шёл своим чередом. И когда Марии с Алексеем пришлось стать против царя и Екатерины, Пётр с любопытством оглядел её, а Екатерина ласково улыбнулась. Мария с готовностью улыбнулась в ответ и подумала, что Петру с ней, наверное, так же хорошо, как брату Василию с Наташей.
На царевича Мария не смотрела, неловко было. Старалась меньше касаться его потной руки. Музыка смолкла, но он не повёл её к отцу и подлетевшему кавалеру не дал пригласить, а дождался с ней следующего контрданса. Тут только Мария глянула ему в лицо – шалые, будто пьяные глаза, и весь вид отчаянный и трусливый. Ей даже жаль его стало – видать, с отцом опять неладно. Все знали, что царь не любит первенца.
Другие кавалеры во время танца разговорами её занимали, а царевич молчал, только всё крепче сжимал её руку. Казалось княжне Голицыной, что опоры ищет в её маленькой руке наследник Российского престола. Захотелось подбодрить его, успокоить. Улыбнулась ему дружелюбно и завела разговор. О чём – сама не помнила. О погоде петербургской, о позициях танцевальных, о Голландии, ещё о чём-то. И добилась своего – разгладились напряжённые складки на лбу царевича, разомкнулись губы, сказал что-то.
Теперь уже с прежним удовольствием выступала Мария по вощёному паркету, улыбалась и своему кавалеру, и парам, кланявшимся навстречу. Ей в ответ тоже улыбались – по-разному. Все глаза были прикованы к этой незнакомой боярышне с гордой осанкой и яркими синими глазами, которую выбрал царевич, да и не отходит от неё который танец, и глаз с неё не сводит.
Вдруг в очередном перерыве между музыкой около них появился Василий. Торопливо извинился и потащил Марию через толпу. Чуть ли не бегом вывел на лестницу, накинул на неё шубу – и к саням.
На крыльце Мария заупрямилась:
– Да в чём дело, скажи наконец.
– После, сестрёнка, после. Давай-ка домой. Вот Саша тебя отвезёт.
Мария обернулась – к ним шёл Александр.
– А как, почему…
– Садись, садись.
Василий уже подхватил её на руки, как ребёнка, и посадил в карету.
– Давай, Саша, как довезёшь, сразу ворочайся.
И побежал назад, перепрыгивая лужи, стараясь не замарать нарядных башмаков.
Марии было жаль так внезапно окончившегося веселья, и разбирало любопытство: что означает сие поспешное бегство. И Саша…
Она повернулась к нему с улыбкой.
– Саша, ты там был? Я тебя не видала.
Ой, какое холодное лицо у него, глаза совсем чужие.
– Был, Мария Борисовна, я позже вас приехал, с государём.
Какой голос у него неласковый. Мария проглотила откуда-то взявшийся комок в горле и попыталась сказать весело, но голос получился хриплым и дрожащим.
– Ты видел, как я танцую? Меня Наташа учила.
– Видел, Мария Борисовна. Отменно танцуете.
Господи, ещё хуже. Почему он такой, что случилось? Марии вдруг стало зябко. Молчание было нестерпимо тягостным.
– Ты сердит на меня за что-то? За что, скажи.
– Не за что мне на вас сердиться. Это вы меня простите, что без должного почтения к вам обращался.
Его глаза горели, губы сжаты так, что стали белыми.
Мария глядела на него в оцепенении, ничего не понимая. Он, видно увидев что-то в её лице, горько проговорил:
– Скоро вы княгиней Куракиной будете… Простите мне дерзостные мечтания, виноват.
Она, всё ещё не понимая, сдвинула брови.
– Батюшкина ведь воля…
А он, не в силах больше держать себя, схватил её руки, прижал к лицу.
– Маша, – застонал с тяжёлым мужским придыханием.
И только тут она поняла, нет, не поняла, ощутила… Как будто упала пелена с глаз. И стало ей так ясно всё про неё саму и про Сашу. А князь Куракин? А батюшкина воля? Слов у неё не было. Она только отняла ладони от Сашиного лица, положила их ему на плечи и близко-близко посмотрела в его горячие глаза.
В этот момент, Боже! в этот сладкий момент раздался отчаянный крик кучера, треск, конское ржание, и весь мир вокруг счастливой пары полетел вверх тормашками.
Когда они выбрались, к счастью невредимые, на свободу, снизу была топкая грязь, сверху дождь со снегом и со всех сторон противный ледяной ветер. Кучер испуганно оправдывался, вокруг ни души. Александр взобрался на колесо, огляделся, прикидывая, где они. Спрыгнул, закутал Марию поплотнее в шубу и легко подхватил её на руки.
Скомандовал кучеру:
– Беги домой, пусть за княжной присылают.
Спрыгнул на землю и побежал с дорогой ношей к ближайшему дому.
Хозяев дома не было, но была ключница. Она заохала, испугавшись, не покалечилась ли боярышня, послала дворового за лекарем. Гостей провела в жарко натопленную комнату и, несмотря на протесты Марии, уложила её на широкий диван. Докучать им старушка не стала – пошла хлопотать по хозяйству, наказав кликнуть, коли что понадобится.
Остались вдвоём и растерялись, будто испугались чего-то. Мария встала и подошла к окну – темень какая…
– Ты не ушиблась? Нигде не болит?
Сашин голос за спиной звучал глухо. Он подошёл к ней вплотную, и от ощущения его близости у неё ослабли ноги.
– Маша, что ты молчишь?
Его дыхание было таким горячим, что обжигало. У неё не было сил ответить, по спине бежала дрожь, когда он, не удержавшись, стал целовать её волосы и нежную шею. Она повернулась к нему, закрыла глаза и с восторгом утонула в его объятиях.
Очнулись они от стука копыт и криков за окном. Мелькали фонари, суетились люди. Марию с Александром сразу отправили домой, а управляющий с людьми остались вызволять опрокинутую карету. Поговорить им дорогой не пришлось – за Марией приехала Пелагея и всю дорогу охала да выспрашивала.
Довезя Марию до дому, Александр сразу развернулся обратно к светлейшему. Боярышню осмотрели, переодели, напоили китайской травой, чтоб простуда не прохватила. Она была как во сне. Всё чудились Сашины ладони, обхватывающие сразу всю её узкую талию, Сашины губы… А её губы горели – ничем не остудишь. В голове всё мутилось: как же теперь, что батюшка скажет?
Обрадовалась вбежавшей к ней прямо с бала, в парадной робе, Наталье. Так ей нужны были сейчас её советы!
Но у невестки лицо было встревоженное, и она с порога начала своё:
– Ну, девонька, заварила ты кашу! У светлейшего сейчас только о тебе и разговор, сейчас там прямо государственный совет насчёт твоей персоны.
Мария удивлённо смотрела.
– Молчишь, глаза раскрыла? А кто с царевичем чуть не весь вечер протанцевал?
– Так ведь он сам. И вовсе не весь вечер.
– Ну-ка скажи, Маша, что там у вас в лесу было. Да не пугайся ты. Никому сказывать не стану, ни батюшке, никому. Сначала сами всё решим, как быть.
– Да я ведь всё уж вам рассказала. Только вот… Замуж он меня звал, да я это за несерьёзное почла. С тем и разъехались.
– И всё? Ничего боле?
– Да что ж ещё-то?
– Ну, когда так, ладно. А то ведь там светлейшему, да ещё некоторым бог знает что в голову взбрело. Знаешь ли, Маша, какая карусель вокруг тебя завертелась? Ведь ты царевичу Алексею Петровичу столь крепко в сердце запала, что он против государя готов пойти, лишь бы тебя в жёны заполучить.
– ???
– Да вот. А Пётр Алексеич-то уж сватает ему немецкую герцогиню. Понятное дело, родство ему себе под стать подобрать надо. А царевичу, вишь, Мария Борисовна – свет в окошке. Заступы просит у светлейшего князя Меньшикова, да у крёстной дочери своей Екатерины Алексеевны – видала её?
– Видала.
Голос у Марии тихий, лицо застывшее. Её испугало Натальино оживление и даже как будто радость. Она подумала, что также оживлённы и радостны сейчас отец и брат. Как же, родство великое, и про князя Куракина сразу забыли. Чтобы проверить, спросила:
– А князь Куракин как же?
– С Борис-Иванычем батюшка уж и повинились и помирились, Да ведь тот и сам понимает, какое дело.
Наталья на мгновение замолчала, а потом, всплеснув руками, шёпотом вздохнула:
– Маша, ведь царицей будешь!
И от этого восторженного шёпота похолодело всё у Марии внутри, и комната начала медленно переворачиваться.
Вокруг её постели бегали и гремели посудой, щупали ей лоб и жилку на шее, поили горьким взваром, потом ушли. Пелагея вздыхала в углу. Раз послышался за дверью батюшкин голос. Кто-то сказал:
– Спит.
Мария не спала, лежала, вытянувшись на животе, глядя в темноту широко раскрытыми глазами. Спать совсем не хотелось, ничего не хотелось. В голове и мыслей никаких, только будто картинки ей кто-то показывал: Саша в голубом камзоле танцует внизу с черноглазой красоткой, Алексей скачет между заснеженными елями, Екатерина с ласковой улыбкой, царёвы удивлённые глаза, два лица – её и Сашино, в мерцающем от свечного огня зеркале. Невмоготу лежать – встала. Толстый ковёр приятно проминался под босыми ногами. Подошла к зеркалу. В темноте глаза казались чёрными. Глядя в эти глаза, спросила:
– Что делать? Что?
Упросить батюшку? Позвать Наталью и Василия на подмогу, разжалобить? Нет, никто из родных ей не то что помогать – и слушать не будет. Знала княжна, что выше всего для Голицыных честь, гонор боярский. А есть ли честь выше, чем в царскую семью войти? Что же, что же делать?
Так ничего и не придумав, села к окну, смотрела на проглядывавшие меж облаками звёзды. Здесь и застала её проснувшаяся утром Пелагея.
За завтраком есть ей совсем не хотелось, сумела проглотить только немного молока.
– Голова не болит ли, Маша? Что-то ты бледная нынче, пусть лекарь ещё раз посмотрит.
Борис Алексеевич глядел на неё внимательно почти всё время, как она вошла в столовую. Марии казалось, что он хочет сказать ей что-то. Она догадывалась – что, и боялась это услышать. Не досидев до конца завтрака, отпросилась в свою комнату и со страхом услышала от отца:
– Иди, приляг, я зайду к тебе после.
Зашедший вскорости Борис Алексеевич застал её у окна глядящей в белёсую петербургскую хмарь. Тихо подошёл, поцеловал, пощупал лоб – не горяч ли. Лоб был холодный, холодна была и рука дочери. Её бледность и вялость тревожили князя – дочка редко болела, но уж если случалась хворь, то оказывалась нешуточной. Сейчас же очень нужны были её здоровье и весёлость и всегдашняя бойкость.
– Иди-ка ляг, простынешь у окошка.
Сам отвёл, накрыл одеялом. Маша легла покорно, закрыла глаза.
– Болит что? Смотрел лекарь сегодня?
– Смотрел, ничего не болит, я здорова, батюшка.
– Ну ладно, полежи.
Князь Борис походил по комнате. Подошёл к зеркалу – на него остро глянули жёлтые глаза из-под нависших бровей. От крючковатого носа шли глубокие складки, под глазами набрякли мешки. Хорош, нечего сказать! Дочка не в него, в жену-покойницу. Вот уж красавица была! Характер, правда, у дочери его. Голицынский. Своевольной росла, но и понятливой, с цепким разумом и смелостью не девичьей. Нужны, нужны сейчас и понятливость её и смелость. Такое дело заварилось – или пан или пропал. Шутка ли, в царскую семью войти! Алексей-то хоть и нелюбим царём, все знают, что нет меж ними лада, но ведь наследник. Кому как не ему, Алексею, престол достанется. И моя Маша рядом… Помотал головой от нахлынувших ослепительных видений.
Только дело это непростое. Царь-то ведь уж хлопочет о браке цесаревича с принцессой Софией-Шарлоттой Бланкенбургской, внучкой герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского. Тьфу, язык сломаешь! Сестра её замужем за императором Карлом VI. Родство изрядное. Ох-ти! А государь Пётр Алексеич гневлив, чуть что не по его – может и тумаков накласть, а может и жизни лишить. Осторожно сию интригу вести надобно, с большой опаской.
Подошёл к дочери, погладил по золотистым волосам.
– Маша, я спросить тебя хочу. Я вот князя Куракина в мужья тебе назначал. Люб он тебе?
Она медленно подняла на него глаза, и князю Борису сделалось не по себе. Что-то непонятное было в её взоре, глаза казались огромными на осунувшемся лице и очень взрослыми, даже мудрыми.
Помолчала, потом медленно выговорила:
– Борис Иваныч разумен и обходителен. Что до замужества, батюшка, то я вашей воле покорна была.
Он не заметил этого «была» и вздохнул облегчённо.
– Так вот, Маша, за Куракина ты ныне нейдёшь. То наши дела с князь-Борисом, мы давеча переговорили, и обиды тут ни с какой стороны нету. Другой жених у тебя будет. И получше! И жду я, что ты во всём покорна моей воле будешь и не посрамишь рода Голицыных, а напротив – возвысишь его.
В возбуждении Борис Алексеевич вскочил, прошёлся, снова сел. Мария молчала, она была рада, что её ни о чём не спрашивают. Она не знала бы что ответить: и непокорство родительской воле недопустимо, и покориться в этом она не могла, никак не могла.
Борис Алексеевич снова погладил её голову, поцеловал лоб и руку.
– Ну, спи, сил набирайся. Вечером гости у нас, тебе выйти к ним надо.
И она заснула. На душе стало спокойно, будто она знала, что делать. А ведь не знала, совсем не знала. Уверена только была в том, чего хочет: Саша, только он.
После обеда отправились с Натальей и племянниками погулять. Марии интересно было смотреть на новую столицу. Дома строились каменные, с какими-то странными чешуйчатыми крышами. Наталья объясняла, это, мол, ещё одно нововведение царя Петра, черепица называется. Делают её из глины. Есть мастерские, где продают, а у кого денег не густо, сами лепят, дело нехитрое.
– И лучше, чем дёрн, воду держит. По здешней-то погоде – самое то. Правда, уж по крыше, как у нас привыкли, не походишь. Один решил сверху трубу поправить, послал человека – а он хрусь-хрусь по черепкам, и крышу перекрывать пришлось.
Наталья засмеялась.
Глядя на её ровные белые зубы, Мария вспомнила, что в ассамблее у некоторых дам во рту черно было. Спросила.
– Так это ж новая мода, не то от итальянцев, не то от французов – зубы чернить. Белые, дескать, зубы у арапов, да у обезьян. Вот глупость-то. И Васе моему не нравится.
– А Вася-то где? И утром его не было, и за обедом.
Александра тоже не было со вчерашнего вечера, но о нём Мария не спросила, поосторожничала.
– Послал государь и его и Сашу за провиантом для армии. Вроде опять война будет.
– С кем?
Наталья равнодушно пожала полными плечами.
– Да вроде с турком.
– Надолго уехали?
Наталья горестно вздохнула.
– Кто ж это знает? Обещал Вася поскорей обернуться. Скучаю я без него, Машенька, так, что и не выскажешь. Вот выйдешь замуж, сама узнаешь…
Взглянув на лицо Марии, она осеклась.
– Ты что, Маша?
Мария ответила не сразу. Наталья – добрая душа, но можно ли ей довериться? Посмотрела внимательно во встревоженные тёплые глаза и решилась.
– Наташа, ты царевича близко видела, говорила с ним когда?
– Ну, с глазу на глаз говорить не приходилось, а видать – видала и за столом напротив сиживала. Раз даже в пару в контрдансе с ним попала, когда фигуры со сменой кавалеров.
– А вот скажи, ты бы хотела, чтоб он мужем твоим был?
– Что ты такое говоришь, я же замужем!
Помолчала.
– А и впрямь, квёлый он какой-то, спина колесом и руки потные. А смотрит – ровно украл что, глазами зырк-зырк по сторонам, а голову не поворачивает.
Вздохнула.
– Вижу, Маша, не люб он тебе?
Мария не удержалась, закричала, подняв к лицу сжатые кулачки:
– Да как же он люб может быть! Сама сказала «квёлый». Ты поставь его рядом с Васей нашим или с кем другим… хоть с Сашей, – неожиданно для себя добавила она.
Наталья только ойкнула, не пытаясь остановить расходившуюся золовку.
– Вот вы с Васей в ладу живёте, друг другом любуетесь да радуетесь. Так и вчуже на вас глядеть радостно. Наташа, мне ведь тоже так хочется, чтоб как у вас с Васей… чтоб красивый был, сильный, чтоб обнял так, что сердце зашлось…
Из синих глаз брызнули слёзы. Дальше говорить она уже не могла.
Наталья молча обнимала её, гладила вздрагивающую спину, вытирала мокрые щёки, потом и сама заплакала.
Потом они отправили няню с детьми домой и долго ходили по берегу угрюмой Невы и говорили, говорили. Холодный ветер сёк мелкой крупкой, и они замёрзли, зашмыгали носами. Хотя носы-то, пожалуй, шмыгали более от слёз, чем от холода. Да и как не поплакать над подневольной женской долей! Впрочем, под конец разговора развеселились и даже согрелись, Наталья поклялась, что в беде Марию не оставит, и они решили кое-что предпринять…
Дома была суета – ждали гостей. Ах, батюшки, они и забыли! Разбежались одеваться.
К тому времени, как Мария была готова, гости уже собрались в гостиной. Подходя, она слышала голоса, выделялся уверенный голос светлейшего:
– …и ведь царевича мы этак к делам отцовым обернём, разлад в семействе царёвом государству боком выйти может…
Мария вошла, и все разом замолчали, обернулись на неё. Разглядывали, ровно лошадь на базаре. Она вскинула подбородок – что ж, пусть смотрят. Вышла на середину, покачала заученно пышной юбкой, присела, выгнув стройный стан.
Первым подошёл к ней не батюшка, а светлейший.
– Вот и красавица наша. Позвольте мне, Мария Борисовна, на правах старого знакомца…
Не выпуская её руки, повёл в обход гостей. Ей кланялись, целовали руки и откровенно разглядывали. Дам было всего две: Екатерина Алексеевна – её Меньшиков назвал «крёстная дочь царевича», и ещё толстая княгиня, Мария сразу забыла, как её зовут. Пошли к столу. Позади себя она расслышала, как высокий кавалер, с наглыми глазами и фамилией Ягужинский, сказал:
– У царевича губа не дура.
И в ответ ему хмыкнули сразу несколько голосов.
За столом разговоры были для Марии неважные: о стройке, о делах в армии, о новом патриархе. Раз только, когда зашла речь о свадьбе царевны Анны, племянницы Петра, с курляндским герцогом, на неё поглядели, как ей показалось, со значением. Но о ней и о царевиче – опять ничего. Она сидела, как струна перетянутая, готовая лопнуть.
Из-за стола встали, чтоб в кофейную комнату идти, и тут Борис Алексеевич сказал:
– Маша, ты ещё нездорова. Бледная и не ела совсем. Поди к себе, отдохни. Наташа, проводи её.
Вот тебе и на! А они-то с Натальей надеялись всё вызнать. Ясно же, что собрались сегодня, чтоб договориться, как дело повести, как царя склонить к этому браку. И очень надо было знать, как они это устроить хотят.
– Вот что, – зашептала Наталья в переходе. – Ты иди, я скажу, что отвела тебя, и ты спать будешь, а я вернусь. Иди, потом тебе всё перескажу.
Мария только успела дойти до своей комнаты, как её догнал быстрый стукоток каблучков.
– Не вышло. Отправил батюшка. Дескать, посидеть с тобой надо. Ясно, что опасаются, чтоб я тебе не передала. Как вошла, так и говорить перестали. Не пойму, какой им резон таиться. Без тебя всё равно им не обойтись.
– Думаю, не хотят, чтоб раньше времени разнеслось. И потом, на мои глаза, батюшка будто боится чего-то.
– Забоишься тут – против царской воли идти! Слышь-ка, возле кофейной – комната проходная, может там сейчас никого, пошли.
В соседней с кофейной комнате было пусто, они на носочках подошли к неплотно закрытой двери. В щель было видно мало и почти не слышно. Голоса звучали глухо, понять можно было только отдельные слова. Мария в отчаянии отошла от двери и увидела, что стена не доходит до самой рамы окна, а кончается у подоконника. Видно, окно это на две комнаты поделено.
– Наташа, глянь.
Окно было завешено плотной бархатной шторой, и нижний конец её был завёрнут на подоконник, чтоб меньше дуло через рамы.
– Ты иди к детям, если что – твоё дело сторона, тебя, мол, к детям позвали. А я по подоконнику пройду и с той стороны стану.
– Я с тобой.
– Нельзя тебе. Если меня застанут, сильно серчать не будут, без меня им не обойтись. Ты – дело другое. Или ты Васю рассердить хочешь, как вернётся?
– Ин ладно. Дай перекрещу.
Идти по подоконнику было неудобно – ноги путались в складках занавеси, и Мария шагала осторожно, стараясь не шевелить ткань. Нашла щёлочку и присела за ней. Голоса слышались отчётливо. Сейчас говорил Меньшиков.
– Катенька, да ведь любовь. Чай, ты знаешь, что это такое.
Екатерина умильно вздохнула.
– О, любовь, это очень, очень сильное чувство. О, да!
– Ну вот и надо Петра Лексеича уговорить, чтоб он не делал несчастным сына единственного. Не столь уж и нужен России союз с этими бланкенбургцами, даже напротив – с Пруссией через этот брак поссориться можем.
– Я согласна, Александр Данилович. Взять в жёны девушку по своему сердцу и одной с собой веры – это составит счастие молодого человека. А я всем сердцем желаю ему счастья. Но у меня нет большого влияния на Петра Алексеевича.
– Ну-у, матушка, если уж у тебя нет влияния… Не скромничай!
Все лица были повёрнуты к ней и согласно кивали. Старый, важного вида вельможа, кажется, Мусин-Пушкин, важно проговорил, подняв палец:
– И заметьте, сей брак мог бы весьма способствовать смягчению разногласий среди дворянства. В случае же восшествия в будущем на престол иноземки и иноверки сии разногласия могут значительно усугубиться.
И ещё, и ещё говорили, и все соглашались, что женитьба Алексея Петровича на княжне Голицыной – дело благое для отечества со всех сторон. Да и счастье наследника – соображение не последнее, благодаря ему оставит он свои низкие пристрастия.
– А до моего счастья, значит, никому дела нет, – думала Мария, – Ну хоть бы кто-нибудь спросил, есть ли у меня к нему склонность. Нет, никто. Уж план составляют, как к Петру Алексеевичу с таким разговором подступить.
Забывшись, она резко переступила, так что занавес заколыхался. В ужасе отпрянула и прижалась к оконному переплёту. Кто-то сказал:
– Что это, сквозняк какой? Никак окно открыто?
Мария поспешно скользнула за перегородку. И вовремя. Занавес отдёрнули, и послышался батюшкин голос:
– Нет, ничего. Ветер в окна, вот и продувает сквозь рамы.
Мария, едва переводя дух от испуга, сползла с подоконника на руки Наталье.
Разъезжались гости поздно, далеко за полночь. Наталья давно спала, а к Марии сон не шёл. Она смотрела из окна на зевающих лакеев с факелами, трогающиеся кареты.
Батюшкина дородная фигура казалась мелкой рядом со светлейшим князем Меньшиковым. Вот они оба подсадили в карету Екатерину, захлопнули за ней дверцу. Потом и светлейший укатил. Батюшка зашёл в дом. У Марии сдавило горло от жалости к себе. Неужели батюшка не поймёт, что счастье дороже короны, дороже царства? Ведь он любит её, конечно любит. Она подхватилась и побежала через комнаты к лестнице, навстречу отцу.
Тот поднимался в расстёгнутом камзоле, краснолицый, улыбающийся, пахнущий вином и духами.
– Что это ты, Маша, не спишь? Поздно уж.
Она бросилась ему на грудь и дала волю слезам.
– Господи, Маша! Пойдём-ка в постель.
– Постойте, батюшка, послушайте, я сказать вам хочу.
– Да ты не в себе.
– Нет. Сейчас. Я уже…
Она поспешно вытерла лицо, заплаканные глаза смотрели умоляюще.
– Ну ладно. Давай хоть сядем. А может, до завтра разговор твой подождёт?
– Прошу вас, я не задержу.
Она подвела его к глубокому креслу, а сама опустилась на круглую скамеечку у его ног. Посмотрела снизу вверх. Лицо отца было ласковым, с доброй улыбкой. Она взяла его сухую руку с длинными пальцами в перстнях, стала целовать. Он второй рукой гладил её по голове, провёл по щеке, поднял за круглый подбородок.
– Ну полно, Маша, говори, что у тебя.
Ей стало легко от его ласковой улыбки.
– Батюшка, не велите идти за Алексея, не люб он мне.
– Что-о-о?!
Его лицо мгновение было растерянным, но только мгновение. Тотчас углы губ поджались, глаза стали острыми и холодными.
Мария, боясь, что он сейчас зайдётся в гневе, поспешно проговорила:
– Неужто для вас счастье моё ничего не значит? Не с короной ведь жить, с человеком.
Князь Голицын аж задохнулся, услышав это. Вскочил, пробежал по комнате, резко повернулся.
– Ду-у-ра!!
Крутнулся на каблуках, сел в кресло и наклонился к ней.
– Ты же дочь моя, моя кровь! Как же не понимать можешь? Ведь держава! Держава! А ты как последняя баба: «счастье… с человеком…»
Он снова походил по комнате и повернулся к ней уже спокойно.
– Ступай, княжна, спать, и чтоб больше я от тебя такого вздора не слышал. Я твой родитель и в руке твоей властен.
Увидел, как она набрала воздуху, чтобы сказать, резко перебил:
– Ступай.
Наутро Борис Алексеевич ничего ей не поминал, поцеловал как всегда в висок, спросил, что они с Натальей нынче делать будут, и уехал.
А они нынче в гости собирались, и в важные гости. Дочери царицы Прасковьи звали кофий пить, да поглядеть разные товары иноземные, что к ним во дворец купчишки принесут. На такой случай батюшка изрядную толику денег им оставил, не поскупился. Да сказал, чтоб подобротней товар приглядели, не только дамские свои штуки, но и посуду, и для постели, и ещё что домашнее. Если понравится что подороже, чтоб отложили, он, дескать, к тому купцу сам заедет.
Мария тоскливо подумала:
– Приданое.
Когда приехали, в зале дворца уже были разложены на столах и в коробах распахнутых штуки шёлка, бархата и полотна, мотки тесьмы да кружева, шкатулки с жемчугом и каменьями, а пахло, как на майском лугу в полдень – видно, духи пробовали.
Обе царевны то и дело подбегали к сидевшей в креслице царице Прасковье.
– Маменька, вот на парчу гляньте, маменька, вот бирюза персидская.
Царевен, Катерину и Прасковью, Мария уже встречала, а царицу видела впервые. Была она полной, белолицей, в тёмном платье, как по вдовству положено. Подошли с Натальей, поклонились. Она им покивала приветливо.
– Здравствуйте, девоньки. Посмотрите, сколь всего навезли, может, выберете что.
Царевны подхватили их, начали показывать жемчужные поднизи и ушные подвески, шёлковые прозрачные чулки, бусы яхонтовые, первейшей моды обручочки, чтобы на руку их, на запястье надевать, с вделанными в них разноцветными камешками-глазками. А ещё тут были туфли, вытканные бисером на носках, до того легки, что в них по воздуху только ступать. А ещё – мотки с широкими и узкими кружевами, будто не люди, а пауки их плели – до того тонки, с пропущенной по узорам серебряной паутинкой. А ещё – ларец, бисером мелким изукрашенный, с замочком да ключиком на золотой цепочке, с музыкальным звоном при открывании крышки. А ещё… Дух захватывало, и губы сохли – до того всё было баское и приглядное.
Много всякого добра отобрали Наталья с Марией. Взяли и полотна голландского для постелей, и батисту с прошвами на белье, тесьмы, конечно, да кружев разных, отрезы парчи, бархату, алтабасу на туалеты. Ой, да много всего взяли – враз и не перескажешь, и для себя, и для домашних, детей, конечно, не забыли. И пуще всего Марии совсем малая покупка была приятна – коробочка атласная с атласным же нутром, а в неё вложена пузатенькая скляночка с нарисованным на ней короткокрылым толстеньким, задравшим голую ножку амуром. Духи в той скляночке, и запах до того сладостный… Все-то покупки в короб сложили, а коробочку с духами Мария при себе оставила.
Столь много они набрали, что даже и царевен гораздо больше получилось. Те царице завистливо шептали:
– Маменька, а мы-то… А нам бы тоже…
Мать на них цыкнула:
– Полно балабонить, будет и ваше время, и вам приданое соберём.
У царевен запрыгали глаза.
– Приданое? А за кого княжна идёт? Сговор был уже? А когда девичник?
Мария не знала, что сказать, куда девать глаза. Наталья тоже растерялась. Царица поглядела на них внимательно и враз остановила разлюбопытившихся дочерей:
– Довольно, к столу пора. Пускай тут сложат всё, а у меня уж в животе бурчит – завтракали рано нынче.
Стол был хоть и постным – пятница – но обильным. Наталье более всего лещи в сметане пареные по вкусу пришлись. Их очень сама царица Прасковья любила, и её повар так навострился тех лещей делать – прямо во рту таяли. Марию же прельстила морошка – первый раз её ела. У них в доме всякой ягоды было вдоволь на зиму наготовлено, но такой ни разу девки из лесу не носили. Царица объяснила: местная, северная, в Москве такой не видали. Ну а царевны на всё подряд налегали, любили покушать.
После трапезы царица пошла прилечь и Марию с собой поманила – расскажешь, дескать, про Москву, как она там. Царевны заныли – в жмурки затеяли играть. Но царица обещала Марию не задерживать – скоро, мол, придёт, наиграетесь.
А разговор у них в царицыной спальне не о Москве пошёл.
– Что-то ты, девица, смурная. Неужто жених не по сердцу? – сразу взяла быка за рога царица, едва только Мария уселась в креслице у изголовья её кровати.
Мария никак не ожидала вопроса об этом предмете и в растерянности протянула:
– Сие честь великая и мне и семейству нашему. Только вот государь ещё не знает…
Прасковья пристально посмотрела в её склонённое лицо.
– Государь ваш брак одобрил, тут заминки нет.
Мария вскочила.
– Как одобрил, когда? Он же на герцогине хотел?
– Та-ак!
Царица медленно поднялась и села в кровати.
– Я о князе Борисе речь веду, а ты о ком же?
Мария совсем растерялась.
– Ну-ка сядь, да скажи толком.
Она потянула княжну за руку. Та послушно села, но слова с языка не шли – в голове всё мешалось. Выходит, царица ничего не знала, а она выболтала. Ой-ой-ой!
– Ну же, Маша, – понужала её царица, – Али ты боишься чего? Я ведь тебе не враг. Сказывай-ка, милая, всё как есть, может, я и пособлю чем.
Мария вздохнула и неуверенно взглянула в близкие глаза. Как быть? Очень была нужна ей сейчас помощь. Но как же батюшка? Государь гневлив.
Прасковья помогла.
– Об Алексее речь, верно?
Мария судорожно вздохнула и кивнула, не поднимая глаз.
– Ну что ж, честь большая. Ты, небось, рада?
Навстречу царице полыхнули глаза, взметнулись брови, полудетский рот сжался в горестную гримасу.
– Рада?! Чему тут радоваться?!
Прасковья обняла вздрагивающие плечи, притянула к себе. Худенькая какая, дитё совсем. Вспомнилась своя молодость, мутноглазый мокрогубый царь Иоанн. Да, сладости от такого мужа ей не было, только что почёт – царица. Сладость она уж потом узнала – украдкой да с оглядкой. А эта, вишь, голицынское семя, высоко голову держать хочет.
Она взяла княжну за плечи, отстранила маленько – заглянуть в лицо.
– Чай, зазноба у тебя есть?
Мария кивнула, не поднимая глаз. Господи, она же насквозь всё видит!
– Честный молодец?
Снова короткий кивок в ответ.
– Ну вот что, Маша, помогу тебе узелок этот распутать.
Мария робко посмотрела на неё. И надежда во взгляде и опаска.
– А как тут?.. Ведь и Александр Данилыч за это, да и Екатерина Алексеевна…
– Ну, Меньшиков, конечно, в силе, да не он один. А Катерина-то…, как потом будет, не знаю, а пока своей воли не имеет – ровно лист на ветру полощется. Только ты вот что, сказывай-ка по порядку всё, как было.
И Мария рассказала. Даже подробнее, чем Наталье. Вернее, царица о других подробностях спрашивала. Наташе ведь интересно, какой убор на ней был, да как Алексей смотрел и брал ли за руку. Царица же перебивала вопросами: как звали подручных царевича, что тот говорил о государевых проектах, не поминал ли о сношениях со шведами.
Внимательно слушала царица Прасковья, а дослушав до конца, взяла в руки колоколец и велела выезд закладывать. Заохала, поднимая с постели обширные телеса, охала и приговаривала:
– Счас мы с тобой, Марьюшка, к Наталье Алексевне съездим, такое дело заминки не любит. А то, вишь, отец-то твой больно шустёр, не обскакал бы.
– К Наталье Алексеевне?
– Ну, к сестре царёвой. Она ему первая советчица, куда там Меньшикову.
– А… как же тут?..
– Что такое? Хм-м, а верно ведь, подозрительно будет, что мы так сразу поскачем. Не дошло бы до князь-Бориса с Меньшиковым. Пошлю-ка я, пожалуй, нарочного к царевне. Садись-ка, Марья, за письмо. Вон на столике припас письменный.
Мария послушно села, взяла лист бумаги, спросила:
– Титул какой писать?
– Да какой титул между своими! Просто: вселюбезнейшая, мол, Наталья Алексевна, почто забыла меня бедную, не изволишь ли нынче к обеду пожаловать? Ну и закончи там, как положено. А в конце-то и припиши, что, мол, разговор преважнейший есть и безотложный.
– Уж готово? Скора ты писать. Изрядно вывела, прямо приказный, а не княжна.
Письмо было тотчас отдано гонцу. Марии дождаться царевны Натальи не пришлось – из дому за ними прислали. Царица отправила было посланного назад – дескать, у меня остаются обедать. Но Борис Алексеевич и вдругорядь прислал человека – немедля домой. Поехали, и дорогой Наталья прямо извелась от любопытства, что такое дома стряслось.
А дома оказалось, что ничего не стряслось, просто гость к обеду. Но вот гость не простой – царевич.
Батюшка самолично их с Натальей на крыльце встретил и о том известил. Да на Марию глянул строго-престрого – у неё лишь глаза тоской налились, ничего не сказала, молча одеваться пошла.
В её комнате уж хлопотали над новым туалетом две чужие девки. Пелагею и не подпускали, она только умыванье для княжны приготовила. Туалет и вправду был дивный: на розовом атласном чехле волны белых кружев, и лиф также весь кружевами покрыт, а рукава кружевные пышные без чехла, в них руки как в облаке едва просвечивают. На шею ей жемчужные бусы одели из вновь купленного – кстати пришлись, на лоб – поднизь из мелкого жемчуга. Потом все трое, с Пелагеей вместе, встали вкруг неё и ну ахать да нахваливать, будто ничего краше и в жизни не видали.
Тут как раз в дверь стукнули – пора, мол, идти. А то уж у Марии слово резкое на языке было. Хорошо, что не сказала, не обидела. Чем они-то, подневольные люди, виноваты?
Ох и тяжек этот обед ей показался – ровно помои есть заставляли! Царевич напротив сидел, глаза мутные, губы мокрые, руки всё время то хлеб щипали, то скатерть мяли. Ей и смотреть-то на него не хотелось, так и просидела, глаз не поднимая, и, что говорили вокруг, почти не слышала. Мечтала, как после, в комнате своей даст себе волю – в клочья все кружева с платья раздерёт, наплевать, что больших денег стоят, и Алексею так же все волосёнки его жидкие повыдерет, если он подойти к ней близко посмеет…
Как только встали из-за стола и пошли в кофейную, Мария хотела было уйти потихоньку, но отец с неё глаз не спускал.
– Куда, Маша?
– Я, батюшка, кофею не хочу, к себе пойду.
– Что ещё выдумала?
Глаза сердитые сделались, брови сдвинул, притянул к себе за руку и прошипел в самое ухо:
– Марья, не прекословь. Дочь ты мне или нет? Прокляну, коль перечить станешь.
Потом отошёл от неё и как ни в чём не бывало с лёгкой улыбкой проговорил:
– Алексей Петрович, вы давеча о немецких гравюрах спрашивали? Они в кабинете, княжна вам покажет, кофий вам туда принесут.
Шёл по переходам важный лакей, за ним княжна Голицына, неуступчиво задрав подбородок, следом тащился Алексей. Мария слышала за плечом его сдавленное дыхание и злорадствовала – видно, робел вровень с ней идти. Душили её злоба и обида, и стыдно было до невозможности – как ухмылялись некоторые гости, отводя от неё глаза.
В кабинете никаких гравюр показывать она не стала и не подумала даже, и не собиралась – ещё чего! Молча ждала, пока лакей приборы расставит и уйдёт, мерила ногами узорчатый паркет и толстый ковёр, выгибала сплетённые пальцы. Вот лакей ушёл, а она всё так же ходила взад-вперёд, молчала. Царевич стоял недалеко от входа, тоже молчал, изредка взглядывал на неё и отводил глаза. Наконец, Мария остановилась и прямо в лицо ему:
– Ну, Алексей Петрович, довольны? Не мытьём, так катаньем?
Царевич подался к ней всем телом, при этом ногами не переступил.
– Да я ж, Мария Борисовна, я всем сердцем…
– Каким сердцем! Сердце-то есть ли у вас? Положением своим царским взять хотите, думаете, коли батюшке голову закружили, так и всё уж, готово дело? Ну нет, ваше царское высочество! Не на такую напали! Вы меня ещё не знаете, я… я на всё могу решиться. Лучше откажитесь от меня, Алексей Петрович, пока не поздно, сами откажитесь.
И ещё много чего Мария говорила, слова вылетали быстрые, яростные, лицо горело. А на царевича будто столбняк напал – смотрел на неё словно на диво какое, только губами беззвучно шевелил. Смотрел, смотрел, да вдруг – бух! – на колени, руку её схватил и к губам потянул, а по щекам – надо же! – слёзы потекли.
У Марии от неожиданности и слова все кончились. Ей бы руку поскорее от царевичевых губ выдернуть, а она, от слёз его разжалобясь, и вторую руку к нему протянула, по голове погладила. После уж вспомнила, что в это время переполох за дверьми слышен был: шаги торопливые и заполошный бабий говорок:
– Нельзя, Александр Борисыч, не велено сюды…
Но не остановили эти слова Александра Борисовича, Сашу, ладу её ненаглядного. Распахнул он двери, и ровно с гравюры немецкой предстала перед ним дева в белом наряде непорочности жемчугами изукрашенная, и перед нею на коленях кавалер, видать, в чувствах своих признающийся. И по всему ясно, что чувства эти взаимны, поскольку она ему руку для лобзанья протянула, а другою рукой по волосам его гладит. А в деве той узнал, конечно, князь Черкасский красу свою ненаглядную, солнышко своё ясное, о которой три года он думал-мечтал в чужедальней сторонке.
Ничего не сказал молодой князюшка. Шевельнул широким плечом, повёл чёрным глазом и вышел молча. И дверь за собой прикрыл. Горше всего Марии эта дверь прикрытая показалась. Лучше б он той дверью хлопнул или закричал, или ещё что…
Руку у царевича выдернула, из кабинета выскочила – и к себе в комнату, теперь уж и грозный батюшка ей страшен не был.
Пелагея сидела у окна – поближе к свету – пришивала кружевную тесьму к подолу сорочки. Подняла голову в повойнике, улыбнулась безмятежно. Как-то странно было видеть спокойное лицо после сегодняшней круговерти. Мария подбежала к ней, осторожно вынула из её рук шитьё и забралась к мамушке на колени, обняла за шею, уткнулась в мягкое плечо. Пахло от кормилицы тем же домашним и уютным, будто и не приезжали они в этот проклятый Петербург, и стоит открыть глаза – увидишь разноцветные московские окошки и няню Ирину с ковшом ягодного квасу…
– Что ты, доча? Покачать тебя? Маленькой ты любила у меня на коленках-то посидеть и Фёдора не пускала – кричала: «моя мамушка, не замай».
Слышно было по голосу, что Пелагея улыбается, её рука ласково гладила свернувшуюся клубочком Марию.
– Там-то кончилось? Или ты раньше ушла?
Мария вздохнула, возвращаясь к сегодняшнему, встала. Ох, и зачем она сюда приехала!
– Пелагеюшка, сходи голубушка, поищи Наталью Павловну, а как найдёшь, попроси сюда придти. Если она с гостями, пусть лакей её потихоньку вызовет.
– Ну сейчас, схожу. Да ты что заполошилась? Стряслось что?
– Поторопись, голубушка.
Наташа пришла быстро. Глаза у неё были, как чайные блюдечки, и встревожены так, что Мария заранее испугалась.
– Ой, девонька! Ну и обернулось всё! Что теперь будет?!
– Да говори же скорей.
– Василий с Александром вернулись. А с ними… государь!
У Марии, видать, беспокойства на лице не отразилось. И Наталья, прибавив тревожности в лице и в голосе, сказала:
– Всё открылось!
Мария опять осталась спокойной.
– Ну всё, понимаешь? Что царевич руки твоей просил, и что батюшка князю Борису отказал, а царевичу обещал, что венчанье, не спросясь царя, готовить начали.
Мария села и облегчённо вздохнула. Всё, кончился морок этот, наваждение бесовское. Свободна! Ох, как хорошо!
– Да ты что улыбаешься? Государь знаешь, как разошёлся! Даже на Васю моего кричит. Александр пропал куда-то, не могут найти – хоть бы он царя успокоил.
Её прервал громкий голос царя и его размашистые тяжёлые шаги.
– Ой, сюда идут, мамочки!
Дверь распахнулась от сильного удара и стукнулась о простенок. Первым в неё шагнул Пётр, сзади, толкаясь, грудились остальные.
– Ага, вот она, улыбается. Что, довольна? Завидного жениха подцепила! И уж наряд белый надела. Торопишься?
Мария молчала, лихорадочно прикидывая, как ответить, чтобы смягчить гнев Петра – ведь наказать он мог нешуточно. Хорошо, если ссылка, а может и казнить отца и брата как изменников.
– Что молчишь, глаза синие вылупила? Думаешь, рожей вышла, так всё тебе простится?
Мария присела в поклоне, незаметно крестообразно пошевелила щепотью и, набрав воздуху, сказала по-немецки:
– Герр Питер, пусть вам говорят, что угодно, но ни семья моя, ни я сама никогда не предприняли бы ничего без вашего соизволения.
У Петра округлился и без того маленький рот. Он засмеялся глазами и с любопытством оглядел её.
– Отколь по-немецки изъясняться умеешь?
– Немку из Слободы батюшка держал.
– А по-французски можешь?
Она ему по-французски ответила:
– Французскому языку нас с братом математик мсье Жюль учил.
У Петра заблестели глаза. Он оглянулся на стоявших сзади и раскатисто захохотал.
– Ай да князь Борис! Не токмо сынов – девку и ту выучил! Ну, а ещё что знаешь, девица многомудрая?
Мария, минутно поколебавшись – не переборщить бы – всё же решилась:
– Лекарское дело, государь, от мейнхеера Кольпа, – это она по-голландски сказала.
Царь даже поперхнулся.
– Ну-у! Так тебе не замуж, тебе на государеву службу надо.
Обернулся назад:
– А, Борис Алексеич?
Борис Алексеевич с посветлевшим лицом – пронесло, кажись – кланялся.
– Порода такая, до ученья жадная, государь. В девке вот и то проявилась.
– Хм, ну ладно, пойдём в кабинет к тебе, поговорим. Да скажи водки подать и яблок мочёных.
Царь последний раз усмехнулся Марии и пошагал прочь на длинных ногах. Все за ним. Меньшиков задержался, быстро сказал:
– Умна, княжна!
И батюшка кивнул ей ласково.
Закрылась дверь за толпой, а у Марии будто вся сила из тела враз ушла – как стояла, так и села прямо на пол.
Прибежавшая вскоре Наталья рассказала, что государь хоть и сердит, и пеняет батюшке за самовольство, но гроза минула.
– А Меньшиков-то каков! Нет, ты вообрази, в главных заводилах был, а теперь представляется, что не знал ничего. Ну и гусь!
Наталья чуть вздохнула.
– Не бывать тебе, Маша, царицей. А ты что не весела? Али уж милым жених этот стал?
– Что ты, что ты, «милым», скажешь тоже. Ты Сашу не видала ли?
– Он с Васей вместе взошёл, а потом пропал куда-то. Придёт, куда ему деваться.
Мария вздохнула и бессильно уронила руки. Попросила:
– Распусти мне шнуровку. Снять всё это надо. Смурно мне на душе, Наташа, на волю хочется. Давай кататься поедем?
– Кататься? Так ведь темно уже, спать надо, а не кататься. А вот завтра к Воробьёвым звали. Не ассамблея, а так, вроде гадать собираются. Ой, ты прямо на ногах еле держишься. Знамо, такое сегодня вынесла. А ты смелая – с царём-то как говорила. У меня бы от испугу и язык бы во рту не пошевелился. Пойду, Пелагею кликну, пусть уложит тебя.
Утром Саши за столом не было. Хотя, может, и не из-за неё, подумалось Марии, отца и Василия тоже не было. Говорили, войны с турком не миновать, так дел армейских много. Наталья всё утро об этой войне говорила, заранее горевала об отъезде мужа.
Весь день бродила Мария по дому как неприкаянная, выглядывая с лестницы на каждого вошедшего – Саши не было. После обеда приехал Василий, сказал, что вновь отправляет их государь по делам снабжения армии. Александр сразу поехал, а его, Василия, отпустили на часок – с женой проститься. Повздыхала Мария, а сказать и нечего. Не с кем, видать, Саше прощаться после вчерашнего. А она-то всю ночь планы строила, как им к отцу с разговором этим подступиться. И так тяжело ей стало, будто больна. Ни в какие гости ехать не хотелось.
Но всё же поехали. Да и почему бы не поехать? Всё равно ждать теперь нечего – Вася прощался, так сказал, что надолго, государь, дескать, в Москву вскорости собирается, так с донесением он уж туда поедет, а обратно неизвестно когда. Ну а раз он не скоро, так и Саша не скоро.
В возке и Мария, и Наталья сидели пригорюнившись и почти всю дорогу молчали. Наконец Наталья, хлюпнув носом, жалостно проговорила:
– И что им дома не сидится! Шведа воевали-воевали, вроде сладили. Так теперь с турком надо. Нешто земли в России мало?
У Марии тоже нос хлюпал, и потому голос получился какой-то мокрый.
– Значит, мало им. Дело у них такое мущинское – война.
– Ну да, дело у них – убивать друг друга. Мы, значит, рожать будем, а они в землю класть, чтоб тесно на земле не было!
Наталья вздохнула и перекрестилась.
– Одна надёжа, что Вася при государе будет, так, наверно, не под самой пальбой.
Увидев, что золовка от её слов ещё пуще полила слёзы, обняла её.
– Ну ладно, будет сырость-то разводить. И Саша ведь не солдатом идёт. Бог даст, все вернутся! Вот мы тогда и свадьбу тебе… Ох, и свадьбу тебе сыграем, на всю землю слыхать будет! Да что ты, Маша? Что ты совсем разнюнилась? Вернётся он.
Мария вытерла лицо и горько поджала губы.
– Вернётся, не вернётся, а я уж ему не мила.
– Да полно-ка болтать!
– Ты не знаешь. Когда мы с Алексеем в кабинете были… Ну, отец отослал нас, помнишь?
Наталья торопливо кивнула.
– Ну так Саша туда сразу вошёл, как приехали они с царём. А там… Алексей на коленях передо мной стоял и руки мои целовал. И тут как раз Саша входит… И не молвил ничего. Глянул на меня вот этак и вышел. И дверь за собой прикрыл.
Тут у Марии слёзы совсем уж ручьём хлынули, и она еле смогла выговорить:
– Знаешь, какой он гордый? Ни за что теперь на меня не посмотрит. И из сердца, поди, уж выкинул. Может, и женится на ком-нибудь. На какой-нибудь… Цициановой.
Наталья тихо качала на круглом плече рыдающую Марию, гладила её по голове. На лице её расцветала растроганная улыбка.
– Ты чего? Ты смеёшься? Весело тебе?
Наталья крепче обняла её и поцеловала в мокрую щёку.
– Пора-то у тебя какая хорошая, Марьюшка. Любит тебя твой Саша, не сомневайся. Всё уладится, и счастья у тебя будет полная охапка. Вот приедет, мы ему всё расскажем.
– Как рассказать? Мне и не подойти к нему теперь.
– Ну, я расскажу. Не тревожься. Это горе – ещё не горе. И ни о какой другой он не думает, не тревожься. Ой, Маша, мы уж подъезжаем! А лики-то у нас со слёз такие, что только людей пугать. Давай-ка проветримся сперва.
Она выглянула в дверцу, крикнула вознице:
– Повороти сейчас. Проедешь до заставы и обратно.
У заставы было забавно. Толпа мужиков стояла в очередь перед солдатом-цирюльником. Тот в большом переднике споро орудовал овечьими ножницами – кромсал мужиковы бороды. У ног его, словно очёсы пеньки, были накиданы разномастные волоса. Подходили к солдату мужики понуро, нехотя, а отходя, щупали руками голое, босое лицо своё и втихомолку отплёвывались. А громко не выругаешься – царёв указ с бородами в Петербург не пускать…
Посмотрели подружки, как мужичьи лица из кудлатых да сивых молодыми становятся, посмеялись. Вот и слёзы просохли, можно теперь до гостей ехать.
У Воробьёвых уж полно народу было, но только девицы да дамы – девичник. Ни царя, ни кавалеров его не ждали, и потому кто постарше – в русском платье явились. Оно и пристойней и свободней. Царица Прасковья с царевнами тоже были. Сразу Марии кивнула, подозвала.
– Ну, как дела, княжна, всё ли ладно?
Мария догадалась поблагодарить – есть ли тут царицына рука, нет ли, а «спасибо» дела не испортит. Прасковья разулыбалась, довольная, и хитренько заотнекивалась:
– То не я, то царевна Наталья тебе пособила, ей при случае поклонись. Она, может, и сегодня сюда заедет. Точно, правда, не обещалась… Ну, поди, Маша, вон там, в горнице дела ваши девичьи затеваются.
Все девицы и впрямь устремились из залы, Мария пошла за всеми. В комнате с малым числом свечей приготовлено было всё для гаданья: чашки с водой, круги воску в ковшиках, лучины, гребни, блюдо серебряное с платком. Занятно, подумалось Марии. Время, конечно, для гаданья подходящее – крещенский сочельник, однако нынче на все старые обычаи запрет наложен. А что ж об этом неугомонный Пётр Алексеевич не побеспокоился? Спросила потихоньку севшую рядом девицу – та неопределённо пожала плечами, не знаю, дескать.
Решили сначала на блюде гадать. Кликнули девок песенниц, склали на блюдо по кольцу с каждой девицы, блюдо платком накрыли. Под песню начали вынимать кольца и отдавать хозяйкам – каждая гадала, как пришедшиеся её кольцу слова истолковать можно. В это время Марию дёрнули за подол, глянула – карлица ручкой манит, в залу зовёт.
В зале дамы постарше – матери да тётки – картами занимались. И Наталья тут была, бегло улыбнулась Марии и шепнула:
– Царевна кличет. Благодари её да лишнего не говори.
Пока Мария прикидывала, что же это такое лишнее, чего говорить нельзя, ноги уже внесли её в малую горенку, где сидели царица Прасковья и темноволосая женщина с выпуклыми глазами царя Петра. Больше в её лице ничего царя не напоминало, но глаза – просто вылитые. По ним Мария любимую его сестру враз опознала и низко-низко ей поклонилась. Та встала, сделала навстречу шага два.
– Ну, здравствуй, княжна, вот ты какая.
Мария молчала, опустив глаза.
– Не люб тебе, значит, мой племянник? Нос от царского рода воротишь?
У Марии напряглись крылья носа.
– Наталья Алексеевна, я ни нос, ни что другое не ворочу, а превыше всего ставлю государеву и батюшкину волю.
– Ну-ну. Вижу, правду о тебе говорили, что Богом тебе не токмо красоты, а и ума изрядно дадено. Годишься!
Повернулась к сидящей у стола Прасковье.
– Что, Прасковья Фёдоровна, годится нам сия юница?
Та степенно покивала. Наталья Алексеевна приобняла опешившую и удивлённую Марию, посадила рядом с собой на лежанку у изразцовой печки.
– Боярышень ко двору берём несколько. При всех иноземных дворах фрейлины есть, вот и у нас будут. Так что скажи отцу, в Москву с моим поездом поедешь. Ну да я с ним и сама поговорю. То честь большая, чуешь ли? Многие на твоём месте быть хотели.
В это время из залы донёсся визг, потом хохот, и в комнату вскочила царевна Катерина, еле выговаривая сквозь смех:
– Маменька, тётенька, там ряженые приехали! Ой, Маша, ты здесь, вот кольцо твоё, возьми, на «рябину» вынулось. Не иначе, как под рябиной суженого встретишь. А мне-то, гляньте, какой воск чудный вылился – ровно замок какой-то, а с этой стороны – корона. Не иначе, мне тоже, как сестрице Анне, за герцогом быть. А может за королём, а, маменька?
Так тараторила кругленькая косоглазенькая хохотушка Катерина и тянула мать и тётку в залу, где и вправду уже плясали ряженые. Прыгали и кривлялись нарисованные на холсте и бересте личины с прорезями для глаз, развевались вывороченные тулупы и рогожные накидки, однако ж из-под рогожи торчали башмаки с пряжками и сапоги тонкой кожи. Понятно, простого звания ряженых в такой дом не допустят.
В дверях показался слуга с большим подносом, уставленным серебряными чарками и блюдами с закусью, и хозяйка принялась потчевать нежданных гостей. Один из них, в мочальной бороде, с чаркой в руке подошёл к Марии.
– Пригуби, красавица, чтоб слаще пилось.
Что ж, ряженым в такой малости не отказывают. Мария коснулась губами серебряного края.
– Эх, сладко как!
Белая рука в перстнях обтёрла торчащие из-под мочала усы и яркие губы.
– Ну, а теперь по обычаю поцелуем угости.
Не ожидая ответа, он склонился к её лицу.
– Э, нет, это ты у хозяйки спрашивай, а я здесь гостья.
Она резво отскочила. Но настырный козлобородец не отставал и ей пришлось бегать от него по зале. Козлобородому заступали дорогу, ставили подножки, вокруг раздавался смех. Увидав эту погоню, царевна Катерина весело всплеснула руками.
– Пятнашки! Будем в пятнашки играть! Или нет, лучше в жмурки. Ты первый водишь.
И она, оглянувшись, подхватила со стола рушник, приступила к козлобородому, чтоб завязать глаза.
– Постой, царевна. Успеешь, завяжешь, да чур, уговор, играть по-святочному будем.
– Это как же?
– Али не знаешь? Кто кого ловит, тот того целует.
Катерина захохотала и с удовольствием согласилась:
– Годится.
В жмурки захотели играть все. Старшие, чтоб не зашибли их, расселись по стенам и тоже от души смеялись, глядя, как ряженые ловят визжащих девиц и крепко целуют их, невзирая на сопротивление, а потом, завязав попавшейся деве глаза, наперебой стараются попасться под руку водящей.
Домой вернулись поздно и на другой день поздно встали, уж при свете. Отец уже знал, что Марию ко двору берут, был доволен – пронесло, царский гнев отошёл. Выезд в Москву был назначен на другой день, и с утра начались хлопоты сборов в дорогу. Пелагея с ног сбилась – слыханное ли дело, за один день собраться! Укладывала сундук да приговаривала, что, мол, стоило ли сюда ехать, чтоб, почитай, сразу в Москву возвращаться.
Марии и хотелось опять в Москву, и грустно уезжать было: вроде и привыкла уж тут. Да и Наташу оставлять жалко, так сроднились они за эти дни, будто год вместе прожили.
– Ничего, – утешала её невестка, – Вот армия против турка пойдёт, царевна и обратно вернётся, и ты, конечно, с ней. Да, Вася говорил, что донесение-то он в Москву повезёт, ты поцелуй его за меня, скажи «жду». А там, – Наталья хитро улыбнулась, – и Сашу, может, возле государя встретишь, вот и помиритесь.
Мария вздохнула. Саша. Все эти дни она будто и не думала о нём, он просто всегда был с ней, в её мыслях и в душе.
Выехали рано, в каретах додрёмывали, при свете остановку на завтрак сделали, а после завтрака Марию и остальных фрейлин в карету к царевне Наталье Алексеевне пересадили. Было их всего трое: кроме Марии ещё Варвара Свиньина и Нина Цицианова – та, что с Сашей так ловко танцевала. Принялась их царевна сразу наставлять о правилах придворного поведения, и от себя говорила, и читала по тетради, посланником Василием Долгоруким писанной. Читала Наталья Алексеевна внятно, не торопясь, изредка поднимая глаза и поясняя малопонятные слова. Потом, утомившись, тетрадь закрыла, потянулась.
– Понять вы должны, боярышни, сколь важно, чтоб вы все правила обхождения до тонкостей знали. Государь наш бьётся, чтобы сделать Россию истинно великой державой и хочет двор иметь не хуже других европейских. В том мы помогать ему должны, сколько сил наших хватит.
Мария искоса поглядывала на новых своих подружек. Нина Цицианова, черноволосая, с большими чёрными глазами и с большим же чётко очерченным ртом. Варя Свиньина, напротив, светленькая, чуть рыжеватая, с очень белой прозрачной кожей и мелкими аккуратными чертами лица. Обе они серьёзно и внимательно слушали царевну, временами взглядывая друг на друга и на Марию.
Интересно, думала Мария, нравится ли Нине мой Саша, и есть ли у неё свой жених? Какая у неё кожа смуглая, как у скотницы. Наташа сказывала, князья Цициановы из Грузии, видом черны, но православные. Князя царь Пётр на службу позвал, он иноземцев жалует, имения им дарит российские и из казны кошт немалый отваливает. Вот и князю Георгию земля с крестьянами пожалована была, так что стало ему на что дом в новой столице выстроить и семейство туда перевезти. Теперь вот дочь ко двору царскому взята.
Нина поймала её взгляд и улыбнулась. Марии стало совестно, и она поспешно улыбнулась в ответ.
Ехали быстро, с малыми остановками для трапез, благо лошади были резвы и часто менялись – государь позаботился прислать подставы. Сам он вперёд ускакал, дела не ждали. Поезд был большой: кроме царицы Прасковьи с дочерьми и царевны Натальи, еще Катерина Алексеевна с дочками, ближние царицыны боярыни, министры государевы, сенаторы, и все с семействами, с челядью, с поклажей. По дороге все перезнакомились, в гости из одной кареты в другую ходили, пересаживались, менялись местами.
Наталья Алексеевна чаще с маленькими дочками Петра в карете сидела, она издавна за детьми брата своего приглядывала, и царевич Алексей у неё на руках вырос. Екатерина же с новыми фрейлинами больше была. Они за длинную дорогу о чём только не переговорили, даже детство вспоминали – каждая своё. Маша с Варей – московны – наперебой вспоминали, как яички на пасху катали, за малиной с дворовыми ходили, цыган с медведями смотреть бегали. Нина о своих горах рассказывала, напевала протяжные грузинские песни. А Катерина про себя говорила мало, больше слушала да выспрашивала, особенно о церковных обычаях, как какие праздники справляют. Оно и понятно, недавно ведь православную веру приняла. Катерина с растроганной улыбкой рассказывала, как крестили её и нарекли Екатериной, раньше она Мартой была. А крёстным отцом царевич Алексей выступил, сильно он робел в церкви, смущался. Она посмотрела на сидевшую напротив Марию.
– Он вообще по натуре робок. Не знаю, как и осмелился в этот раз против отца пойти.
Нина с Варенькой с любопытством повернулись к Марии.
– Что такое? Скажи, Маша.
Катерина усмехнулась.
– Это, девоньки, секрет, и не спрашивайте. У тебя, Маша, жених есть нынче?
Мария замотала опущенной головой, нет, мол.
– В твои годы можно повременить. А у вас девоньки?
У Вареньки тоже не было пока. А вот Нина, значительно взмахнув ресницами, призналась, что хоть рукобитья и не было, но она знает, кого ей родители прочат. На неё набросились с вопросами, но она имя назвать наотрез отказалась, сказала только, что красавец несравненный, и у царя в чести, и, как она, горы любит.
От этих слов у Марии внутри похолодело, и Нина сразу показалась ей противной. Враз вспомнились ей давешние опасения о Сашиной гордости. А может, промеж них уж и было что? Она незаметно отодвинулась от Нины в угол кареты и в оставшийся путь старалась рядом с ней не садиться.
К Москве подъехали в сумерках и сразу повернули в Преображенское. Министры да сановники от царевниного поезда отделялись по своим домам. Марии тоже хотелось бы в свой дом, но она теперь на службе – надо при царском дворе быть неотлучно. Так что пришлось до дому только челядь, что с ней была, отправить, при себе одну Пелагею оставила.
В Преображенском их ждали, да не совсем: большой дом протопили и вымыли, а флигель, где фрейлины разместиться должны были, был не готов. В доме им на первое время проходную комнату отвели, а в ней аж три двери – только и хлопают, только и снуют люди туда-сюда. Так-то неуютно! С дороги бы в баню, а в баню по-первости царские особы пойдут, скоро ли очередь до них дойдёт? Пелагея, конечно, не стерпела.
– Слышь-ка, Маша, и чего мы здесь сидеть будем. Дом-от наш недалече.
Мария поколебалась.
– Недалече-то недалече, да как это против политесу придворного выйдет?
Посмотрела на унылые лица товарок, на сердитую Пелагею и решилась.
– Ладно, подождите меня. Пойду у Натальи Алексевны спрошусь.
Царевна Наталья, в запарке от хлопот по приезде, только рукой махнула.
– Езжайте.
Тут и царевны Иоанновны выскочили.
– И мы с вами. Можно?
И их отпустили. И Катерина Алексеевна к их компании пристала. Скучновато ей с Натальей, да с царицей Прасковьей, больше к молодым тянуло, потому как сама ещё в молодых годах. Много народу получилось – вместе с услужницами на три кареты набралось. Мария даже беспокоилась: хватит ли протопленных комнат у них в доме, да и баню догадались ли сготовить?
Но московский управляющий и няня Ирина в грязь лицом не ударили! Всё было готово: и вымыто, и протоплено, и банька как раз выстоялась. Дворня с радостными лицами облепила крыльцо, кланялись, гомонили. Няня на рушнике вынесла духмяный каравай.
– Как же ты догадалась, нянюшка? – удивлялась Мария, обнимая старушку.
– А сердце-то на што, голубка моя. Вот проживёшь, сколько я, сама всё наперёд знать будешь.
В дом зашли только шубы снять – и сразу в баню. Няня и тут угадала: не маленькую барскую, а большую, субботнюю приготовила. Сразу все в неё и завалились. Сначала пожимались, стесняясь раздеваться, да Катеринка-царевна всех развеселила. Она такая хохотушка, и с поводом и без повода смеяться готова, да так заразительно, что любой, глядя на неё засмеётся. А где смех, там и стесненья нету. Со смехом и в парную зашли; а зашли – смех сразу кончился, не то что смеяться, дышать нечем. Такой в парной крепкий можжевеловый жар стоял, что в ушах звенело, и волосы потрескивали.
Мария и Варенька, к московской бане привычные, сразу на пол сели. За ними и царевны плюхнулись мягкими телесами на белые скоблёные доски. А вот Нину и Катерину Алексеевну пришлось силком усаживать, они поначалу к дверям кинулись, да и на пол усевшись, всё рты разевали, покуда им головы вниз не пригнули, да под лицо ковш с холодной водой не сунули. Так они обе до конца на полу и просидели, на полу и мыть их пришлось. Пробовала Пелагея с веником к ним подступиться – куда там, непривычные они к такому занятью.
Остальные же девы, как истые россиянки, и на полках полежали, и под хлёстким веником побывали. Думали даже на волю выскочить – в снегу поваляться, да больно луна щедро светила, поопаслись.
Потом, розовые и чистые до лёгкости, сидели в предбаннике, завернувшись в мягкие льняные простыни. На столике кваски разные приготовлены: и ягодные, и хлебные, и с мёдом, и с хреном – так-то хорошо после баньки. Катерина Иоанновна не удержалась и толкнула в бок Катерину Алексеевну.
– Кать, а Кать, что-то ты к нашей бане совсем непривычная? Нешто Пётр Алексеич не водил ни разу?
Та смутилась, закраснелась всем и без того розовым лицом. Вместо неё ответила Нина:
– Эта ваша баня – какое-то варварство, дикость! Разве так моются? Так умереть можно!
Царевны, довольные, захохотали.
– А как моются? В лохани что ли дрызгаться?
– У нас тоже есть пар, но не так. Просто приносят в шатёр горячие камни и льют на них настой базилика. Там нет такой смертельной жары и не бьют тело прутьями. И потом – это только для мужчин, женщинам это не нужно.
Ей ответили сразу несколько голосов:
– Как это женщинам не нужно? Что ж нам, грязными ходить? После бани и дух от тела приятный, да и крепчает оно.
Нина не сдавалась.
– Женщине телесная крепость ни к чему. Нам мягкость и нежность пристала.
Катеринка вскочила, раззадорившись.
– Это такая мягкость, чтоб утром хлопнули, а до вечера колыхалось?
Она скинула с себя покрывало и подскочила к Нине.
– Ну-ка хлопни меня, ну, хлопни.
И не дожидаясь, сама звонко шлёпнула себя по крутому боку. Потом неожиданно сдёрнула простыню с Нины и дала ей основательного шлепка. Все засмеялись. Разница и впрямь была заметна. Фигура у Нины весьма завлекательная: от тонкой талии широко расходились полные бёдра, резко сужавшиеся к круглым коленям, а сверху стройного девичьего стана спелыми плодами томилась пышная грудь. Но от Катеринкиного шлепка колыхание было изрядное.
– Вот так вот, – подбоченилась Катеринка, – а нашу девку хоть по какому месту бей, она вся ядрёная.
– А ты знаешь, что грузинские девушки дороже всех в гаремах ценятся?
– Тю-ю, так ты в гарем собралась? К турку какому-нибудь?
– При чём тут гарем! Надо иметь такое тело, чтобы муж любил. А то будет от тебя утехи на стороне искать.
– А ты думаешь, он твой кисель любить будет?
Девицы разошлись не на шутку, и Катерина Алексеевна поспешила вмешаться:
– Нина, Катя, сядьте, голубушки, кваску попейте. Малиновый здесь особо хорош. А чтобы муж любил, одной телесной приятности мало.
Все лица немедленно повернулись к ней. Уж кто-то, а она знает, как к себе мужчину привязать, говорят, много их у неё было. Да и царь Пётр ровно присушенный, глаз с этой Марты-Катерины не сводит. А она сказала и замолчала, задумавшись о своём. Чей-то голос робко спросил:
– Катерина Алексевна, а что ещё-то нужно?
Та улыбнулась.
– Угождать надо своему повелителю во всяком деле и во всякий час, и днём, а пуще того ночью. Ну да вам, девицам, рано знать про это.
– Вот так всегда, – заныла Катеринка, – всё рано да рано. А потом поздно будет.
Екатерина засмеялась.
– Всё в свой срок узнаете. Давайте одеваться.
И правда, жар из тел уже вышел.
Здесь, вдали от царских глаз, можно было облачиться в удобные русские рубахи и понёвы. Сверху накинули большие пуховые платки, чтоб не простыть, и бегом по ледяной дорожке к дому. Ужин был уже на столе, по-московски обилен. Ох, и накинулись девы на выставленные яства! Сами не думали, что так проголодались. Печёные куры, бараний бок с кашей, уха из налимьих печёнок исчезли в мгновение ока. Только когда до пирогов дошли, стали жевать медленнее. Пирогам, правда, тоже честь отдали, да и как не отдать – дивно вкусны они были, прямо во рту таяли. Голицынские стряпухи издавна такими маленькими пирожками славились: корочка тоненькая, нежная, а уж начинки… Даже и не разберёшь, что положено, то ли рыба, то ли грибы, то ли курятина, но вкусно так, что язык проглотишь. И сладких заедок было пребольшое блюдо: крутики на яйцах в масле жареные, пряники медовые, рожки с маком. Так наелись, что дышать тяжело, а глаза всё к вкусноте ещё тянутся.
– Ох и кормят у вас, – вздохнула Катеринка. – И как же ты, Маша, такой худышкой осталась? Знать, не в коня корм.
– Ещё войдёт в тело, успеет, – заступился за Марию кто-то.
В горнице повисло молчание. Смеяться уже никому не хотелось, и ничего не хотелось – наелись.
– Ой, да вы совсем сонные, пойдёмте-ка по постелям.
Няня Ирина принялась расталкивать их, да подымать, приговаривая:
– Ну не нести же вас, таких телушек.
Уложили всех в соседних трёх комнатах, и тотчас стало слышно ровное сонное дыхание и храпоток разомлевших дев.
Хорошо в родном доме: и спать сладко, а просыпаться ещё слаще. Мария лежала, утонув в пуховиках, и смотрела на знакомое с детства цветное окно. Давным-давно делали эти окна в доме заезжие мастера. Всё окошко застлано склеенными встык стеклянными кусочками – синими, красными, зелёными. Сызмальства любила Мария разглядывать эти узоры, всегда что-то новое в них чудилось.
В соседней комнате послышалось шевеление – кто-то проснулся. Мария накинула атласный стёганый халат, сунула ноги в меховые коты. В дверь заглянуло улыбающееся лицо Катерины Алексеевны.
– С добрым утром, Маша. Все ещё спят, который час?
– По солнцу – так девятый на исходе, часы в батюшкином кабинете. Сейчас, Катерина Алексевна, кликну, умываться подадут.
– Нет, подожди, а то разбудим, пусть поспят. Я вот смотрю, окна у вас замечательные, как витражи в соборе, нигде таких в домах не видала.
Мария гордо улыбнулась.
– Да уж, такого дома на Москве нет больше. А вот гляньте, изразцы какие.
Она показала на печку.
– Это ещё при царе Алексее знатный калужский мастер делал. Такие только в Измайловском да у нас.
– Да, дивно. И все разные.
– А вот гляньте, полы какие.
Мария откинула угол ковра.
– Здесь вот берёза северная, а в парадных комнатах – из бука.
Мария сама залюбовалась медовыми переливами волокнистых плашек. Присела, погладила их ладонью. Катерина тоже села, потёрла узорное дерево пальцами, поднесла к носу и хозяйственно спросила:
– Воском с канифолью трёте?
– Наверное.
Мария тоже потёрла пол и понюхала. Пахло мёдом и сосновой смолой.
– Няня у нас мастерица всякие снадобья составлять.
Катерина вернула отогнутый угол ковра на место и неожиданно спросила:
– Мария, скажи, русские меня не любят?
– Почему не любят, с чего тебе вздумалось?
Она безотчётно сказала «ты», наверное от домашнего и простого вида Катерины и увидела в ответ её благодарную улыбку.
– Ну как, почему, ведь я иностранка, да и лютерка.
– Вот глупости! Допрежь всего, ты не лютерка, ты ж крестилась, так что теперь ты уже православная, как и все мы. А что до того, что иностранка – так, чтоб тебе знать, русские цари исстари на иноземках женились, из русских-то боярышень невест царских совсем недавно выбирать стали, не с Алексея ли Михайловича.
– Правда?
Катерина благодарно погладила Марию по плечу.
– Ещё одно есть… Я ведь совсем не знатная. Раньше я была служанкой и натирала такие полы, как этот, стирала, готовила еду.
– Ну, уж это царская воля – кого захочет, того и знатным сделает. Сам светлейший раньше пирогами торговал. Али не знаешь?
– Знаю, сам рассказывал.
Глаза Катерины наполнились слезами.
– Ты такая добрая, Мария. Прости меня.
– За что?
– Я не знала, я думала, любая русская захочет быть царицей. Я не знала, что ты не хочешь за Алексея.
– Ты ж здесь ни при чём. Не ты это придумала.
– Да, да, конечно, не я. Знаешь, я тебе скажу… о, это есть секрет.
Она оглянулась, не проснулся ли ещё кто, и в волнении заговорила по-немецки:
– Это знает только принцесса Наталья и больше никто, но тебе я скажу. Государь хочет со мной венчаться. Он сказал, что хочет снять с себя грех и сделать нашу любовь законной, и чтоб дочки были принцессами.
Она с каким-то непонятным страхом и немым вопросом смотрела в широко открытые глаза своей собеседницы. Мария спросила по-немецки же:
– Когда венчанье?
– О, мой Бог, я забыла русский язык, но ты понимаешь, слава Богу, – она перешла на русский.
– Как ты думаешь, это можно? Ему разрешат?
– Кто ж ему запретить может, он царь, – фыркнула Мария. – Да когда же будет это?
– Не знаю. Скоро. Вот молебен в Успенском соборе за победу российского воинства отслужат, а после и это… Знаешь, я попрошу, чтобы тебя в церковь взяли. Государь хочет, чтоб никого не было, как бы тайно.
– Да что ты, этого не может быть. Цари тайно не венчаются!
– Он сказал так. А свадьбу – после победы над турком.
– Странно что-то. А девичник? Тебе ж девичник надо. Ой, что я, – Мария смешалась, – ты ведь вдова. – Ну, всё равно что-нибудь, а то что ж просто в церковь – и всё?!
– На всё его воля. Я его раба.
Мария задумалась. Не понимала она такого. Раба-то раба, но надо ж по закону, по обычаю.
С крыльца донёсся шум и стал быстро приближаться. В дверь просунулась голова челядинца.
– Боярышня, гонец из Преображенского. Пускать?
– Да ты очумел, что ли? Куда пускать, сюда?!
Голова человека резко исчезла, как бы отпихнул его кто-то, и в двери встал во всей красе усатый молодец в гвардейском кафтане.
– Долго спать изволите, беспокоятся о вас.
Мария даже языка лишилась от такого нахальства, только руками замахала и ногой топнула. А молодец шляпу треугольную с головы стащил, ногу в ботфорте вперёд выставил и шляпой над нею помахал.
– Моё почтение Марии Борисовне и Катерине Алексеевне.
А сам зубы скалит, глядя на простоволосых неприбранных дам. Тут вдруг в уши ударил пронзительный оглушающий визг четырёх проснувшихся девиц, увидевших святотатца. И этот визг заставил его, наконец, ретироваться.
Оделись все во мгновение ока, как на пожар. И павами выплыли в столовую, к накрытому для кофия столу. Нахальный гость был тут, не ушёл. Снова вышагнул вперёд в политесном поклоне. Но тут уж и девы присели по всем правилам. Галантный кавалер каждой поцеловал ручку, каждой показал в улыбке ровные зубы. Назвался: Михаил Шереметев, фельдмаршала Бориса Петровича сын.
Пока кофий пили, да кой-чего прикусывали – немного, чтоб пред кавалером обжорами себя не оказать, – кавалер рассказывал, что спозаранку в Преображенское явился Пётр Алексеевич и нашёл там большой недостаток в прекрасном поле. Тут кавалер приложил свою белую в перстнях руку к сердцу.
– Имея сейчас удовольствие видеть сей прекрасный цветник, в коем одна роза прелестнее другой, я очень даже понимаю его величество и разделяю его тоску…
Договорить этот витиеватый комплимент ему не удалось. Из-за двери раздался громкий голос, явно привыкший к воинским командам и вольному воздуху.
– Михайло… Где ты, чёртов… О, чёрт!
Обладатель голоса появился и замер с открытым ртом, увидав такое общество. На лице его застыла преглупая улыбка, а рука немедленно стащила с головы треуголку и принялась совершать невразумительные помахивающие движения. Конечно, Катеринка-царевна не выдержала, никак не могла выдержать при её природной смешливости. Следом за ней засмеялись остальные. Перекрикивая всеобщий хохот, Шереметев представил:
– Поручик Дмитрий Шорников, весьма любезный кавалер и первейший танцор, но несколько отвык от дамского общества.
Первейшего танцора усадили за стол, предварительно дав ему облобызать каждую руку каждой дамы. За ним наперебой ухаживали, подливали в чашку, подкладывали на тарелку. На лице у поручика засветилось неземное блаженство, правда, непонятно, отчего более – от приятных собеседниц или от яств, коими они его потчевали.
– Да, – вдруг спохватился он с полным ртом… – Меня ведь торопить вас послали. А то Михайла уехал, и ни слуху ни духу.
Только он это вымолвил, как затрещала под ударами входная дверь, а половицы – под тяжёлыми ногами. И предшествуемый людским переполохом в дверной проём, чуть пригнувшись, шагнул царь Пётр.
– Так, – сказал он, тараща круглые глаза и шевеля жёсткими тараканьими усами, – этак.
Все вскочили и как-то засуетились на месте, не зная, что делать. Первой нашлась Екатерина. Она скоренько выбралась из-за стола и встала, низко поклонившись перед огромным насупленным Петром.
– Здравствуйте, государь наш, на многие лета.
– Здравствуй, здравствуй. Видать, не сильно государь ваш вам нужен. Вона тут у вас какое веселье.
Тут уж и Мария опамятовалась. И приняв у догадливой няньки серебряный подносец с чаркою и солёными грибочками, поднесла царю.
– Извольте откушать, герр Питер.
Взгляд Петра был суров, но рука как бы сама собою потянулась к чарке. Выпил, крякнул, выловил с тарелки пальцами скользкий грибок, кинул в рот.
– Хороша водка у Голицыных! А кавалерам-то поднесли? – кивнул на готовых провалиться сквозь землю Шереметева и Шорникова.
Те стояли, не знали, что сказать.
– А ну-ка, хозяюшки, несите нам добрый штоф. Да и поесть, что в печке есть. Завтракал я рано, уж живот подвело.
– Дмитрий, – кивнул Шорникову, – Сбегай на двор, кликни Макарова, он в бричке, пусть сюда идёт.
В минуту расторопная дворня сняла всё со стола и переменила скатерть, и уставила стол штофами и всевозможными закусками. Когда вошёл секретарь царя Алексей Макаров, Пётр вместе с ним повернулся к столу и не смог сдержать восхищённого возгласа. Стол сиял изобилием!
Кавалерам налили водочки, дамам сладкой смородиновой наливки. Пётр размяк, распустились складки жёлтого лица, разошлись в улыбке выпуклые яркие губы. Он был доволен неожиданным застольем. Смачно хрустел мочёными яблочками, грыз целую курицу, ухвативши её обеими руками. Жир капал на скатерть. Катерина потихоньку подсунула ему под локоть салфетку. Пётр засмеялся и потёрся об неё боком. Однако, салфетку взял, обтёр руки.
– А ну-ка, девоньки, спойте, уважьте старика.
Пётр наполнил всем бокалы.
– Ну, давайте ещё по одной и – песню.
Девицы переглянулись. В дороге они часто певали и, кажется, сладились голосами. Начинала всегда Варенька, она вопросительно посмотрела на подруг.
– Как во граде…, – прошептала Мария.
Варенька набрала воздуху и начала. Следом вступили остальные. Нежные девичьи голоса свободно и кругло лились по горнице. И будто раздвинулись стены, будто встали вокруг немеряные российские просторы. Сначала приглушённо, а потом громче вплелись в песню мужские голоса, и было это так кстати, словно тонкие женские плечи обняла сильная мужска рука.
Хороша была песня! Уж отзвучала она, уж все рты закрыты, а чудилось, что не истаяли ещё звуки, ещё носятся вокруг волны, вызванные ею. За дверьми виднелись тихие лица заслушавшихся дворовых.
Первым пришёл в себя Пётр.
– Хорошо поёте, девоньки! Однако пора и честь знать, делу время, господа офицеры. Да и вас, мадамы, я чаю, в Преображенском заждались. Вон в окошке солнце какое, а вы всё в доме. Поедем, прокатимся. А, Катинька?
Он взял Катерину за полную руку выше кисти и сильно пожал. Она смущённо подняла на него глаза.
– Поедем, государь, я готова.
У Петра напрягся сочный рот, он обнял свою любезную за пышные плечи, притиснул к широкой груди. Потом увидел уставленные на них глаза боярышень и царевен, крякнул и отпустил Катерину.
– Ну, собирайтесь скорее, я с вами, мне тоже в Преображенское надо.
Царевны побежали облачаться в шубы, а боярышни неуверенно топтались.
– Ну, а вы чего?
Мария шагнула вперёд.
– Пётр Алексеевич, дозвольте нам с боярышнями после приехать. Царевны с Катериной Алексеевной – сейчас, а мы через недолгое время в Преображенском будем.
Пётр удивлённо и вроде бы недовольно напряг углы рта, и Мария, чтобы он не успел возразить, зачастила.
– Мы прокатиться хотим до рощи, там родник, вода дюже сладкая, в Преображенское возьмём. И прокатиться очень хочется. Я давно верхом не ездила.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу