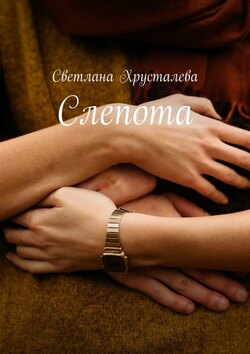Читать книгу Слепота - Светлана Хрусталева - Страница 2
ОглавлениеСлепота
1
Сегодня утро снова началось внезапно. Как будто щелкнул затвор фотоаппарата.
– Андрюха, а ну подъем! – голос брата Пашки был, как всегда, настойчив и резок. Порыв ветра за окном и то мягче бывает.
Я попытался щелкнуть затвором своего глазного фотоаппарата. Опять… резкая вспышка боли накрыла меня с головой. Поганый софит! Надо же ему было треснуть на прошлой выставке прямо перед моими глазами, теперь мало того я весь чешусь от заживающих ожогов, так еще и глаза открыть не могу ни на секунду. Затвором своего фотоаппарата я щелкаю весьма умело, уже на три выставки в галереях нащелкал, а вот тут. Хоть бы руководство или инструкция была. Желательно пошагово: наклонить голову влево, высунуть язык, нажать на глаз, открыть глаз, попыхтеть от боли, закрыть глаз… Что за ерунда лезет с утра в голову?!
Я поморщился. Пашка рядом болтал что-то про новые объективы. Я его почти не слушал, занятый собой. Лир. Ну конечно, преуспевающий фотограф, Андрей Зимин. Был. «Наш парус в море новых возможностей фотографии». Дурацкая строчка из чьей-то статьи накрепко засела в голове. Если бы я еще ее видел, а не представлял…
Объектив без тела. Тело без объектива. Фотограф без фотографа. Скороговорки сыпались ручьем.
Пашка где-то рядом смеялся и тыкал меня чем-то в плечо. То ли одним пальцем, то ли двумя. Теперь не разберешь…
Я мрачно усмехнулся, и повернул голову в сторону звука, стараясь, чтоб не дрогнул голос:
– Паш, сколько дней уже?
Смех резко прервался. Пашка сидел тихо-тихо и, наверное, сейчас с грустью взирал на меня своими большими черными жучками. Его глаза всегда были чем-то приметным. Абсолютно обычное скуластое лицо, не-то русые, не-то темные вихры. Лоб, щеки, никаких ясных и отмеченных печатью красоты линий. Но глаза, эти жучки-буравчики, которые всегда горели от нетерпения, как у дикого волчонка, делали Пашку каким-то особенным.
Глаза – это зеркало души. Душа у Пашки точно была особенная. Всегда нараспашку, ее движения тоже были настойчивы и упрямы, а еще внимательны, как и его взгляд. В глазах живет душа… получается, я сейчас тут скотина бездушная. Однако…
– Да пустяк, Андрюха. Два месяца всего! Врачи там твои, светилы-воротилы, говорят, динамика какая-то есть. Хрусталик, говорят, привыкает… Мыщцы там всякие. Да пройдет все, как корова языком слижет!
Я криво улыбнулся. Пашка не умел красиво говорить и умело врать. С самого детства. Единственное, что у него получалось мастерски – это свет. Зеркала, преломления, отражатели. Уже три года он работал со мной в паре – был осветителем и помощником в одном лице. Помогал он, безбожно ломая все и роняя, но освещал безумно и феерично.
– Ты свети, да не засвечивай, – я наугад вцепился в воздух и угадал, попав в предплечье брата. – Что вчера главврач сказал? Ты же с ним остался, когда меня на процедуры увели?
Пашка вздрогнул, когда я приблизил к нему свое лицо. Как мелкий щенок, лет на десять младше, брат выдохнул мне прямо в лоб воздух.
– Что, страшно? Говори, давай, – я приподнял мокрые от пота волосы со лба и снова уставился на него своими закрытыми глазами. Увы, открыть их мне было пока невозможно. Я говорю, пока, все еще надеясь на что-то.
Пашка громко сглотнул и выругался.
– Еще месяц, и можно будет.
– Что можно? Бегать, прыгать, читать, фотографировать?
– Открыть. – брат сказал это тихо и отодвинулся. Мои руки разжались, и я откинулся на подушку.
– Понятно, – я сказал это зло, даже не пытаясь скрыть раздражение.
– Андрюха, ну ты что…
– Вот именно, Паш, теперь я «что», а не «кто».
Пашка сидел молча и сопел, потом я услышал, что кровать стала легче. Ушел, обиделся. Глупая привычка обижаться на то, что я обругал его брата, то есть себя. Детская привычка. Эх, Пашка, Пашка…
2
Дни тянулись медленно, как жвачка, прилипшая к подошве ботинок. Кажется, что ногу можно оторвать сразу и снова пойти по своим делам, ан нет. За тобой все равно тянется липкая грязная нить, напоминая тебе о тех местах, где ты ее подцепил. А то и вообще эта дрянь въестся накрепко в твой след, мешая ходить.
Когда я понял, что мне выключили персональный свет, в голову как раз и начали лезть всякие разные незаметные вещи. Жвачка на тротуаре, цвет никеля на машине, мел на рукаве старого пальто… Мы не замечаем ничего, пока видим цель, к которой идем. В буквальном смысле видим. А кто-то, подобно мне превращает все это в профессию. Фотография. Запечатлеть то, что мы видим и не видим одновременно. Мы восхищаемся тем, что вокруг нас, тем, что мы видим каждый день, но не замечаем.
Подолгу на моих выставках я вглядывался в людей, которые с восторгом рассматривают кошачьи лапы, ветви деревьев, лучи солнца, девушек, которые одеты, так же как и они.
Я не понимаю людей. Улыбки, маски, лица, даже глаза… моя последняя выставка была посвящена взгляду из толпы. Привычное становится фурором, когда все остановили на этом взгляд. Так почему же фурор позже станет привычным, когда количество людей станет увеличиваться…
И все это фотография: моменты, снимки, фрагменты, мгновения… я всегда был в поиске, искал то, что не видели другие, чтобы догнать мир и заставить его взглянуть. Мой поток мыслей стал меня утомлять…
Но я скажу еще раз. Еще раз, но совсем по-другому!
Страшное ошеломляет и приковывает к себе дольше всего. Люди пробегают мимо в обычной жизни, потому что оно пугает и заставляет стремительно ускорять свой и без того безудержный бег. Но здесь, в фотомастерстве, страшное расцветает, дикое захватывает, а обычное поражает новизной.
Все это надо только увидеть…
Я снова лежал на какой-то кривой больничной подушке и пытался вспомнить. Припомнить это волнующее ощущение погони за чем-то. Как в той детской сказке: Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что.
Что-то в моем воспаленном этой случайной вспышкой и разрывом софита мозгу подсказывало мне, что увижу я эту дорожку, по которой надо бежать и искать, не скоро.
Да еще эта подушка… Почему она кривая?!
Да потому что все, что меня окружало, теперь казалось мне угловатым, кривым, косым и ничтожным. Мои руки совсем отвыкли от ощущений, кожа – от перепадов температуры, а рот – от потребности вечно озвучивать свои нужды. Чтобы просто выйти из бокса я должен был позвать медсестру и предупредить ее. Чтобы поесть – позвонить, нажав на вечно ускользающую от меня кнопку на стене. Послушать телевизор в холле, который стал казаться еще отвратительней без стерео картинки – позвонить. Погулять – позвонить. Переодеться – позвонить. Почувствовать себя плохо – позвонить. В туалет – позвонить. Да даже когда я просто хочу встать со своей кривой кровати – я должен ПОЗ-ВО-НИ-ТЬ!!
За эти длинные дни и ночи я совсем не почувствовал себя барином с кучей дворни, хотя деньги, что мы отвалили в эту клинику порядочные. Нет, я ежечасно ощущал себя маленьким беспомощным ребенком, а то и того хуже – вечным подчиненным. Слугой или рабом, который даже вздохнуть не может без необходимости позвонить!
После месяца сидения, лежания, стояния я подумал, что нужно снять повязку и посмотреть. Ее снимали каждые семь дней на полный день, каждые два дня питали чем-то вонючим, но судя по ахам и охам очень дорогим и действенным. Мне же все эти манипуляции не приносили ничего, никаких эмоций в перевязочной я не испытал. Ни медсестры, ни врачи-женщины голоса которых я слышал, руки которых я ощущал, не приносили ничего. Дурацкая фотографическая память услужливо рисовала передо мной возможные картинки происходящего, только и всего. Я жаждал видеть. Не женщину, ни еду… ничего. Я жаждал видеть все. Все, в чем я нахожусь в данный момент и в чем я застрял уже на два месяца как. Я не видел даже собственного носа. Я ждал дня, когда врач снимет с меня эту тугую повязку и скажет: «Откройте глаза, Зимин. Лечение закончено».
Но этого не происходило. Все кругом молчали, и снова и снова мазали мои глаза какой-то дрянью, цепляли на мою голову проводки, которые дико зудели и жужжали.
Родители, устроившие меня в клинику, снова были за границей, а Пашка носился ко мне каждый день со своей детской заботой. Как же я его наверняка достал своим характером и вспышками гнева, но он все пока сносил и не жаловался. Я впервые видел его таким… Видел.
Я все еще по старинке хочу так сказать. А может быть я его по-настоящему сейчас видел. Слышал, осязал, когда он несмело совал мне в руку новые объективы, какие-то палки, штативы, или когда он вдруг заснул прямо на полу рядом с моей койкой. Весь день снимал свадьбу, этому нехитрому заработку я его сразу обучил, и так утомился, что заснул прямо здесь, зажав что-то рукой.
Тогда я впервые засмеялся, когда нащупал его спящую голову у ножки кровати, а потом чуть не заплакал, когда достал то, что он мне принес.
Пашка прибежал ко мне тогда с моей новой фотографией, которую напечатали на каком-то рекламном плакате. Я не смог увидеть того, что там было, но я чувствовал.
Я чувствовал этот холодный прямоугольный глянец фотографии. Он прилипал к моим пальцам с одной стороны, и я даже не замечал, как сильно тискаю его большими пальцами рук. А другая сторона была шершавой. Вдруг на мои пальцы что-то осыпалось…
Вы когда-нибудь чувствовали запах графита? Запах обычного карандаша? Нет? И я – нет. Он ничем не пахнет, это абсолютно безликое вещество. Без запаха и вкуса. Но это был карандаш, чья-то подпись и пожелание мне, Андрею Зимину – ведущему фотографу студии «Фото and Me». Более того единственному, который ее основал в одном из подвалов нашумевшего ТЦ «Фортуна» и так раскрутил, что потом студия поднялась вместе с техникой и Пашкой аж на 4 этаж и раскинулась во всем своем стеклянном великолепии на 204 кв. м.
Я узнал, что это карандаш по характерному глянцу на пальцах… как фотография, наверно, мой палец лоснился темным. Я еще долго перебирал в себе это новое ощущение предмета. Я не видел его, но знал, что это графит. Странное чувство…
Да, пожелание мне… наверно о выздоравлении. Я даже не могу прочесть надпись карандашом. Да что там, я даже свет от большого билборда бы сейчас не различил, т.к. сидел уже два месяца в темноте. В полной темноте.
3
Самое главное для фотографа – это свет и перспектива. Я всегда начинал со второго. Правильно расположить объекты, расставить нужные приоритеты, сделать так, чтобы зрителю была видна глубина, композиция того, что я задумал – это мое кредо не только в фотографии, но и в жизни. Перспектива… сейчас было на лицо и перед ним ее отсутствие.
По сути, в душе я строитель, а не фотограф. Тогда в чем проблема? Нужно было учиться и строить, строить, превращая свои воздушные замки в настоящие из камня и бетона, стекла и дерева.
Я бы не осилил, не смог бы привыкнуть к мысли, что кто-то пользуется моим, как данностью. Разве на домах печатают имена их архитекторов?
Я всегда хотел славы. Единственной целью стала она – известность. Я хотел, как один древнегреческий товарищ, увидеть свое творение выбитым звездами на небесах, и чтобы люди смотрели на это и произносили: «Это фото Андрея Зимина». Да только тот козлик, что это возжелал, был знаком с героем, а я никакими способностями не обладал. Я любил строить идеальную перспективу, читать классику и цеплял всех своей дурацкой способностью везения, когда тебе вечно удается запрыгнуть на ходу в отъезжающий поезд.
Известность и пришла ко мне именно так, внезапно, утром. Когда я вдруг увидел свое фото на сайте лучших. Тогда я поймал слезы и последнюю улыбку популярной актрисы, подрабатывая для одной столичной газеты фотокором. Совершенно случайный кадр, который я сделал в коридорах театра, куда пришел совсем с другой целью, стал решающим. Этим же утром мне позвонили из модного глянца и пригласили на встречу. ПРедл
***
– Обед! – глубокий голос медсестры донесся до меня через стену палаты.
Я помотал головой… все произошедшее промелькнуло перед глазами, казалось бы за долю секунды, а, оказывается, прошло целых два часа после ухода Пашки.
Что-то жуткое пахучее и громыхающее всеми жестянками на свете приближалось. Я в предвкушении уселся на кровати и слегка подогнул под себя ноги, дико неудобная больничная пижама недовольно затрещала. Так, так, попытка сесть по-турецки, как султан, снова провалилась, а я так старался каждый день для нашей Елены Прекрасной.
– Зимин, обедать, – голос раздался где-то совсем близко над моей головой.
– Елена Прекрасная, – я потянулся на звук голоса и спросил: – Елена Прекрасная, а Елена Прекрасная, сколько мне здесь еще сидеть осталось?
И тут же я почувствовал, как легкие пальцы вспорхнули над моими непричесанными вихрами. Легкие, словно птичка задела своими невесомыми крыльями, прикосновения были мне безумно приятны и как – будто знакомы. Они были искусственным и искусным светом в моей непроглядной тьме, уже два месяца. Смутно я надеялся, что нравлюсь этой женщине, как мужчина, а не как пациент, которого надо пожалеть при первом удобном случае. Я верил, что Елена Прекрасная не такая… я цеплялся в своем хмуром мирке за все. Я грезил, и жалел только об одном, что не могу увидеть ее.
– На все воля божья, милый. На все его воля! – мягкий голос приятно звучал вокруг меня, и я начинал с наслаждением вдыхать в себя тонкий аромат, который всегда приносила с собой Елена – наша медсестра-кухарка, заведущая кормежкой таких элитных больных, каким я сейчас являлся.
Я подолгу часами разбирал его на ноты и все никак не мог понять, что это за запах. Какой редкий цветок источает такой аромат, перед которым меркнут известные цветы. То мне чудился ландыш, то роза, то возникала ромашка… странно.
По слухам редкая красавица, бриллиант в оправе белого халата и светлой больничной косынки, Елена Прекрасная всегда умела утешить и ободрить. Для всех у нее было ласковое слово, таких людей я в жизни не видел. Не видел я и ее, но каждый день слышал.
Ее глубокий ласковый голос был переменчив: то она притворно сердилась, если я пытался привлечь ее внимание и «найти» ее, осязая пространство вокруг руками, то смеялась, когда я однажды задержал ее руку в своих тогда еще обгоревших пальцах, а то она мимолетно гладила меня по голове, уверяя, что скоро лечение кончится.
Я представлял ее часто в долгие минуты раздумий и воспоминаний. Теперь я все лишь помнил и представлял, увидеть и наполнить флешку в своей голове новым изображением я не мог. От соседей по коридору я узнал, что Елена действительно прекрасна.
Светло-русые волосы, спускающиеся ниже талии в тугой косе, лучистая улыбка, розовые кораллы губ, а главное глаза – непонятные, то зеленые, то серые, то карие, в которых светился ум и проницательность. А еще легкие руки с тонкими пальцами, гибкой кистью и голос. Голос, сводящий меня с ума.
Все это мне рассказал один художник, который выписался месяц назад и лежал по соседству. С тех пор я жалею каждый день, что мои глаза запечатаны несчастным случаем.