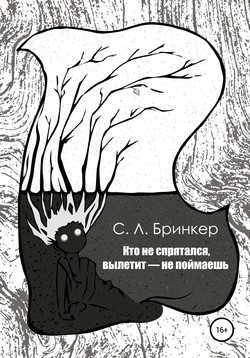Читать книгу Кто не спрятался, вылетит – не поймаешь - Светлана Люция Бринкер - Страница 3
Старинная песенка о физике
ОглавлениеБыла у нас соседка Нина Ивановна, учительница музыки. Такая вся из себя: «Для гармоничного развития личности ребёнка записываю вашего мальчика по средам и пятницам на фоно!» В переводе на людской и понятный: несите бабос, вы, недостойные звания родителей. Купите билет в лотерею, где разыгрывается лучшее будущее для детей. Таинственное и грозное «фоно» означало фортепиано. Попросту – древнее беккеровское пианино в квартире Нины Ивановны. Глухой, но всё ещё бодренький инструмент.
Мамуля, человек к наезду ближнего гиперчувствительный, прям-таки аллергический, восприняла требование соседки как «Всё для фронта, всё для победы!». И потащила меня по клавишам клацать. Хоть бедность страшная была. Вообще неясно, откуда тогда в доме гречка бралась. В возрасте веры в Деда Мороза считала, что еда материализуется из пятёрок и примерного поведения. Но уже в младших классах засомневалась – из-за падения курса шоколадного сырка по отношению к успехам в учёбе. После победы на олимпиаде по математике в холодильнике могло вообще не оказаться ни одного сырочка!
Но музыка в нашем доме подавалась в изобилии, даже если маме не платили зарплату два месяца подряд. В простенке между залом и кухней тоже стоял инструмент, ореховый «Красный Октябрь». Стыд-позор, но музыкальный слух я не унаследовала совершенно. Шум из пианинной утробы оставлял меня холодной. Аж до лёгкого насморка.
Нина Ивановна обещала маме развить мои музыкальные таланты. Спустя почти сорок лет утверждаю: остались завитыми. Польку от марша не отличу! Стараться буду, потеть, шевелить ушами, и всё равно не получится.
Нина Ивановна самоуверенно заявляла, что берёт не каждого, а только перспективных. Как Том Сойер на покраску забора, понятно? «Разве что один мальчик из тысячи, а то и из двух тысяч сумеет выбелить его как следует». Но раз уж все серьёзные женщины вокруг считали, что без па-ба-ба-бама не прожить, значит, приходилось симулировать музыкальность. Нот семь, вероятность угадать неплохая. То и дело меня грозили выписать из перспективных из-за очевидной бездарности. И мама с испуганным лицом бежала на второй этаж с припасённой со дня рождения коробочкой «Ассорти». Тогда уроки возобновлялись.
Поначалу против ненавистных этюдов и сонат помогало обкусывать кожу на пальцах до гнойных панарициев. С этой тактикой у нас боролись чесноком и йодом, перцем и упрёками в свинстве. Пришлось прекратить самоедство. «Познакомишься с молодым человеком, – пророчила мать. – Он тебя попросит Шуберта сыграть, а ты не сможешь. Он на тебе и не женится!» Этого допустить, конечно, было никак нельзя.
Ежедневно по часу на «Красном Октябре» отрабатывались Чайковский с Моцартом. А результат? Сегодня могу воспроизвести только «Старинную французскую песенку», заунывную мелодию. Играют её на множестве чёрных клавиш, которые я считаю своими персональными врагами. Не из расизма! Чёрные просто хуже. Спросите любого бездарного пианиста. Он подтвердит.
У соседки-музыкантши были дети, воспитанные строго, как черти в сундуке у священника. Чужой в дом – сразу прятались в другой комнате. Ходили тихо, спасибкали через каждое слово, как ненастоящие. Пацан и девчонка – намного, лет на пять младше меня. Мы почти не играли вместе. Пугнула их разок-другой валенками-пяткогрызами, чудищами, которые прикидываются обувью. И рогатой сортирной кудрой, чтоб малышня не по делу туалета не занимала. И всё равно малыши висли на мне, как блохи на собаке. Едва садилась за пианино, оба замирали поблизости и глядели на пальцы, на мою неуклюжую левую руку. Или заранее подкладывали кусочек фольги из-под шоколадки «Алёнка» под молоточек, пробуждающий ля малой октавы, – и ждали зловещего треска. Впрочем, за такое уже наказывали.
Папы у них тоже не было. То есть, у меня отец с самого начала отсутствовал, прочерк в паспорте, мама родила дочь, что называется, себе. А их папка недавно нашёл себе другую женщину. Говорили, лет на пятнадцать моложе Нины Ивановны. Расставались супруги по-бразильски, с рыданиями и пощёчинами. У нас на этаже соседский ор снизу слышно было великолепно. Народ узнал всё, что хотел. Вплоть до размера органа блудливого родителя.
– Меня оставляешь – ладно. Но детей?! – разносилось, благодаря великолепной подъездной акустике, как в Большом театре.
– Ничего, – гундел неверный муж, – у меня новые будут! Не такие шизанутые, как ты этих выдрессировала.
– Нет, Станя! – обещала Нина Ивановна своим хорошо поставленным контральто. – Не будет у тебя в жизни никаких других детей!
У нормальных людей Станислав – Стасик. А у неё – Станя. Любой бы от такой ерунды сбежал. Шучу. Он, наверное, устал просто: квартира маленькая, куда ни глянь – кто-нибудь из малышни крадётся по стеночке и извиняется за своё присутствие на каждом шагу. Уехал, короче, с молодой женой на Дальний Восток. Внизу притихло, разве что Чайковский иногда зазвучит или «Турецкий марш». Мама соседке старую бабушкину шубу предлагала тогда, но Нина Ивановна отказалась, мол, не нуждается. Нет – и не надо! Я потом распорола и аляску себе сшила, мехом внутрь. Не понимаю гордых, кто старую вещь презирает.
Так что отбарабанишь адажио («Третий палец, а не второй! Локоть не прижимай! Мягче, это тебе не “Танец с саблями”!») – и можно домой за «Властелина мира» Беляева. Или маминого Булгакова, что за трубой в ванной спрятан. Будто я не знаю, где книжки про голых ведьм и оторванные бошки, хе-хе. Иногда везло: во время урока музыки к Нине Ивановне приходили гости. С ними хозяйка уходила на кухню. Там незнакомые женщины плакали или умоляли о чём-то тоненькими, отчаянными голосами. Им возражали невнятно и угрюмо. Изредка голоса возвышались, но разобрать, о чём спорят, никакой возможности не было: только прекратишь клавиши терзать, раздаётся крик: «Заснула? С первого листа опять!» – и жалобные всхлипывания очередной гостьи.
Удивительно, каким влиянием обладала простая учительница музыки!
Мужчины заходили и на таинственную кухню приглашались очень редко. А если уж случалось, то сперва оставляли в прихожей большие тяжёлые сумки. Уходя, странно переспрашивали в дверях: «Так отдаст?» или «Выпустят?». Будто соседка работала в бюро прогнозов и знала будущее.
Когда я пошла в шестой, мамуля и музучительница постепенно сдружились. Занимали друг другу очереди, обсуждали реформы и разгул преступности. Вместе стали ездить на электричке в сад. Так почему-то назывался участок земли с домом, имущество соседки.
Со станции приходилось тащиться через лес, долго, безо всякой тропинки, чуть ли не по звериным следам. Нина Ивановна просила никогда без неё туда не ездить. Нам бы и так в голову не пришло. Зачем бы? В чужой сад? А потом скажут, мол, мы чужую картошку выкопали или трусы с верёвки спёрли.
По дороге молчаливые соседские дети шустро набирали по полному пакету грибов. И этим бесили до икоты: как я ни пялься, как по кустам ни скачи, ни одного гриба не находила! Даже муравьями проточенной сыроежки.
Долго ли, коротко ли по таинственным приметам находилась нужная полянка. На ней скособочился сруб, а за ним – небольшой огородик. Не помню, чтобы с него собирался какой-нибудь урожай, но пропалывали и чистили этот участок самоотверженно. Думаю, кривые рядки зелени задуманы были исключительно для воспитания детского характера. И наглядного примера, что картошка не растёт на магазинной полке.
Мы, дети, совместно кидались копаться в земле. Соседские отпрыски – по свистку, а я – из собственной необъяснимой для городского человека нежности к росткам. Люблю втыкать в почву пальцы, дёргать посторонний пырей за листья. Кактусу и алоэ, проживающим на подоконнике, верным и неприхотливым друзьям, не удавалось утолить мою страсть к зелёному. Хотя, надо отдать им должное, они старались: звали в свои колючие объятия и, кажется, даже изредка цвели.
Пока мы возились в грязи, мамы разводили костёр и варили на нём фантастический грибной суп. Ничего подобного не едала потом – ни в Париже, ни в Пекине. Честное слово! К вечеру я легко выигрывала в дурачка содержимое карманов обоих соседских малышей: стеклянные шарики, ириски, проволочные колечки – всякое такое. На обратном пути на меня ещё дулись, но к следующему уроку забывали. Подлезали под стул-вертушку, цапали за пятки, щекотали, сбивая с такта. Нина Ивановна недовольно ворчала, провожая очередную зарёванную незнакомку. И торопилась к пианино, грузно переваливаясь на отёкших ногах, хлопая в ладоши нервно, как взбесившийся метроном.
То, что случилось дальше, вспоминать не слишком приятно, но необходимо.
Вышла я как-то раз с особенно поганого урока. Выяснилось, что проклятье «заиграть рондо» и в самом деле существует, а не выдумано для запугивания глупых маленьких пианистов. «Заиграть» – значит, залажать. Только успеваешь пустить из-за такта первое «т-радара-да-РАМ!» – и пальцы сводит судорога. Урок закончен, можно идти домой! Моцарта – выкинуть и забыть. Точнее, начинать учить его с начала, ползком по клавишам. И при фантастическом усердии достичь прежнего уровня через пару месяцев. Под ехидные замечания, мол, загнанных лошадей – что?..
Выскочила я с дикими глазами в подъезд – и чуть не покатилась вниз по ступенькам. Споткнулась о сидящего на лестнице Станю.
О растолстевшего, небритого, грязного Станислава Васильевича, бывшего мужа соседки.
– Нина дома? – спросил он, глядя бессмысленно в пустоту над моей головой. И полез на коленях в раскрытую дверь.
Но вползти почему-то не смог. Ткнулся лицом в косяк, заскрёб пальцами по обитой кожзаменителем ручке.
Пьяный, решила я. Хотя известный запашок отсутствовал. Про наркоту и не подумала, ничего ещё о таком и не знала. Первая встреча с этой темой произошла на следующий год, когда нашу отличницу Жанну нашли с пакетом на голове. Токсикомания, один чёрт. А тогда я только удивилась, что водкой от Стани не несёт. Стоило бы убежать от него вверх по лестнице. Но я только отошла на безопасное расстояние, перегнулась через перила и стала наблюдать, как дядька в квартиру зайти не может. Сегодня, наверное, снимать бы стала – и на ютуб.
Сосед и упасть в прихожую пытался, и зацепиться за висящее внутри пальтишко сына – всё зря. Походило это на непонятную игру или дурацкую шутку. Наконец, на шум выглянула музучительница. Жаль, разглядеть не удалось, повеселило её состояние супруга или расстроило. Соседка довольно долго наблюдала сверху из полумрака, пока Станислав Васильевич её не заметил. Разведённый муж как раз пробовал просунуть в квартиру снятый с ноги ботинок. Потом поглядел наверх и вскрикнул.
Горестный вопль, будто стон раздавленной грузовиком собаки, звук, который не ожидаешь услышать от взрослого мужчины, сразу и бесповоротно убедил меня, что происходящее не весело, а ужасно. Страшнее, чем белоглазая бабушка Фаня и однорукий цыган в переходе. Всё-таки я не убежала: боялась двинуться и нашуметь. Ведь у Нины Ивановны был абсолютный слух.
– Сними проклятье, Нина! – взмолился сосед. – Маша умерла в позапрошлом году от разрыва матки. На другие сутки и дочь… Обеих похоронил. Потом с её сестрой сошёлся. Три выкидыша было. Сейчас в реанимации лежит: воспаление лёгких. Беременная. Помрёт!
Музучительница не ответила.
– Дай хоть на детей глянуть, – попросил после очень долгого молчания Станислав Васильевич.
– Ты им больше не отец.
– Алименты выплачу, не переоформил в том году, когда на завод перешёл…
– Нам и не надо, справляемся. Про детей забудь, – счастливым голосом посоветовала соседка. – И сюда больше не ходи, хуже будет.
– Куда уж хуже?
– Бывает-бывает. За всякой бедой худшая прячется, – певуче отозвалась Нина Ивановна. И добавила непонятно: – Сколько пальцев на ногах у тебя? Десять или поменьше уже?
Снизу послышались пугающие гулкие звуки. Как будто муж соседки заплакал. А может, захохотал. Что за бред, причём тут пальцы?
Ночью приснился мне на пианино вместо фотографий и вазы с сухими цветами длинный узкий гроб. В нём – сосед Станислав Васильевич. Одет, как положено мертвецам, в костюм, в хорошую рубашку. Но в одном ботинке. Наверное, второй проник в прихожую и там пропал среди резиновых сапожек и ветхих тапочек. Если влезть на полированный стул-вертушку, стоящий напротив первой октавы, было видно, что на ноге у соседа только два пальца. На месте остальных – гниющая рана, мёртвая плоть. На несвежем дырявом носке копошились жирные мухи.
Неделю я заниматься музыкой отказывалась наотрез. Тогда у мамули случился гипертонический криз. Как всегда, когда я забывала сходить за хлебом, схватывала трояк по географии или теряла ключи. Кризы, особенно гипертонические, следует запретить Женевской конвенцией или заменить более гуманной штукой – ремнём. Сравнивала! Ремень не такой унизительный.
Последовала немедленная капитуляция с моей стороны. Пришлось просить прощения за прогулы. И таскать вниз пирожки с луком и печеньки, первый кулинарный опыт. Твёрдые, помню, получились. Как пуговицы. Выходила я от соседки осторожненько, но никто за дверью не сидел.
То есть…
Больше музучительницу бывший супруг ползком не навещал. Но иногда мелькала неясная стремительная тень, что-то появлялось и пряталось. Или вовсе ничего… Лучше не присматриваться.
Зимой нам пришлось продать «Красный Октябрь». Теперь нужно было проситься разучивать этюды самостоятельно, в неурочное время. Я пользовалась тем, что никто не слушает, и подбирала песни БГ – примитивно, аккордами. «Город золотой» почти получился, до припева. Для такой беспрецедентной глухомани – подвиг! Когда казалось, что «огнегривый лев» становится похож на правду, незаметно подгребал сопливый мерзавчик Федя, музучительский сынок, и трескал кулаком по субконтроктаве. Возвращал в русло суровой реальности!
Вечерами наши мамы пили чай и вели неспешные, скучнейшие беседы. О физике.
О брошеном камне и кругах по воде, о действии и противодействии, третьем законе Ньютона и о теории вероятности. В других квартирах народ, затаив дыхание, наблюдал за финальными корчами СССР или болел душой за рабыню Изауру. И только у нас заходила речь о правилах механики. Впрочем, я не особенно прислушивалась. Вспоминается смутно:
– А не вернётся ли сделанное? – хотела знать мама. И пояснила, бросив озабоченный взгляд на малышей, – Несчастья, за которыми к тебе народ ходит. Вот ударит оно по тебе в ответ, что с детьми станет?
– Маловероятно, – задумчиво отвечала Нина Ивановна, высасывая крошки из дуплистого зуба. – С чего бы? Народ со злом приходит и получает по заслугам. Я только проводник. Или усилитель.
– Ну а если всё-таки…
– Не дёргайся, Нюся!
Моя мама, Агнесса Карловна, в момент обрусела от такого обращения. Мастерица была соседка наша на клички и странные сокращения имён! «Нюся»! Я хихикала себе в раскрытую книжку, которую малышня пыталась отобрать просто так, из вредности. А музучительница объясняла:
– Чтоб по мне ударило, нужно кровью наговор оборвать. Не просто собой пожертвовать, так многие сделать готовы, чтоб побольше выторговать для любимых, чтоб наверняка желание сбылось. Вот только если исхитриться кровью сам смысл у наказания отнять… Тогда да. Опасно. Но уж очень мудрено. Боишься?
– Боюсь, – признавалась моя отважная мать, которая отступала лишь перед одной-единственной угрозой – моими хроническими отитами.
– Не берись, раз так, – с улыбкой советовала соседка, прихлёбывая из трофейной чашечки мейсенского фарфора. Их тогда оставалось две с неотбитой ручкой. – Понадобится – знаешь, как делать. Нам, женщинам, – загадочно предрекала Нина Ивановна, – рано или поздно приходится… замараться. Не за свои обиды, так чтобы детей из грязи вынести. Увидишь.
Странные получались разговоры, непонятные. Ну что такого жуткого в третьем законе Ньютона, например? Как ты что-нибудь тык, так и оно в ответ тык. Справедливость!
Весной мы снова поехали в сад.
Детвора резво месила грязь между дальних пней и коряг. И в два счёта наполнила пакет подозрительной грибной мелочью. Добычу нарекли «зимними опятами». А значит, нас ожидал суп! Домик на полянке показался заброшенней обычного. Но Нина Ивановна сняла замок, отворила окна и вновь завладела избушкой, оставленной таинственными силами зимы. Нам выдали грабли для расчистки грядок от старых листьев. Мусор скидывался, как обычно, в тёмный овраг с родником на дне.