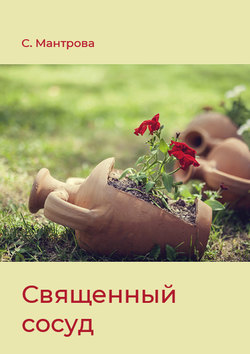Читать книгу Священный сосуд - Светлана Мантрова - Страница 4
Часть 1
Глава 2
ОглавлениеПлавно наступил период 1930-х годов, когда борьба с неграмотностью привела к открытию множества школ. На тот момент Ане исполнилось семь лет, и они с Катей незамедлительно были устроены в местную школу, где обучение длилось 4 года, а учителями работали комсомольцы-добровольцы.
Школы были деревянными. Входные ступени с перилами сооружены из дерева, двери из дерева, окна, парты, лавочки, учебные доски, полы и все прочее – из дерева. То была обитель жуков-короедов, настойчиво грызущих деревянную плоть, так же как ученики грызут преподаваемый гранит науки. В классе находились парты, на которых стояли чернильницы-непроливайки, а из специального углубления торчали карандаши и перьевые ручки. Ученикам выдавали бумагу для письма, где они старательно выводили кривые каракули. Дети сидели на твёрдых лавках и глупо смотрели в сторону доски, на которой учитель рисовал пока ещё непонятные значки, а на его столе стояли глобус и счёты.
В школу Фрося собирала девочек тщательно. Два раза в неделю делала им маски для волос из яичного желтка или крапивной настойки, чтобы их косы были густыми и блестящими. Она просто разбивала яйцо и втирала желток в крепкие корни волос своих девочек или растирала в ладонях зелёную крапивную жижу и проглаживала ими всю длину. После проделанной процедуры девочки спорили, чья коса гуще и длиннее.
Проводились и отдельные уроки для старшего населения в возрасте от 15 до 50 лет. В некоторых сёлах школ в отдельных домах не было, но были организованы специальные места, где люди сидели на табуретках и пытались понять буквы и цифры, которые учитель виртуозно рисовал на маленькой раскладной доске с двумя ножками.
Дети, которые хотели учиться дальше, должны были посещать школу старших классов, там период обучения длился семь лет. Такие школы находились в городах, ближайший к Сухорабовке находился в нескольких километрах.
Идти нужно было пешком через лес, независимо от состояния здоровья и климатических условий. То был путь для ребят постарше, которым по дороге к знаниям предстояло пройти через некоторые испытания, и пока их не стали настигать неудачи, они беззаботно веселились по дороге домой. Зимой они «купались» в огромных сугробах, высотой достигавших пояса (иногда занятия пропускались, если тропинка не была протоптана); весной шлёпали по ручейкам и лужам; летом валялись в высокой траве, а осенью шуршали ароматными листьями и собирали их для гербария, мастерство создания которого уже постигли в школе.
Так продолжалось, пока одна девушка не пропала…
То было зимой. Рассказывали, что накануне пропажи она собиралась идти на рынок и звала с собой подругу, но та отказалась. Её стали искать в окрестностях тропинки, ведущей в город, той самой, по которой и дети ходили в школу, и когда нашли останки, поняли, что в стужу она замёрзла, и волки обглодали её тело, оставив на память родным лишь валенки и рукавицы.
После того мама Фрося запретила своим детям ходить в старшую школу, говорила: «Не пойдёте, не то замёрзнете где-нибудь», а группировки из молодых школяров распались, ибо некоторых стали забирать родители на лошадях, а другим также запретили столь опасные походы за знаниями.
Но случалось ещё и не такое…
Политика того времени диктовала жёсткие условия, требующие сильной и хорошо подготовленной армии, так как после Гражданской войны 1917 года государство сильно ослабло, многие высокопоставленные военачальники эмигрировали за границу, ещё часть военнослужащих погибла. В связи с таким положением началось формирование новой Красной армии, пик развития которой пришелся как раз на 1930 год.
В армию призывали всех крестьян в возрасте от 17 до 60 лет. Те времена были переломными в истории России, соответственно, служба протекала нелегко, и более слабые личности ломались под гнётом и прессом силы старших солдат и военачальников. Из армии сбегали солдаты-дезертиры. Сбегали по разным причинам. История одного из них стала известной благодаря его матери, которая спасла юного сына от смерти и спустя много лет предала его письмо огласке.
После полугода прохождения службы сын написал ей письмо о том, как ему плохо. О том, как сильно его мучают и бьют, как заставляют делать разные глупости, не дают спать и отнимают еду. Писал, что после этого письма спрячется где-нибудь, и если его найдут, то это письмо последнее, но если не найдут, он будет ждать свою мать, а если она не приедет, то он закончит жизнь самоубийством, ибо нет больше сил терпеть происходящее.
Бедная мать сразу после прочтения собрала узелок и поехала на первом поезде в часть, где с порога стала кричать, чтобы её отвели к командиру. Показала письмо и угрожала, что отправит его самому Сталину и сотрёт всех начальников с лица земли, если с её сыном что-нибудь случится. Мальчишку искали несколько дней. Он прятался на крыше и не спускался, пока не услышал голос матери. Не верив своим ушам, ещё несколько минут он сидел на корточках и прислушивался, а потом спрыгнул и бросился в её объятья.
Вопрос решили так: мать отправили домой и оплатили все расходы, а сына перевели в другую часть под строгим контролем руководства, где он спокойно отслужил и вернулся домой живым и невредимым, что также контролировалось военачальниками обеих частей. Мальчишка тот никого не сдал, он просто был счастлив своему спасению, и остаток службы вёл себя достойно с новобранцами.
Но сколько подобных историй, об исходе которых нам ничего не известно. И что случилось бы с этим парнем, если бы мать струсила, или не получила письмо, или была бедной и не смогла купить билет… Или жила за тридевять земель, и поезда не ходили бы до пункта назначения.
Как бы там ни было, не каждый солдат выбирал подобный путь к спасению, и кто знает, может, дезертирство было для них лучшим вариантом. Сбежавшие прятались в лесу, через который проходили тропинки, ведущие школьников к знаниям. Для того чтобы выжить, спастись от голода и прочих внешних напастей, они шли на любые доступные воображению поступки, начиная от простого воровства и заканчивая самыми ужасными делами.
Нередко во время поисков сбежавших недалеко от таких тропинок солдаты находили трупы. То были изнасилованные женщины, раздетые и избитые молодые люди, ограбленные старики. Дезертиры нуждались во всем и раздевали бедных путников до нитки зимой, нападали и грабили в остальные времена года. Каждый из них понимал, что смерть может настигнуть его рано или поздно, и выбирал, умрёт он голодной смертью, будет разорван на части зубами волков либо впадёт в холодное оцепенение под зимней вьюгой, но никогда дезертир не выбирал вернуться.
Трудности службы усугублялись политикой, связанной с переводом коренного населения с полукочевого на осёдлый образ жизни, по этой причине в Казахстане наступил голод.
Такая обстановка повлияла на уровень дедовщины в войсковых частях: у новичков отнимали еду, сильно избивали и угрожали, и им нередко приходилось воровать остатки живности со дворов крестьян, за что некоторые новобранцы платили собственными жизнями.
Голод наступил оттого, что правительством не были продуманы последствия массового сгона скота в специальные скотоводческие городки, и его большое скопление создало цепочку трагичных событий. Для того чтобы прокормить весь скот и тех людей, которые резко переселились в конкретное место, необходимо было огромное количество провизии и сельскохозяйственных запасов, но они мгновенно закончились, и есть стало нечего ни животным, ни людям. От этого и те, и другие стали погибать, а оставшиеся в живых казахи с остатками своего скота вынуждены были кочевать в другие места, чтобы спастись, или резали живность, что привело к катастрофическому сокращению поголовья и полностью расстроило крестьянское хозяйство. В связи с этим численность казахского населения резко сократилась, а оставшиеся люди стали умирать от голода или перемещаться в новые земли.
Данные события немного коснулись и семьи Пунько. Ситуацию спасало хорошее положение отца, который один содержал всю семью (об этом немного позже).
Фрося нигде не работала. Она занималась воспитанием детей и содержанием дома и хозяйства в чистоте и порядке. Во всём ей помогали дочери, с которыми она очень любила ходить по ягоды в одно сказочное местечко под названием Черунова балка. Она готовила дочерям по одному ведёрку, а сама всегда брала два и с великим удовольствием наполняла их с горкой до краёв. Девчата бегали наперегонки и заходили всё дальше, соревнуясь, кто больше съест или быстрее соберёт. Казалось, им никогда не хватало ведёр, и если бы они были детьми-гигантами, то придумали бы огромную посудину, в которую поместили бы все ягоды этой поляны. Они срывали одну за другой и половину бросали в ведро, а другую съедали, отчего их языки были красными или синими. Ягодами они красили щёки, губы, а мама смеялась и закидывала в рот очередную горстку. Можно было приходить сюда каждый день, а ягод становилось всё больше.
Плоды Фрося сушила и убирала, а когда наступала зима, то в их доме всегда были свежий компот, сладкие вареники и разные вкусности.
Бывало, девочки далеко заходили, и мама учила: «Если заблудились, идите на закат». Так однажды и случилось с Аней, когда она отправилась по ягоды одна.
Как я уже говорила, в Казахстане много пересохших водоёмов, и вся поверхность земли состоит из котловин и балок. Видимо, в этом месте сотни или тысячи лет назад протекала большая река, раз после неё осталась такая красота. Балка была глубиной и шириной около пяти метров, а все её склоны были усыпаны разноцветными ягодами, словно кто-то порвал здесь яркие бусы, и они рассыпались по округе. Там росли кусты дикой малины, аромат которой разносился на несколько десятков метров, а всё пространство вокруг укрывала ярко-зелёная трава, и равнина была гладкая и бескрайняя на фоне голубого неба, как в прекрасном ярком сне.
Балка начиналась где-то далеко за горизонтом и плавно протекала сквозь густую чащу, входить в которую было запрещено. Когда девочки собирались вместе, то уговаривали маму зайти в неё и нередко находили там грибы и новые растения, но проходили совсем чуть-чуть и быстро возвращались обратно. Так как ноги несли их всё глубже и глубже, мама строго контролировала, чтобы девочки не заходили далеко, ибо боялась волков и ещё неизвестно каких напастей. К тому же ходили разговоры о том, что некоторые оттуда не возвращались, но теперь Аня была одна, и никто не мог запретить ей отправиться в неизведанные места.
Она сразу пошла вглубь, решив оставить сбор ягод на потом. Подняла голову – и её взору открылись могучие старые ели, с которых, словно волосы, тучно свисали мхи, и птицы разлетались оттуда в разные стороны. Пахло хвоей и свежестью, лучи солнца пронизывали пространство между листьев и временами ослепляли.
Пока Аня осматривала всё вокруг, ноги вели её вдоль балки, которая вдруг перетекла в огромный яр. Она остановилась на краю обрыва и смотрела вниз, приглядываясь к следам чьих-то маленьких копыт. Здесь не было ягод и грибов, был только бескрайний хвойный лес, и Аня пошла по краю яра, все дальше и дальше углубляясь в чащу, пока не поняла, что заблудилась. Как могло такое произойти, было непонятно, ведь она всё время шла прямо и никуда не сворачивала. Наверное, когда на другой стороне обрыва появилось продолжение балки, Аня перепутала направления и пошла дальше, думая, что идёт обратно. Как бы там ни было, солнце стало садиться, и нужно было срочно выбираться из леса.
Полностью потеряв ориентиры, Аня судорожно глядела по сторонам, пытаясь вспомнить мамины советы. Когда-то давно Фрося рассказывала девочкам про старую заброшенную мельницу, верхушку которой видно издалека, если присмотреться внимательнее. Аня упала на колени и трижды прочитала «Отче наш», после чего встала и бродила вокруг да около, пока её взор не остановился на спасительной мельнице. Когда она дошла до неё, то поблагодарила Господа за помощь и направилась в сторону дома, обретя в тот день искреннюю веру, которая вросла в юное сердце корнями и углублялась на протяжении всей жизни.
Дома Аня подошла к иконе и, взяв в руки маленький глиняный кувшинчик, снова помолилась всем святым о спасении, поцеловала его и поставила на место с полной уверенностью в том, что здесь он будет стоять всегда и уберегать семью от бед и ненастий.