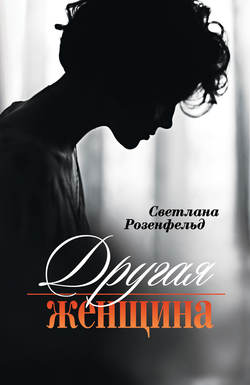Читать книгу Другая женщина - Светлана Розенфельд - Страница 2
Часть 1
Правильная женщина
ОглавлениеИрина проснулась в девять часов утра, достаточно рано для «совы», особенно если учесть, что накануне она читала в постели до трех часов ночи, потом долго не могла уснуть, думая о том, чего сейчас не могла бы вспомнить. Так что девять часов – это рань ранняя. Она бы и не проснулась, но ее разбудили. Бывает так: ты спишь, и вдруг в спальню кто-то входит, тихо так, молча движется по комнате, заглядывает в углы, дышит, суетится, и ты просыпаешься, чувствуя, что рядом кто-то есть. Короче говоря, Ирину разбудило солнце. Оно ударило снаружи по плотно задернутым шторам, прорвалось сквозь мельчайшие отверстия между нитями, разбилось на части и заметалось по комнате пятнами, каплями, брызгами и волнистыми линиями. А тут еще в узкую щель между сомкнутыми половинками штор пробился мощный луч и заскользил по полу, как светящаяся указка, утыкаясь то в тумбочку, то в туалетный столик, то в кровать, вибрируя и нарушая покой. А в раскрытую форточку влился принесенный ветром запах сирени, залил все, что оказалось на его пути, и воздух перестал быть незаметным, в том числе и для спящего человека.
От всей этой суеты Ирина и проснулась. Она, возможно, повернулась бы на другой бок и добрала недостающую пару часиков, но на противоположной от кровати стене солнечные кусочки сложили не то славянской вязью, не то японскими иероглифами одну известную русскую поговорку и протянули ее по обоям, как баннер: сорок лет – бабий век. Буквы, конечно, быстро рассыпались и потеряли очертания, но, как говорится, осадок остался. Правда, ненадолго. Потому что Ирина тут же проснулась окончательно и сразу ощутила себя в центре волшебной солнечно-сиреневой сказки и почувствовала знакомую с детства радость, которая не вянет ни от каких грубых намеков: сколько бы ни отстукало ей лет, день рождения всегда оставался для нее праздником. Это ведь для кого как. Кто вообще об этом своем дне не вспоминает, кто огорчается, что много прожито, да мало сделано, кто тоскует об уходящей молодости, а кто – просто радуется. Без всяких пафосных мыслей типа: какое счастье, что я пришел на этот свет! Радуется своему самому личному дню в жизни…
Вставать не хотелось, да и ни к чему было. Кто-то сказал ей недавно, что сорокалетие лучше не отмечать – плохая, мол, примета. Не то что она полностью поверила, но как-то задумалась и решила, что с этой датой лучше обращаться с осторожностью. Поэтому сегодня никаких праздничных торжеств не предвидится, тем более что будний день. С вечера она прикупила кое-каких продуктов, кое-что приготовит, а вечером придут дети, вся семья будет в сборе: именинница, то есть она сама, муж Володя и двойняшки Андрюша с Леночкой.
Ирина лежала на спине, пытаясь разгадать постоянно меняющиеся вокруг солнечные кроссворды, и вспоминала. Где-то она читала, что склонность к воспоминаниям – очевидный признак старения, но если так считать, то стареть она стала уже давно, любила перебирать свои воспоминания, как подросшая девочка, разбирающая ящик со старыми, дорогими для нее куклами. Разве же это старость? Это, вообще говоря, можно назвать любовью к жизни, хотя Иринина-то жизнь содержала не так уж много ярких сюрпризов. И все-таки она читала ее каждый раз с удовольствием, как скучноватые, на первый взгляд, рассказы Бунина, внутри которых таились необъяснимые, лично читателя касающиеся красота и правда.
Почему-то она плохо помнила дни рождения своего детства, от которых остались лишь отдельные детали и общее чувство праздника. Она не помнила тех детей и взрослых, которые усаживались в этот день вокруг круглого стола в большой светлой комнате, не помнила разговоров за столом и подарков, которые получала и которые, как ей теперь казалось, не имели для нее большого значения. Скорее всего, это были книги, известно же, что «книга – лучший подарок». Книги она все прочитывала, но не научилась еще тогда радоваться их приобретению. Впрочем, некоторые сохранились до сих пор. И. С. Тургенев «Записки охотника» – «Дорогой Ирочке в день рождения от Люсе», красивым детским почерком, на титульном листе, с ошибками, не замеченными проверяющей дочкину писанину мамашей.
Короче говоря, дело было не в подарках. Когда ее спрашивали, что же дарила ей собственная мама, она тоже не помнила. Кукол, наверно? Или кукольную мебель? Или детский сервиз – был у нее такой. Неважно. Мама дарила ей праздник и ощущение Ирочкиной значительности, значимости ребенка, сидящего в центре за столом, слушающего обращенные к нему слова и воспринимающего эти слова как проявление искренней и постоянной любви. Но это, конечно, по большому счету. А по мелочам – специально по случаю праздника вымытые окна, натертый до глянца паркет, запах пирогов с капустой, прямоугольное здание, напоминающее блочную «хрущевку», торта «Наполеон» и круглые домашние эклеры, которые всегда приносила с собой какая-то тетя Валя. И мамино лицо, от которого остались в памяти не внешние черты, а лишь свет радости и любви.
Папы в семье не было. Банальная история: узнав о предстоящем рождении ребенка, он позорно бежал, предварительно, впрочем, поставив условие: я или он (как потом выяснилось, она, дочка). Ксении Алексеевне было тогда почти сорок, последний шанс, поэтому она выбирать не стала, природа сделала выбор за нее. Папаша исчез абсолютно и бесповоротно, а мама осталась одна со своей дочкой Ирочкой, со своим счастьем, которому она намерена была служить всю оставшуюся жизнь.
«Я отдала тебе жизнь, а ты!..» – так они говорят, эти полоумные матери, которые полностью растворяются в любимых чадах, а потом ждут от них благодарности. Ксения же Алексеевна не отдала-таки дочери себя полностью и, если уж на то пошло, не оторвала от себя для Ирочки лучшие куски – она жила. Работала в каком-то НИИ переводчиком, выступала с докладами на собраниях, участвовала в праздничных вечеринках, ходила в театры, на концерты, на выставки – и во всех этих делах хоть какой-то своей частью всегда присутствовала Ирочка, потому что Богу было угодно соединить накрепко две жизни в одну, как две ветки на одном дереве, которые могут расти в разные стороны, по-разному развиваться и при этом крепко держаться общего ствола и питаться общими корнями. Можно было, конечно, превратить дочь в икону, повесить в красном углу и молиться на нее денно и нощно. Но разве поступают так верующие люди? Икона – это надежда, свет, иногда – перст указующий, но не клетка, держащая человека в железных тисках.
Так они и жили, соединенные неведомыми силами в одно целое, что вовсе не исключало Ирочкиных капризов и маминой порой строгости, но одновременно дарило дни рождения, подарки, разговоры о том о сем и проблемы, о которых Ирочка обычно знала и даже позволяла себе давать советы, довольно, впрочем, беспомощные.
Единственным вопросом, оставленным за скобками их отношений, была мамина личная, то есть интимная жизнь. По всей видимости, она отсутствовала, во всяком случае, Ирочке об этом не было известно ничего, кроме одного случая. Ей было лет тринадцать, когда в доме стал появляться мужчина, дядя Саша, мамин друг, который иногда пил с ними чай, чинил электроприборы, вбивал гвозди, если была нужда, а потом уходил, послав Ирочке воздушный поцелуй. Иногда он задерживался допоздна, когда Ирочка ложилась спать на своем диванчике – они разговаривали тихонько о чем-то, а она делала вид, что спит, но не могла заснуть, тревожимая какой-то тайной, которую не могла разгадать. Она не подслушивала, но однажды, почувствовав, что стоит на пороге раскрытия этой тайны, напряглась и услышала. Дядя Саша делал маме предложение руки и сердца, а мама отвечала что-то совсем тихо, нежно, и улыбалась, и светилась, и всё это было очень красиво, как в кино. А потом мама сказала:
– Но у меня ведь дочь.
– Ничего страшного, – спокойно ответил дядя Саша. – Она мне нисколько не помешает.
– Не помешает? И всего-то? Нет, Саша, так у нас не получится.
Больше дядя Саша не появлялся. И не было больше никаких женихов. Во всяком случае, Ира о них не знала.
Ну так вот. О днях рождения, которых к сегодняшнему дню накопилось ровно сорок и от которых в памяти остались только чувства, но не сохранилось никаких ярких картинок. Те, совсем детские, ладно – истончились от времени, вылиняли на солнце и дожде последующих лет. А вот другие, подростковые, шумные компании, с радиолой, гитарой и танцами, – они-то где? И в старших классах школы были тот же круглый стол, и угощения, и праздничное настроение – но те же мамины друзья, иногда со своими детьми, с которыми у Иры не было ничего общего, и никаких молодежных компаний. «Мамочка, ты не можешь уйти сегодня? Мы тут хотим собраться». Конечно, не вопрос, Ксения Алексеевна ушла бы, наготовив предварительно вместе с дочкой кучу вкусных вещей. Беда в том, что компании не было. Впрочем, какая беда? Ире и так было хорошо. А теперь вдруг, в ленивом утреннем безделье, еще не совсем проснувшийся, но помудревший сорокалетний мозг подбросил Ирине тему для размышлений – так, мимоходом, не успев испортить настроения, но чуть-чуть сдвинув в сторону праздник солнца и сирени, как стул, стоящий на своем месте, но почему-то помешавший в данный момент движению.
У нее не было компаний, потому что не было друзей. Ну, одна-две подружки – иногда приготовить вместе уроки, поболтать, сходить в кино. Но у этих одной-двух подруг были еще друзья, и другая жизнь, и какие-то мелкие приключения, и даже интриги, отзвуки которых доходили до Ирочкиных ушей и улетали, почти не замеченными. Одна-две подруги не делились с ней своей другой жизнью, и лишь став взрослой, она догадалась, в чем дело. Она была правильная. Хорошая девочка, маменькина дочка, отличница. Отличник – главная отрицательная черта любого ученика. Да ладно бы подарила ей судьба какую-то особую одаренность, талант, мгновенную сообразительность, схватывание на лету. Нет. Не тупая, конечно, но соображающая медленно, мучительно, запоминающая прочитанный текст только с третьего раза, пишущая грамотно благодаря заучиванию правил и постоянному тренингу. Кто сказал, что она должна быть отличницей? Никто не говорил, так получилось само собой, потому что она родилась правильной, не бросала задачу, которая не получалась, а думала и думала, пока не закипал мозг, и решала в конце концов – ну не тупая же! И даты по истории повторяла, пока не запоминались. И к каждому уроку английского языка вспоминала заученные ранее слова и буквосочетания.
Отличница из класса в класс. Но позвольте, позвольте, товарищи! Чем плоха такая отличница, которая подсказывает отвечающему у доски, помогает на контрольных и всегда дает списать? Вот задали трудную задачу, она сидит над ней полночи, а потом приходит в класс, и самые способные – которые не хотят думать, если на это требуется более получаса, – самые способные кричат первыми: «Ирка, задачу решила?» Ну да, решила, вот, списывайте.
И не только это. Если всем классом убегали с урока нелюбимого учителя, – она убегала тоже, даже если никаких претензий к наставнику не имела. Если надо было заступиться перед директором за какого-нибудь набедокурившего ученика – ее, как лучшую ученицу, просили возглавить делегацию защитников, и она возглавляла, хотя и молча. Она была не гордой, не заносчивой, скромной отличницей, но… До последнего класса ходила в школьной форме, волосы, поделенные на прямой пробор, переплетала сзади в «корзиночку» из двух косичек, стригла ногти ножницами; желая ответить на уроке, не тянула руку через весь класс, а ставила на парте на локоть, никогда не грубила, а на школьных вечеринках скромно стояла у стенки и краснела, когда кто-то приглашал ее на танец. Впрочем, приглашения случались редко, и чаще всего она на вечера не ходила.
Скромная девочка? Нет, ребята, правильная девочка. Не для компаний и активной озорной дружбы.
Ира, правда, нисколько не страдала от такого к себе отношения. Она тогда еще не научилась оценивать себя, к тому же была полностью поглощена двумя главными своими делами: учебой, само собой, и занятиями в литературном кружке Дворца пионеров. Так получилось: она писала стихи. Тайно, конечно, читала их только маме и поэтессой себя не мнила. А тут увидела в школе объявление: творческая студия Дворца пионеров принимает юных поэтов. Ей стало интересно: какие такие юные поэты? Она, посоветовавшись с мамой, сходила на разведку, и выяснилось, что принимают не всех, а только достойных. Всем пришедшим предложили прочесть несколько своих творений, а потом одним сказали «да», а другим «нет», то есть до свидания. Ира оказалась в группе «да». Никаких шедевров она пока не создала, но обратила на себя внимание точностью рифм (иногда, правда, глагольных) и четкостью соблюдения стихотворных размеров. Кстати, насчет размеров – интересно. В пятом или шестом классах школы программа изучения литературы предусматривала овладение основами стихосложения. Зачем? Ну как зачем? В пушкинском Лицее тоже обучали всех лицеистов этим навыкам. Не то общую культуру развивали, не то расширяли кругозор, не то Пушкина прозревали. А мы, советские люди, хуже, что ли? Советская земля тоже может рождать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов».
Так вот. Дети с этой темой справлялись трудно. Не то что не могли «отличить ямб от хорея», но вообще не понимали, как и почему в одном слове может быть три ударения, и почему грамматическое ударение не всегда совпадает с ритмическим, и как получаются эти ритмические кусочки внутри строки («стопы», по-ребячьи, – «пятки»), которые одинаково повторяются и придают стихотворению звучание. А Ира почему-то сразу всё поняла, отщелкивала «стопы», как семечки, и учительница несколько раз вызывала ее к доске, чтобы объяснила «этим недоумкам» простые вещи. Ира, впрочем, подозревала, что литераторша сама не совсем была в курсе дела.
Девочка, читающая гладкие, ритмически организованные стихи, не рифмующая «земля-страна», грамотно строящая фразы, конечно, заслуживала внимания и могла бы стать украшением студии. И стала через некоторое время – она всегда была отличницей.
Руководил студией старый известный поэт, немного нудный внешне, но внутренне одержимый любовью к поэзии и детям. Он читал им стихи знаменитых поэтов и поэтов современных и рассказывал о них, об их жизни и характерах. По воскресеньям он водил своих студийцев в Эрмитаж или Русский музей, а потом давал им задания: описать увиденную картину, или предложить свой вариант сюжета, или отыскать неизвестный факт в биографии художника – и задания эти вовсе не походили на школьные, да их можно было и не выполнять, хотя все обычно выполняли. Иногда они ездили за город или просто гуляли по городу, по набережным Невы, и он учил их видеть, чувствовать, понимать красоту и обнаруживать ее даже в уродстве. У себя в студии они обсуждали написанное товарищами, иногда зло, не думая о ранимости души автора, а руководитель в конце подводил итог обсуждения и умел вселить в раненую душу надежду. К официальным городским или общесоюзным праздникам студийцы получали социальный заказ: коллективно сочиняли всякого рода поздравительные и приветственные стишки, которые затем юные пионеры звонкими голосами и с подчеркнуто артистическими интонациями дарили участникам какого-нибудь собрания, слета или торжественного заседания. Стишки должны были содержать некоторую долю юмора, и писали их весело, крикливо и чуточку гордо: каждый гордился собой и статусом своей студии, которой можно поручать такие ответственные дела.
А потом старый писатель ушел на заслуженный отдых, и на смену ему пришел молодой, но тоже очень известный, потому что происходил из рабочей среды и был так талантлив, что стал членом Союза писателей. К тому времени студийцы под водительством мудрого старика поднаторели во взглядах на литературное творчество, кое-что кумекали и стихи своего нового руководителя оценили как средние. Однако учить творчеству и творить самому – вовсе не одно и то же, и юные поэты скоро этот факт осознали. Новый мэтр сразу попросил студийцев называть его Колей, без отчества, и не чиниться, потому что они здесь все на равных – собратья по перу. Собственно, этим комплиментом (если говорить о знаке равенства) дело и закончилось. Дальше пошла работа. Коля уже не старался просвещать своих учеников – возможно, был слабоват в собственном просвещении, – они теперь занимались только творчеством. Обсуждение написанного происходило жестко и бескомпромиссно, каждый собрат по перу считал свое мнение истиной в последней инстанции и смело его высказывал, не боясь ошибиться. Коля, в отличие от деликатного старика, углы не сглаживал, ничьи раны не латал, но резюмировал мнения «коллег» весело, не всегда понятно, однако дружелюбно, так что у истерзанного критикой собрата оставалась некая надежда на то, что его сейчас не поняли, но со временем поймут и оценят по достоинству. Ира же постепенно почувствовала себя отодвинутой в сторону, особенно однажды, когда Коля, прослушав несколько ее стихов – которые, между прочим, получили похвалу товарищей, – вдруг сказал совершенно серьезно и даже как-то скучно:
– У тебя все правильно, гладко, но ты каждое стихотворение как будто закругляешь. Ты ставишь в конце жирную точку, а надо бы, чтобы подразумевалось многоточие.
Смысл этой мутной речи до Иры сразу не дошел, а открылся лишь спустя месяц, когда в студию пришел новый мальчик Сережа, кудрявый голубоглазый блондин, получивший вскоре прозвище «Есенин», потому что и имя и внешний вид были подходящими, и стихи напоминали есенинские. Он был, конечно, немного эпигоном, но что-то не общее, не детское присутствовало в его стихах; не рассказы о школьных делах или великих мира сего, не стандартная грусть по уходящему детству – какое-то неясное чувство, какие-то необычные образы, и мелодия, и тайна. Ира не знала, так ли уж хороши «осень в красной косынке» или «дымом клубящееся небо», но в целом она смутно ощущала присутствие в этих строках поэзии, хотя никто никогда не давал ей конкретного определения поэзии, а она очень доверчиво относилась к конкретным определениям.
Она попробовала написать об осени. Получились золото, багрянец и изумруды. Она написала о весенних ландышах – получилось похоже на «светлого мая привет». А больше экспериментировать не захотелось. Нет, не на неделю, не на месяц. Вообще не захотелось, и она перестала ходить в студию, тем более что приближались выпускные экзамены и надо было думать о них.
Она не собиралась быть поэтом. Зато теперь она знала, что жизнь без книг – невозможна. Зато она хорошо умела писать стишки по случаю дней рождения и праздников. И еще – у нее была Катька.
Катька! Чудесная и ужасная Катька, лучшая и, может быть, единственная Ирочкина подружка. Ее первое появление в студии повергло присутствующих в шок. В комнату, где они чинно разместились вокруг длинного овального стола, она ворвалась, едва ли не открыв дверь ногой. По крайней мере, сложилось именно такое впечатление. Она ворвалась и стала на пороге, как статуя, чуть расставив ноги, разведя руки и задрав подбородок.
– Привет! – сказала она радостно и так запросто, как будто все ее знали и с нетерпением ждали.
– А это что за явление? – дружелюбно спросил мэтр, тогда еще не ушедший на пенсию.
– Катька, прошу любить и жаловать.
– Зачем пришла, Катька?
– Выступать. Стихи читать.
– Чьи стихи-то?
– Свои, конечно, – она полезла в похожую на офицерский планшет сумку, висящую через плечо. – Сейчас, тексты достану.
– Ты проходи, артистка. Только мы здесь не выступаем, мы учимся писать стихи.
– Поэтами не становятся, поэтами рождаются, – изрекла Катька.
– А ты родилась? – он улыбался, и студийцы начали понемножку подхихикивать.
– Кажется, да, – она скромно опустила глаза. – Можете проверить.
– Обязательно. Но не сегодня – сегодня у нас другие планы. Садись, послушай пока нас.
Она пожала плечами и села боком на стул.
В этот день занятия прошли не очень плодотворно: поэты – кто откровенно, кто исподтишка – рассматривали Катьку. И было на что посмотреть! Коротко стриженные, торчащие во все стороны волосы цвета свежей соломы; красно-зеленый свитер; длинная пышная юбка серо-зеленого застиранного оттенка; грубые мальчишечьи ботинки на толстой подошве. Черты лица ее в принципе не имели значения, потому что подавлялись его нахально-радостным, самоуверенно-кокетливым выражением. Какое это было лицо? Лицо Катьки – вот и все подробности.
В конце занятий осталось все-таки немного времени, и мэтр попросил вновь прибывшую рассказать о себе и прочитать одно стихотворение – для знакомства. Катька тут же встрепенулась, подвинулась на стуле и прочно угнездилась на сиденье, поставила локти на стол и начала рассказывать короткими отрывистыми фразами, гримасничая пальцами и победно оглядывая присутствующих.
– Ну, это самое… Значит, так. Я – внештатный корреспондент газеты «Ленинские искры». Опубликовала одиннадцать очерков, восемнадцать корреспонденций и двадцать два интервью. В прошлом году получила премию на конкурсе юных журналистов. У меня очень хороший слог и нестандартное умение добывать информацию.
В этом месте была сделана пауза: возможно, ожидались аплодисменты слушателей. Их не последовало, и Катька, пожав плечами, продолжила:
– Стихи пишу с рождения, говорят, в младенчестве плакала в рифму. Постоянный автор газеты «Ленинские искры» – десять публикаций стихов. Две публикации в Москве, в «Пионерской правде». Мой литературный псевдоним – Катюша Золотова. Ну, короче, вы должны знать.
Никто не знал никакой Катюши Золотовой и не читал газет «Ленинские искры» и «Пионерская правда». Поэтому собратья по перу молчали, с интересом ожидая продолжения спектакля.
– Короче, начинаю читать тексты.
Она достала из своего планшета толстую пачку листов и сразу включилась в чтение, как будто щелкнули выключателем. Читала она громко, отрывисто, не делая упора на содержание, но подчеркивая голосом сложные рифмы. Рифмы, очевидно, были ее коньком. Содержание же пряталось в тумане, из которого нет-нет да выскакивали странные образы, указывающие на уникальность данного дарования. Море Катюша Золотова называла «шизофреником в стадии ремиссии», а неустойчивый по направлению ветер сравнивала с трехногой табуреткой. Было очевидно, что этого автора в студию примут, ибо она сама в этом не сомневалась.
– Спасибо, – сказал мэтр, когда длинное стихотворение о сумасшедшем море исчерпалось до последней капли. – Достаточно для начала.
Катька и бровью не повела. Взяла следующий лист и затарахтела, как трактор. Слушатели с ужасом наблюдали, как растет на столе пачка прочитанного, а пачка непрочитанного почему-то не убывает. Наконец мэтр протянул руку, молча отнял у поэтессы все ее творческое наследие и погрузил в свой портфель.
– Мы поставим тебя в план обсуждений. Тогда еще почитаешь и поговорим подробно, – улыбнулся он.
– Каких обсуждений? – не поняла Катька. – Тут все ясно. А пока что я не закончила.
– У нас закончилось время занятий.
– Ну и что? Я еще с коллегами не познакомилась.
У мэтра, кажется, лопнуло терпение. Он встал, остальные тоже задвигали стульями, засобирались. Катька дернула плечом и направилась к двери.
– Мои тексты не пропадут?
– Я почитаю дома. И постерегу, – успокоил ее мэтр и покачал головой…
Катька не пропускала ни одного занятия, но у нее был личный график посещений. Она никогда не являлась к началу, опаздывала то на полчаса, то на час, а иной раз возникала на пороге к финалу, удивленно рассматривала собирающих свои пожитки «коллег» и невинно спрашивала:
– Закончили? А чего так рано?
График ее ухода тоже был личный и, как говорится, скользящий. Иногда сидела до конца, а потом срывалась и убегала, никого не ожидая, не затевая никаких разговоров и даже не упаковав в свой планшет вечно сопровождавшие ее пачки «текстов»: совала их под мышку и уносилась прочь, как на пожар. Бывало, что она вскакивала в середине занятия и, поиграв в воздухе пальцами (пока, мол, коллеги), исчезала за дверью. Главное же, она категорически отказывалась «обсуждаться», демонстрируя незыблемую уверенность в своем таланте, который не нуждался ни в чьих оценках, а тем более в критике. Некоторые студийцы подозревали, что она просто трусила, но это были ничем не подтвержденные подозрения.
На «обсуждениях» же других авторов она присутствовала с готовностью, слушала внимательно и заинтересованно, иногда хмурилась, иной раз улыбалась во время чтения, но никогда не выступала в прениях, а если спрашивали ее мнение, коротко отвечала цитатой: каждый пишет, как он слышит. Такое уважение к творчеству товарищей могло бы украсить плюсом непредсказуемость и невменяемость ее поведения, если бы не абсолютное неуважение к коллективным суждениям, в том числе и мнению руководителя, по поводу литературы в целом, поэзии в целом и прочих общих вопросов. Почти каждая такая дискуссия сопровождалась ее громким и настырным включением, протестными выкриками и в конце концов возмущенным побегом с поля битвы и громоподобным хлопаньем дверью. А на следующее занятие она приходила как ни в чем не бывало, и, удивительное дело, никто не возмущался, не поминал ее хамство, а наоборот, все радовались: Катька пришла. Ее любили. Но странною любовью. Так некоторые ненормальные любят живущего в доме тигренка или другое экзотическое животное: преданно, необъяснимо и с опаской. Но то – ненормальные. Впрочем, поэты – они разве нормальные?..
Однажды случилось необычное: Катька почему-то никуда не спешила и вышла на улицу со всей компанией. В метро разделились на группы – кому в какую сторону ехать. Ира оказалась вдвоем с Катькой, а потом они вышли вместе на одной станции, а потом пошли пешком и обнаружили, что живут на соседних улицах, считай, в двух шагах друг от друга. Этот ничем не примечательный факт почему-то произвел на Катьку впечатление чуда, в результате ее личный график посещения студии сошел на нет и осталось одно незыблемое правило: вдвоем с Ирой туда и с ней же обратно. (В этом месте Ирининых воспоминаний как-то бесконтрольно выскочило слово «правило». Вероятно, не случайно. Правильная Ира чем-то привлекла неправильную Катьку. Возможно, сработало еще одно правило, физическое: разноименные заряды притягиваются…)
Какое счастье, когда у тебя есть подруга! Не одноклассница, не приятельница или хорошая знакомая, которые придут на помощь в трудную минуту, или совет дадут, или даже посплетничают с тобой для облегчения души, – это все, конечно, замечательно, Но подруга… Она есть – и ее как бы нет. Она совсем не похожа на тебя, но ты чувствуешь себя ее частью, а ваша помощь друг другу, если это нужно, не расценивается вами как нечто особенное, требующее специальной благодарности, а вытекает сама собой из близости как ее естественное проявление и продолжение. Подруга, которой можно позвонить по телефону без всякого повода, просто набрать номер и спросить: «Что делаешь?» А она расскажет о какой-нибудь ерунде, и вы зацепитесь языками и будете трендеть до тех пор, пока какая-нибудь соседка не намекнет весьма недвусмысленно, что в коммунальной квартире телефон – общественное достояние и должен использоваться строго по делу. А еще можно, выбежав в магазин за хлебом, заскочить на соседнюю улицу, позвонить в дверь на четвертом этаже, а когда тебе откроют, не объяснять, зачем пришла, а просто скинуть обувь и пальто, пройти в комнату, усесться с ногами на диван и спросить подругу: «Ну чего?» Да ничего. Мама в больнице на дежурстве, уроки делать неохота – и пошло-поехало. Можно, конечно, и повздорить – особенно если одна безбашенная, а другая, правильная, с принципами, – а назавтра походя помириться, искренне забыв тему конфликта. А можно однажды из-за какого-то каприза или недопонимания, из-за мелочи, глупости, случайности рассориться в пух и прах, до одновременного разрыва всех связующих нитей – и потерять друг друга на всю оставшуюся жизнь…
С Катькой было просто. Ее дикие желания и поступки обычно не вызывали протеста в правильной Ире, и иной раз ей казалось, что это она придумала то или другое, а Катька одновременно подумала так же – и вот в тридцатиградусный мороз они тащатся на каток в ЦПКиО и там, на полупустой затуманенной морозом ледяной арене отмачивают акробатические номера, а когда становится жарко – разматывают шарфы, дышат полной грудью и орут от восторга. А потом, лежа в постелях, сраженные ангиной, хрипло перешептываются по телефону, вспоминая свою недавнюю клоунаду. Или в мае в первый жаркий день валяются на палящем песке под палящим же солнцем, а потом в разных домах и разных комнатах одновременно стонут под руками мамаш, втирающих кремы, или масло, или сметану в их обгоревшие малиновые тела…
Ксению Алексеевну Ирочкина дружба со странной Катькой несколько настораживала, поэтому она встречала новую дочкину подружку приветливо, называла Катенькой, приглашала к столу, но потихоньку приглядывалась и делала выводы. Выводы получались неутешительными, но мама знала свою дочь и старалась верить, что никто и ничто не свернет ее с правильного пути, скорее, она может оказать самое положительное влияние на любую заблудшую душу. Оптимистичная мама тогда еще не ведала, что дочь ее уже ступила на самую запутанную, самую тернистую, опасную и прекрасную тропу нашей непредсказуемой жизни…
– А парень у тебя есть?
Это, собственно, был один из первых Катькиных вопросов свалившейся на них с неба дружбы. Грозно спросила, как контролер на транспорте: ваш билет?
– Не-а, – робко ответила Ира, испугавшись, что ее сейчас вышвырнут из начавшего движение автобуса.
– Как нет? Так не бывает.
– Ну-у, мне нравится один мальчик, но он этого не знает.
– Как не знает?! – удивилась Катька.
– Это тайна, потому что я ему не нравлюсь.
– Он тебе это сказал?
Ире стало смешно: вот дуреха эта Катька.
– Как же он скажет, если понятия ни о чем не имеет?
– Да почему не имеет-то?
– Ты дура или прикидываешься? Мне что, на шею ему вешаться?
– Да. Только это иначе называется. За свое счастье надо бороться, – пояснила заштампованная корреспондентка газеты «Ленинские искры».
Штампы штампами, мысль выражать словами каждый может по-разному. Но в данном случае была выражена не только мысль. Ирочке была предъявлена идеология: жизнь – борьба, за свое счастье надо бороться и побеждать.
– Придется брать тебя на воспитание, раз ты такая умственно отсталая.
– Уж прямо отсталая, – обиделась Ира.
– Я неточно выразилась. Ты отстаешь в развитии. Но это поправимо. Тебе надо учиться жить. И вообще… становиться женщиной.
«Становиться женщиной» означало, собственно говоря, не вообще, а в частности. Но для Катьки технология борьбы за счастье строилась прежде всего на счастливой любви. С этого пункта она и начала Ирочкино воспитание, взяв в качестве образца свою уникальную историю.
Катькино «женское счастье» находилось у нее под боком, в соседней комнате коммунальной квартиры, и звалось Алексеем, студентом второго курса института. Со своим героем она, можно сказать, выросла с пеленок и имела возможность наблюдать его становление и развитие. Детские наблюдения были мало интересными и скорее отрицательными: вялый, ленивый мальчик, который всегда молчал, а если говорил, то односложно, растягивая слова. Он бесконечно медленно мыл руки под краном на кухне, раздумчиво ставил чайник на газовую плиту и уходил, оставив этот ценный бытовой прибор огню до полного растерзания и бесславного конца. Во дворе он не играл с детьми в общие игры, а часами кидал в стену теннисный мяч, ловил и снова кидал, не выражая лицом никаких, даже самых первобытных чувств. Катька считала его дураком и придумала для него два прозвища, успешно привив их всей дворовой ребятне. Они называли его то Лексеем, то Олёшей – как дедушка Горького из его повести «Детство». «Ну, Лексей, ты не медаль», – цитировала Катька, пробегая мимо терзающего стенку соседа. «Олёша, стенку пробьешь», – подхватывали злые дети.
Лексей, он же Олёша, рос, рос да вырос и, дурак не дурак, а поступил в институт, как говорили, за спортивные достижения (вот вам и теннисный мяч). Катька заинтересовалась им неожиданно для себя, когда, сняв однажды телефонную трубку, услышала робкий девичий голос: «Попросите, пожалуйста, Алексея». – «Олёша, тебя», – позвала Катька, демонстративно напирая на «о», и потихоньку стала подслушивать. Впрочем, ничего не услышала. «Угу» и «Ага» – а в трубке трещали без умолку. «Интересненько», – подумала Катька и стала почаще подбегать к телефону, и все чаще робкий голос просил позвать Алексея, а подслушивания не давали никаких результатов. Потом голос сменился: мелодичный, кокетливый и слегка нахальный – «Лешу, пожалуйста». Ответы Алексея стали как-то просторнее. И тогда Катька почувствовала ревность. Конечно, шпионство до добра не доводит. Длительное шпионство накладывает отпечаток и на мозговую деятельность, и на психологию, развивает склонность к навязчивой наблюдательности и излишне обостряет чувства. Мягко говоря, Катька пострадала от чрезмерного любопытства, обнаружив вдруг, что Олёша высок ростом, длинноног, басовит и имеет ямочки на щеках, что придает ему обаяние в сочетании с мужественностью. Катька влюбилась.
С этого времени она включилась в борьбу. Она училась в девятом классе, ей шел шестнадцатый год, и мальчишки постоянно вились вокруг этой дикой девчонки. С некоторыми она ходила в кино, иногда целовалась, но исключительно для развлечения. Если выражаться ее же, напичканным журналистскими штампами языком, «сердце ее было свободно». Теперь же оно переполнилось до краев, но ни одной капле она не позволила расплескаться. Она несла свое сердце осторожно, как восточная девушка несет на голове кувшин с водой, грациозно обходя ухабы, не выказывая ни малейшего напряжения и благополучно достигая поставленной цели.
Катька рассказывала о своей борьбе красочно, подробно, употребляя цитаты и родные газетные штампы, как будто писала очерк для «Ленинских искр», а точнее – для еженедельника «Аргументы и факты», потому что тема все-таки была взрослая и в некотором смысле чересчур откровенная. Хотя на самом деле, будь Ира поопытнее, она легко узнала бы в подружкиных действиях типичные и вполне дешевые женские приемчики. Однако упорство, одержимость, с которыми эти приемчики применялись, их строгая последовательность, систематичность и, по всей видимости, нестандартное оформление превращали Катькины откровения в грамотное и четкое пособие для молодых соблазнительниц, то есть опять-таки в набор правил, греющих Ирочкину душу. Она слушала и училась, понимая, что на полное освоение материала ее таланта не хватит, но не случайно же она была отличницей, в самом деле!
Боже, как, оказывается, все просто. Сначала не употребляемое прежде «здрасьте» при встрече утром на кухне (в прелестном халатике с рюшами). Потом «ой» и «ой, хи-хи» при столкновении в темном коридоре. Потом убежавший из его кастрюли разогреваемый суп, заливший плиту, и Катькино предложение не беспокоиться: она сейчас наведет порядок. Потом серьезный вопрос о его институте, в который Катька якобы собирается поступать после школы, но боится трудностей. Разговоров об институте хватило на несколько раз, и Катька перешла к спорту и спортивным достижениям Леши (никаких Олёш и Лексеев). Оказалось, он не теннисом занимался, а баскетболом, поэтому скромный подарок на мужской праздник – книга о баскетболе. В книгу была вложена длинная баллада о спорте. Кто автор? Да сама дарительница, кто же еще? И его удивление и мелькнувшее в глазах уважение. Потом разговоры о литературе – поверхностные, без чтения стихов, конечно, а так – перечисление некоторых авторов и книг, которых он не читал, так что Катька мудро на литературных темах не задерживалась. Потом «ах, какое огорчение, есть билеты в кино, а подруга заболела». Потом алаверды: «Фильм, говорят, хороший. Смотрела? Пойдешь?»
Наконец, с трудом установленный день его рождения и удача – мама на дежурстве. «У меня пирожные есть. Хочешь, чаю попьем? У тебя ведь вчера был день рождения». – «А откуда ты знаешь?» – «Да уж знаю». Он пришел с бутылкой вина, так что получился не только детский праздник с пирожными. Получилось покруче. Еще как покруче!..
Длинный очерк Катюши Золотовой с условным названием «Моя жизнь в искусстве обольщения» уместился в воспоминаниях Ирины в короткий отрывок, но на самом деле рассказывался автором не в один присест, а после каждого удачного эпизода, и в рассказе этом присутствовали не только факты, но и чувства, так что каждый случай превращался в маленький шедевр. Да и вообще – какой там очерк?! Сказка, песня, баллада – как угодно. В Катькиных талантливых рассказах красота и высота чувств были главными действующими лицами, волшебство и музыка сплетались воедино, и получалась неземная, божественная жизнь, ради которой стоило появиться на свет. Ира слушала подругу без зависти, предчувствуя, что и ей скоро, очень скоро явится это чудо. Пока она только готовилась, включалась, находясь на обочине чужой жизни и постепенно проникая внутрь.
По ночам, вспоминая Катькины истории, она долго не могла заснуть, и в полусне некий Лонгфелло напевал ей в ухо на русском, бунинском языке о скором свершении ее ожиданий:
Если спросите – откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины,
Шумом рек и водопадов,
Шумом диким и стозвучным? —
Я скажу вам, я отвечу…
Но отвечал не он, отвечала бегущая по волнам девушка, созданная воображением другого романтика: «Добрый вечер, друзья! Не скучно ли вам на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу…»
Ире было не скучно. Она не торопилась, но бежала, бежала по волнам, дышала свежим морским воздухом, свободой и безграничностью чистого моря любви.
Она споткнулась на гребне одной из самых высоких волн, замерла, пошатнулась и чуть не рухнула в пучину, но удержалась, ухватившись руками за плотную от соли воду. Как говорится, приплыли. Катькин рассказ о дне рождения, новый воздушный замок, явившийся на пути упоительного движения, мигом превратился в грубый подводный камень. Детский день рождения Алексея с чаем, пирожными и алкоголем в прямом смысле слова опрокинул на спину всю предшествующую идиллию. Ира пришла в ужас. Мораль была попрана, красота изуродована – хотелось заткнуть уши и бежать от этого кошмара. Но талантливая Катька хорошо владела кистью художника, картина с ярко прописанными деталями разворачивалась на глазах наивной правильной Иры монументальным полотном, прославляющим естественные общечеловеческие ценности. Она сначала не хотела слушать, потом смирилась и наконец попала в зависимость. Ну да, с ней и раньше такое случалось. В детстве у нее была роскошная книга сказок Шарля Перро с яркими, блестящими, словно лакированными иллюстрациями. Каждая иллюстрация для сохранности прикрывалась тонким листом папиросной бумаги. Ира любила рассматривать эти картинки, сначала вглядываясь в таинственные очертания рисунка, просвечивающего через бумажную драпировку, а потом нежно, одним пальчиком приподнимая шуршащий полупрозрачный лист. По мере продвижения таким образом к середине книги ей постепенно становилось тревожно, она знала, что вот сейчас, совсем скоро появится это. И каждый раз вздрагивала, угадав под туманным прикрытием страшное бородатое лицо Синей Бороды. Можно было бы проскочить это место и рассматривать дальше нарядного кота в охотничьих сапогах и совсем не страшного, даже забавного людоеда. Но она не проскакивала. Дрожащей рукой она раздергивала хрупкий матовый занавес и замирала, не в силах отвести взгляд от этого жуткого лица.
Ну вот, теперь, с Катькой, она опять попалась. Она слушала и слушала, содрогаясь от отвращения и чувствуя, как по щекам и шее ползут красные пятна. А когда рассказы вдруг прекратились, она заскучала, до того заскучала, что, робея, спросила:
– А как у тебя с Лешей? Ты не рассказываешь…
– Нечего рассказывать, – спокойно ответила Катька. – Мы расстались.
– Как?! – это был шок. – А любовь?
– Любовь прошла, завяли помидоры.
– Не может быть. Ты врешь.
– В жизни все может быть, – философски заметила талантливая журналистка. – Когда человек начинает обманывать, хамить и выделываться, он перестает быть героем романа.
– Но ведь все было так хорошо.
– А стало плохо. Слушай, Ирка, я его не виню. Он не притворялся. Сначала он был увлечен, а потом чувства пошли на убыль и он стал самим собой. А мне такие типы не нравятся. И пошел он знаешь куда…
– Но он же тебя опозорил!
Катька всплеснула руками и расхохоталась.
– Господи, Ирка! Учила тебя, учила, да не выучила. Так ты у нас и осталась недоразвитой… Я ведь счастлива была, понимаешь это?! А ты говоришь: опозорил…
– Ты переживаешь?
– Да как сказать? Обойдусь. Мне надо школу заканчивать, на журфак поступать. Кстати, ты вот бросила студию, я тоже брошу. Детские это забавы, а надо к жизни готовиться.
Они готовились, каждая у себя дома. Ира полировала школьные знания до медального блеска, Катька учила недоученное. Результаты были у нее неплохие, четверочки, иногда пятерочки, троек не предвиделось. Впрочем, четверка для поступления на журфак Университета – оценка так себе. Но Катька была уверена, что поступит.
– У меня столько публикаций! «Ленинские искры» дадут характеристику. Журналист – это ведь творческая профессия, тут талант важен. Туда и отбирают по таланту. Если меня не принять, кого же тогда принимать? А ты с медалью на филфак точно попадешь. Потом будешь в школе работать, учителем русского языка. Тоска смертная. Хотя это не мое дело.
– Вот именно, – обиженно подытожила Ира.
Однажды вечером накануне очередного экзамена Катька позвонила:
– Слушай, я в мандраже. Ничего не знаю, ничего не помню. Мама на дежурстве, сижу тут одна, как в норе. Приходи ко мне, будем вместе учить.
– Так у меня же физика, а у тебя история. Вместе никак.
– Ничего. Будешь зубрить свое, а я свое, создашь рабочую обстановку.
– Да брось ты, Катька. Ну чего придумываешь? Сиди, учи даты – подумаешь, проблема.
– Говорю тебе, приходи. Не могу я одна.
– А я тебе говорю: заканчивай капризы. Тоже мне, трусиха нашлась! Не умею я вдвоем готовиться, не привыкла.
– Потерпишь. Приходи, сядешь в угол, а я спиной повернусь. Ты спасешь меня своим дыханием.
– Вот видишь, треплешься, а мне морочишь башку. Кончай разговор, некогда мне.
– Значит, не придешь?
– Ясное дело.
– Ну ладно. Всё. Пока.
Ну и ладно. Всё. Пока. Но в результате получилась у Катьки тройка по истории. И еще бы ничего, была бы эта лукавая цифирка по какой-нибудь ничтожной математике. Но по истории! Для журналиста?! И никакие рекомендации солидной газеты «Ленинские искры», и никакие многочисленные публикации в этой серьезной газете с громким именем вождя не помогли. Катьку на журфак не приняли.
Все время, пока шли экзамены, вплоть до трагического момента, когда списки принятых на журфак были вывешены на всеобщее обозрение и громкое имя Катюши Золотовой их не украсило, Катька с Ирой не разговаривала. Ознакомившись с плачевным результатом своих усилий, выяснив причину провала, Катька позвонила подруге, коротко сообщила историю с историей и резюмировала:
– И чтобы ноги твоей в моем доме не было! Поняла, предательница? Я тебя не знаю и имя твое забыла. Желаю счастья в труде и успехов в личной жизни…
Потом с Ирой происходили такие неожиданные, грандиозные и даже масштабные (применительно к одной личности) события, что тоска по потерянной подруге постепенно превратилась в печаль, а потом и вовсе испарилась вместе с памятью о несправедливой Катьке, навесившей на Иру груз вины. Но Катька появилась снова через год и, прокричав в телефонную трубку короткий жесткий монолог, исчезла теперь уже окончательно.
– Ну что, красавица? Медаль тю-тю, филфак тю-тю?! Так тебе и надо! Не захотела помочь подруге, вот Бог тебя и наказал. А у меня все как по маслу. Поступила я на журналистику, только не в ваш занюханный университет, а в московский, в МГУ. А тебе – шиш с маслом…
Спустя годы Ира нашла в какой-то газете очерк о талантливом деревенском мальчике, подписанный знакомым псевдонимом – Катюша Золотова. Очерк был ярким, без цитат и журналистских штампов, в нем звучал Катькин голос и кувыркались между серьезными строками Катькины словечки и шуточки, и пронзительные чувства печали и радости вовлекали читателя в суть повествования, в судьбу незнакомого мальчика с природным талантом музыканта. Потом появлялись другие статьи Катюши Золотовой, потом статья о ней – журналистке, пишущей из «горячих» точек мира. И портрет Катьки – в камуфляже, бронежилете, с оранжевой надписью press. Ира вглядывалась в нечеткое газетное изображение и видела все ту же Катьку с соломенными патлами, торчащими во все стороны, и нахально-кокетливой улыбкой. Жизнь – борьба, и Катюша Золотова в этой борьбе победила. Она всегда знала, чего хочет.
«А ведь ее можно найти, – подумала Ира. – Известный человек, можно постараться найти. И забыть глупую ссору, и снова стать единым целым, подругами, короче говоря». Да, хорошо бы. Но прошло столько лет, они теперь разные и найдут ли общий язык? А главное, главное… Господи, до Иры только сейчас дошло, годы понадобились. Ведь тогда, когда Катька требовала, она на самом деле умоляла ее прийти, когда ныла, что ничего не запоминает, ничего в голову не лезет, – она ведь не капризничала. Она страдала от неудавшейся любви. Она скрывала от Иры и, может, от себя самой свое отчаяние. Она проиграла, и это было ее первое настоящее поражение. А Ира – подруга, называется, – не смогла понять.
«Тогда проиграла, теперь выиграла. А я была дурой, я ей так и скажу: прости, мол, дурой была, отставала в развитии. Она поймет. Но только… Зачем я ей теперь? Что интересного я смогу рассказать о себе, о своей жизни?»
Она так и не нашла Катюшу Золотову. Не искала…
Ирина резко села на кровати. Ну вот, довспоминалась. Откопала-таки в памяти одну давнюю мысль, которая, как живая, проскочила в сегодняшний день и, покрутившись в мозгу, готова была пробраться в душу, чтобы испортить настроение как минимум на весь оставшийся день – сиренево-солнечный день рождения. Больно ранящая мысль. Тогда, предполагая разыскать Катьку, она подумала: «Что интересного я смогу рассказать о своей жизни?» А ведь то было время благополучия, когда она всем была довольна и надеялась, что так будет всегда. Кажется, она была счастлива…
Нет, так нельзя. Скоро одиннадцать часов, надо вставать и приниматься за дела. Ирина подбежала к окну, раздернула шторы. Солнце уже ускользнуло в сторону и заглядывало в стекла немного косящим взглядом. Комната как бы разделилась на два треугольника: один, темный, теневой – на месте кровати, другой, ослепительный – на туалетном столике, зеркале и кресле. Необходимо срочно уходить из тени. Ирина накинула халат и побежала в ванную. Она все успеет к вечеру, времени уйма, она умеет быстро работать, хоть иногда и ленится, расслабляется, как сейчас, но это ненадолго, солнца еще много, и в комнате пахнет сиренью.
Сначала надо немного привести себя в порядок. Она уселась в солнечном треугольнике около туалетного столика, пригляделась к своему отражению в зеркале. Все в порядке, только немного припухло под глазами – не стоило так долго валяться в постели. Но скоро припухлость уйдет, и будет нормальное лицо. Не то чтобы оно ей нравилось, но в общем всегда устраивало: губы не слишком толстые, но и не тонкие, отчетливого рисунка; нос ровный, умеренной длины; глаза небольшие, но с загадкой. Нет, к сожалению, не загадочные глаза, а просто глаза, но немного странные. Она сама относилась к этой странности иронически и в детстве говорила: у меня глаза серо-буро-малиновые в крапинку. Ну, это, конечно, слишком сильно сказано. А на самом деле зрачки Ирининых глаз имели свойство менять цвет в зависимости от освещения: на солнце они казались серо-зелеными, а в тени – светло-карими. И еще они реагировали на Иринино настроение. Когда она радовалась или злилась, они вспыхивали почти черным пламенем, и тогда Володя говорил: «Ах, эти жгучие глаза!» Но это он так шутил.
Она пригладила щеткой коротко стриженные темно-русые волосы, густые и слегка волнистые. С некоторых пор она стала пользоваться косметикой, совсем немного, как того требовал наступивший средний возраст. Морщинки пока медлили, лишь прилаживались, примеривались к месту в углах глаз, но кожа, прежде чистая и гладкая, никогда не огорчавшая ее подростковыми прыщами и веснушками, теперь немного потускнела. «Ваша кожа гладкая и сияющая!» – это из рекламы. Сияющая – то есть какая? Потная, что ли? Нет, ей не надо «сияющей» кожи. Пусть будет гладкая. И вот новый крем, который она использует сегодня в первый раз, потому что на коробочке написано: после сорока лет. «После» наступает сегодня.
Она взяла баночку с круглой золоченой крышкой, повертела в руках. Солнечные блики отскакивали от крышки и разбегались по полу и стенам. Такие маленькие круглые золотые медальки…
Золотые медальки… Побрякушки, цацки – бижутерия. А что, школьная золотая медаль из чистого золота отлита, что ли? Кусочек металла, которому суждено многие годы томиться в темной коробке, а то и затеряться случайно при каком-нибудь переезде или ремонте. Жизнь длинная, многое на ее протяжении теряется, а тут – безделка какая-то, медалька. А вот память не теряется, и навсегда остается с тобой горечь, рожденная мелким эпизодом из прошлого.
Катька, позвонившая Ире перед тем, как расстаться окончательно, все выведала у кого-то об Ириных делах, но главных, судьбоносных событий не коснулась. Главным для Катьки было поражение, проигрыш этой предательницы на фоне ее победы. «Медаль тю-тю, филфак тю-тю». Да и в самой Ире, когда утряслись ее житейские проблемы, так и осталась навсегда горечь прошлого поражения и осознание собственной вины в этом поражении – глупого поступка честной правильной девочки.
Конечно, тут был общий прокол, какое-то помутнение мозгов и учителей, и директора школы: очевидная, безоговорочная медалистка номер один. И вдруг, уже к концу экзаменов, хватились: ба! у девочки-то четверка по черчению. Предмет, конечно, не главный, но оценка идет в аттестат зрелости. Ужас, ужас! – план школы по медалистам срывается!
Да, с черчением у Иры было плохо. Она сама называла себя «идиоткой пространства». Такая вот особенность мозга: она не ориентировалась на местности, путала расположение улиц и домов, поворачивала направо, когда требовалось повернуть налево, и хоть убей не могла по виду сверху и сбоку на самом простом чертеже представить общий вид предмета. Четверка по черчению была, вообще говоря, данью отличнице за прочие успехи. И за старание, конечно. И вот получился казус.
Выход нашли быстро. Ирочку вызвали к директору и ласково, но твердо, подчеркивая праведность намеченного предприятия, посоветовали выполнить несколько простых работ, предложенных чертежником, получить за каждую «отлично» и, стало быть, пятерку в аттестате. Дело нехитрое.
– А если у меня не получится на «отлично»?
– Получится, получится, Иван Иванович тебе поможет.
– То есть сделает за меня?
– Да бог с тобой! Он просто будет рядом.
Вот, пожалуйста. Все честно. Никаких приписок в классном журнале, никаких исправлений там же. Сделаешь сама, а Иван Иванович поможет – и получишь золотую медаль, которую вполне заслужила. «Не заслужила», – сказала Ира, и все уговоры разбились об упрямство правильной девочки. Разбилась и золотая медаль, а вместе с нею треснула репутация школы, не выполнившей план по наградам, и вожделенный филфак рухнул прямо у Иры на глазах.
– В университет не ходи, – сказала филолог Ксения Алексеевна. – Без медали не поступишь.
– А может, попробовать?
– Не стоит. Туда поступают только очень талантливые и блатные. Ты не потянешь.
И правда, что темнить? Способности у Иры так себе, эрудиция не выше средней нормы, блата у мамы-филолога нет.
– Иди в Институт культуры, на библиотечный. Для тебя самое место – ты ведь любишь книги.
Ага. Угу. Конечно, Ира послушалась, а про себя подумала: «Катька бы все-таки попробовала, и пять раз, и десять – до победы».
Она легко поступила на библиотечный факультет и не жалела об этом. Только вот горечь осталась. Нет-нет да и вспомнит она, как ускользнул из рук золотой зайчик, и подумает про себя: «Вот дура была, принципиальная…» Была – значит, в прошедшем времени. А потом? А дальше?..
Кухня вся залита солнцем – Володя, завтракая, раздернул занавески, он не любит сумрака, но для работы света и тепла слишком много. Ирина сомкнула занавески и как будто притушила солнечную лампу. Теперь можно работать. Меню продумано заранее: «пожарские» котлеты, рыба в томате, «оливье» и «шарлотка» – все любимые семейные кушанья. Расчетливые хозяйки не пекут весной «шарлотку», потому что яблоки сильно дорожают к этому времени. Но то слишком расчетливые хозяйки, а Ирина экономила умеренно и не впадала в крайности. Купить килограмм дорогих яблок для еще более дорогих детей и мужа – это приятно, тем более что торт стоил бы явно дороже.
Начать надо с котлет. Кусочки куриного филе легко проскакивают в воронку мясорубки и кудрявой горкой ложатся на дно миски. Мясорубка ревет, как дикий зверь, зато вся процедура требует не более двух минут. Электромясорубка – гениальное изобретение человечества, спасение женщин от каторжного труда, когда крутишь и крутишь тяжелую неподатливую ручку, утирая пот с лица и проклиная свою нелегкую долю. Этот агрегат купил Володя три года назад, гордо поставил на стол и сказал проникновенно: «Вот, Иришка, береги себя нам на радость». Он в то время был особенно заботливым и нежным, даже более нежным, чем в первые дни их знакомства. Нет, не в первые, во вторые дни. А в первые… Да уж, наворотила она тогда…
В «Кульке», как называли не то любовно, не то иронически Институт культуры, на библиотечном факультете собрались одни девчонки, среди которых, как одинокий колокольчик в букете трепетных ромашек, торчал длинный худой юноша, который призван был украсить и даже облагородить легкомысленно развеселый букет, но был он слишком тонок и слаб, и весь облик его мог навести на мысли о не совсем традиционной ориентации, если бы такие мысли имели хождение в те давние времена праведной советской действительности. Как бы там ни было, но среди ромашек колокольчик с экзотическим именем Севастьян (сокращенно – Сева) потерялся. На второй же день обучения библиотечному делу студентов всей группой отправили на месяц в деревню, на уборку картофеля, причем уникальный Сева, получив медицинскую справку о своей профессиональной непригодности для сельхозработ, остался в городе, так что группа лишилась единственной, хоть и весьма условной, поддержки и опоры. Но много девушек, собранных вместе, это лучше, чем мало девушек, и еще лучше, чем слишком много. Так что студентки не унывали, всю длинную дорогу до места назначения веселились и пели, а потом увидели бескрайнее поле, вверенное их заботам, ознакомились с техническими средствами, выданными каждой индивидуально (тяпка, ведро), и слегка приуныли, точнее, возмутились, загалдели и в конце концов лениво принялись за дело. Однако правильная девочка Ира отнеслась к предстоящей каторге философски, вооружившись коротким принципом: надо – значит, надо. А потом вспомнила мудрую поговорку: глаза боятся – руки делают, и пустила в ход руки, тяпку и ведро. К тому же, к тому же… Она, конечно, перестала писать стихи, но куда денешь поэтическую натуру, если Богу было угодно подарить ее тебе, хотя ты об этом не просила. Стоял ранний теплый сентябрь, разноцветный лес окаймлял поле со всех сторон и посылал приветы труженицам полей в виде еще живых, крылатых листьев, трепещущих в воздухе и приземляющихся медленно, осторожно и раздумчиво. А снизу шел волнующий запах высыхающей травы и растревоженной земли. Иногда над полем правильным треугольником пролетали гуси, гортанно перекликаясь не то между собой, не то с оставленной землей, с которой за лето успели сродниться. Эти живые картинки едва не толкнули Иру в объятия давно забытых рифм и размеров, но она вовремя вспомнила «в багрец и золото одетые леса», поняла, что ничего лучшего не придумает, и отбросила мысль о словесном воплощении своего поэтического всплеска. Ей и так было неплохо.
Ну да, противоположного пола в их компании не было (ах, Сева, Сева…), и это несколько портило общее настроение. Однако очень скоро сложный вопрос решился положительно. Некие активистки разузнали, что совсем рядом, примерно в двух километрах от них, располагается другое картофельное поле и работают на нем добры молодцы, тоже студенты. Пока формировали делегацию для двухкилометрового похода, гора сама явилась к Магомеду, и контакт был установлен. Парни оказались четверокурсниками из Политехнического института, с факультета чрезвычайной сложности под названием «энергомашиностроительный», и потому девушек на него не брали. Вернее, они сами туда не торопились.
– У нас есть две девчонки, – рассказывали ребята, – но мы их дома оставили, пусть отдыхают. Занудства меньше. Отличницы!
Это был камешек в Ирин огород, хотя никто его не бросал. Просто на воре шапка горит.
С тех пор жить стало лучше, жить стало веселей. Мальчишки приходили каждые два-три дня после работы, приносили вино и камнеподобные пряники из сельского магазина. В девичьем бараке устраивались танцы и застолье, и формировались парочки, заполнявшие темные углы барака и близлежащую территорию. Ире такая жизнь была внове, но она наблюдала ее с любопытством. Потом случилось неожиданное: один из визитеров подошел к ней замедленной походочкой и доверительно, почти шепотом предложил выйти на минутку на улицу. Ира пожала плечами и вышла, парень отвел ее в сторону и тут же заключил в объятия.
– Ты что?! – ужаснулась Ира, высвобождаясь.
– Да ничего. Что ты дергаешься, как дикий мустанг? Иди сюда, – и сильнее притянул к себе.
Ира вырвалась, едва не упала и побежала к двери барака.
– Вот дуреха, – беззлобно сказал ей вслед кавалер, и она мысленно с ним согласилась.
Дуреха так дуреха. Такой уж родилась, ничего страшного, хотя пора бы поумнеть. Это была верная мысль, хотя на следующий сабантуй она все-таки не осталась. «Пойду прогуляюсь, скоро отъезд», – малодушно решила правильная девочка, натянула куртку и вязаную шапочку, ноги в резиновых сапогах утеплила шерстяными носками и пошла. Сентябрь заканчивался, в воздухе пахло прелыми листьями и почти морозной свежестью – к ночи начинались предзимние заморозки. Ира шла по абсолютно пустынной и темной улице, освещаемой лишь редкими фонарями. Ни одно окно не светилось – в десять вечера деревня спала и видела, наверно, третьи сны.
Неожиданно в полусумраке обозначилась мужская фигура, не спеша движущаяся ей навстречу. Ира испугалась, вспомнила, что в этой деревне случаются иногда кровавые драки, причин которых приезжие не знали. Местные же на вопросы любопытных отвечали коротко: из-за баб. Ну вот, она и идет одна-одинешенька, не баба, но что-то вроде. И что теперь будет? Она хотела побежать обратно, но передумала, все равно догонит, если захочет. Она передумала и пошла навстречу своей судьбе. Вот именно: навстречу своей судьбе.
Никакой это оказался не бандит, не пьяный хулиган, а вполне себе приличный юноша из той самой компании, что веселилась сейчас в библиотечном бараке. Юноша был обыкновенный, среднего роста, с невыразительным, немного курносым лицом, на которое упрямая, трудно укротимая интеллигентность наложила свой не всегда уместный отпечаток. Кто сказал, что интеллигентность лица – хороший признак? Отнюдь. Интеллигентные лица нередко подводят своих обладателей, отправляя их в разряд слабаков и зануд, не стоящих внимания простых, сильных и уверенных в себе граждан, которых на свете, слава богу, много больше, чем этих хлюпиков.
Как бы там ни было, юноша обладал непримечательным интеллигентным лицом, и, более того, Ира успела уже выделить его из общей молодежной компании, потому что он хоть и пил вместе со всеми, и танцевал, и даже подпевал, если случалось пение, но не балагурил, не кривлялся, не привлекал к себе внимание скабрезными шуточками – короче говоря, держался скромно, а скромность, как известно, украшает человека. Поэтому она обрадовалась не только тому, что избежала опасности, но и тому, что встретила симпатичного человека.
– О! – сказал он, улыбаясь. – Кажется, эта девушка из местной библиотеки. Гуляешь?
– Ага, – ответила Ира. – Ты вроде тоже оттуда? Тоже гуляешь?
– Гуляю.
Разговор получался настолько интересный, что впору было заговорить о погоде. Ира и заговорила:
– Как холодно, да? По-моему, уже мороз.
– Точно, мороз, – в голосе парня появилась скука. – А что же ты мерзнешь здесь, а не греешься в теплой культурной компании?
– Да так. А ты почему?
– Тоже да так.
Дальше последовала пауза.
– Смотри, – злясь, что продолжает этот никчемный разговор, сказала Ира, – лужи замерзли.
Она подошла к краю лужи и ударила пяткой сапога. На замерзшей поверхности образовалась белая сахарная лунка, от которой побежали в стороны концентрические круги.
– Мороз, наверно, сильный, – упорно развивала тему Ира. – До дна промерзло.
– Нет, не до дна. Это ты с краю бьешь, где мелко. А в середине только тонкая корочка.
Ира подбежала к середине лужи и ударила пяткой. Сильно ударила, от злости. Тонкая поверхность льда с хрустом лопнула, и мутная грязная вода вырвалась наружу фонтаном, забрызгав подошедшего некстати юношу с головы до ног.
– Ой! – вскричала Ира. – Ой, извини, я не хотела, честное слово.
Он раздраженно сбивал капли с куртки, старательно, демонстративно. И вдруг улыбнулся.
– Да ладно. Куртка грязнущая, все равно стирать. А ты говоришь – мороз. Это только цветочки. Зима пугает, а мы не боимся, – и всей ступней пнул обманчивую лужу.
Что там куртка?! У Иры и лицо покрылось серыми холодными пятнами.
– Ты не поверишь, – засмеялся он, – но я тоже не хотел. Чего-то взбрело в голову.
– И мне взбрело.
Они, как дети, запрыгали по льду, а потом по воде, разбрасывая острые льдинки, разбрызгивая жидкую муть во все стороны и смеясь. В общем, что-то взбрело. И тут случилось это.
Ира видела такое в кино. Вот резвятся невинно девушка и юноша, возятся, смеются. Потом один из них – например – стирает с рукава девчонки грязное пятно от воды из полузамерзшей лужи; другая – например – промокает пальчиком каплю на его носу. И вдруг… Да, так бывает в кино. Два совершенно невинно резвящихся человека одновременно каменеют, стоят неподвижно и смотрят друг другу в глаза. А там, в глазах, происходит какое-то мгновенное движение, как будто загорается неисправный светофор – одновременно красный и зеленый свет. Красный говорит: «Стоп», зеленый кричит: «Вперед» – и побеждает. Два человека на некоторое время замирают, но глаза их дают сигнал, что шутки кончились и сейчас произойдет нечто, чему они не смогут противиться. И они бросаются навстречу друг другу, еще ничего не осознавая, но уже целуются долго и пылко, как будто ждали и не могли дождаться этого момента. Ира, впрочем, по неопытности сначала сжимала губы и упиралась кулаками в его грудь, но юноша быстро выправил положение, а она, отличница, моментально все усвоила, и губы раскрыла, и руку забросила ему за шею, и это длилось, казалось, бесконечно. Он первым отпрянул, стер с лица мученическую гримасу и хрипло спросил:
– Как тебя зовут?
– Ира.
– А я Вовочка из анекдота, – он хотел пошутить, но не вышло. – В общем, Владимир.
– Володя, – шепотом повторила она.
Он взял ее за руку.
– Пошли.
И они пошли по длинной полутемной улице, которая давно спала беспробудным сном и не подозревала, что на ее покрытой замерзающими лужами земле начинается чья-то, никем не предсказанная судьба. Потом дома кончились, и перед их глазами обозначился уродливый силуэт какого-то строения. Владимир толкнул дверь, и они оказались в просторном помещении, на три четверти забитом сеном. Никто их не понукал, не давал советов, не толкал вперед и не останавливал. Молча, держась за руки, они полезли наверх, тут же соскользнули вниз, расцепили руки и снова начали карабкаться, но скользкое сено сталкивало их обратно. Это было смешно, но они не смеялись, а тихо злились, пока он наконец не разбежался, преодолел с разбегу сопротивление, а потом, уже сверху, подал ей руку.
Сено, конечно, кололось, шуршало и пахло самим собой – ничего нового, хотя, вообще говоря, влюбленным такая экзотика нравится. Но они не были влюбленными, им было все равно, они просто делали то, что должно было произойти в данный момент. Как в кино. И когда это произошло, Ира наконец очнулась. Ей было больно и противно. Ей было мерзко и от того, как это осуществлялось, и оттого, что она, правильная семнадцатилетняя девочка, могла себе такое позволить. Мелькнул в памяти образ Катьки, смелой, отчаянной, целеустремленной Катьки, но от этой памяти стало совсем муторно. Катька была здесь ни при чем.
Она рванулась и заскользила к краю стога – прочь, прочь отсюда! Володя сильно и мягко схватил ее за талию, вернул на продавленное ее телом место и обнял.
– Не бойся. Полежи, отдохни. Все хорошо.
Все хорошо?! Да, да, все хорошо! Он больше не делал ей больно, он гладил ее и нежно прижимался, и легонько целовал ее грязное лицо, не касаясь губ, и дышал ей в волосы. И это походило на счастье, а может, и было счастьем на самом деле.
Потом они спали в обнимку, сквозь сон чувствуя друг друга. А когда стало рассветать, одновременно проснулись, со смехом съехали с крутизны своего ложа и пошли каждый своей дорогой: она в «сельскую библиотеку», он к бараку на расстоянии двух километров.
Утром девушки в последний раз вышли на поле – подобрать кое-какие остатки. А вечером должна была прийти машина, чтобы довезти их до станции.
– Жалко, что вечером едем, – сказала одна из девушек, – домой притащимся на ночь глядя.
– А почему вечером? – спросила Ира.
– Ты что, с луны свалилась? Вчера же говорили: здесь машин мало, утром мальчишек повезли, а потом нас.
– Каких мальчишек?
– Да наших, из Политеха.
– Так они что, уехали?
– Ирка, ты тупая? Еще раз объяснить?
– Не надо.
Значит, они уехали. Сегодня утром. А Володя знал? И ничего не сказал?! Не сказал, не до того было. А телефоны? Они же не обменялись телефонами! Ну да, не до того было… И как же теперь? Да, Господи, чего проще? Он же знает, где она учится. Найдет…
Он ее почему-то не нашел. Каждый день в перерывах между лекциями она бегала в вестибюль и на улицу и после занятий подолгу торчала перед институтской дверью. Нет, его не было. Это трудно было понять. Она бы хотела поделиться с кем-нибудь своим непониманием, с мамой прежде всего, но не могла, впервые в жизни не могла, стеснялась – ну как говорить о таких вещах с мамой? Потом, потом… Когда они с Володей встретятся, Ира приведет его домой и с мамой познакомит. А после в каком-нибудь доверительном разговоре, деликатно, без подробностей… Но это потом, когда Володя придет. Возможно, он заболел, на сеновале было так холодно, но он скоро поправится и найдет ее.
Так прошло две недели. А в начале третьей ее правильный организм, который каждый месяц в один и тот же срок дарил ей три неудобных дня, вдруг дал сбой. Она не обеспокоилась: где-то читала, что нарушения цикла случаются от перемены работы, климата, воды и прочих мелочей. К концу недели стало ясно, что мелочей не бывает и это жуткое слово «задержка» имеет вполне конкретный, очень серьезный смысл. В воскресенье за завтраком, когда обнаружилось, что она не может съесть ни кусочка, страшная правда вырвалась наружу и обрушилась на спокойно пьющую чай Ксению Алексеевну.
Ира на всю жизнь запомнила этот момент. Как в замедленной съемке, представала перед ее глазами картина: мама медленно ставит чашку на блюдце, поднимает руки, закрывает ими лицо и так сидит долго, неподвижно, молча. Может, именно тогда на сердце ее образовалась трещина, которая, как известно, со временем неизбежно приводит к разрушению. Да, это был момент полного отчаяния, когда все планы, надежды на будущее дочери, ее образование, любовь, счастливое материнство оказывались погребенными под необъяснимым, странным, чуждым поступком хорошей, правильной девочки, маменькиной дочки. Так не бывает, так не должно было быть. И… какой позор, Господи, какой позор!
Так, наверно, думала несчастная мать, спрятав в руки искаженное болью лицо. А потом отняла руки и не кричала, не обзывала эту срамницу нехорошими словами, не плакала. Единственное, что она себе позволила, – убрать из имени дочери ласкательный суффикс.
– Ира, – сказала она, – случилось и случилось, надо выпутываться.
– Я пойду на аборт, – безучастно произнесла Ира.
– Ни в коем случае! Первый аборт грозит бесплодием.
– Рожать, что ли? – горько усмехнулась Ира.
– Именно так.
– Ты шутишь, мама?! А учеба? А жизнь? Нет, ты шутишь.
– Я не шучу. Надо найти этого парня.
– И умолять его жениться?
– Нет. Умолять не надо. Но если ты собираешься рожать… – Ира в этом месте хмыкнула, – да, да, коль скоро ты собираешься рожать, отец обязан знать. Ты понимаешь? Должен родиться ребенок, это не делается втайне от отца. А уж он поступит, как сочтет нужным.
Все сложилась, как по заказу. Ира едва успела подойти к дверям студенческого корпуса, как они с размаху распахнулись и перед ней возник Владимир собственной персоной. На секунду ее кольнуло воспоминание о деревенском сеновале, потом еще на секунду – обида, что все происшедшее там ничего не значило, а потом осталась только цель, ради которой она пришла. Какая цель? Да кто ее знает…
– Привет, Володя, – сказала она, приблизившись.
– Привет, – медленно, удивленно произнес он, возможно, не узнавая ее в пальто, в сапожках на каблуках, с портфельчиком. – Здравствуй… Ира, – похоже, он и имя забыл.
– Я что пришла? Думала, ты заболел, мало ли…
Она могла бы соврать, что оказалась здесь случайно, проходила мимо, и вот – такая встреча. Но так кардинально она врать не стала. Немножко приврала, не удержалась – не о здоровье же его узнать в самом деле она сюда пришла.
– Да, правда, я болел неделю, отстал, курсовик дали, сроки поджимают. В общем, совсем зашился.
«И сколько будет продолжаться это взаимное вранье? – подумала Ира. – Пора переходить к правде».
– В общем, Володя, если честно, у меня к тебе дело, – и зачастила, затарахтела: – Я беременна, мама говорит, надо рожать, и я пришла к тебе потому, что, мама говорит, отец должен знать такую новость.
– Мама говорит?
– Да, мама. И я с ней согласна. А ты должен знать. И знаешь. Вот и все.
– Знаю – и что?
Вопрос был хороший, красноречивый. Теперь можно и уходить. Она повернулась и пошла, помахивая портфельчиком.
– Ира, подожди!
Она остановилась вполоборота.
– Ты меня ошарашила, прости, я плохо понял, и при чем тут мама?
Она сделала движение уйти.
– Подожди, подожди. Я спешу сейчас. Давай встретимся завтра, поговорим.
– Хорошо, завтра. Где?
– Знаешь пирожковую на Невском, «Минутка» называется? Там пирожки вкусные. Давай там.
– Давай. Пирожки – это очень полезно, очень, очень. Я обожаю пирожки…
Он набрал полную тарелку маленьких фирменных пирожков «минутка», заказал два кофе, и они устроились за столиком друг против друга.
– Это лучшие пирожки в мире, – радостно сказал он. – Попробуй.
Для приличия Ира взяла один, подержала в руках и уставилась на Владимира вопросительно и удивленно. Он глотал пирожки в три надкуса, запивал кофе и одновременно говорил:
– Тебе сколько лет?
– Через полгода восемнадцать.
– А мне двадцать один. Здорово у нас получится: детский мат. Или детский сад. Знаешь, как называется такой брак? По залету.
– По какому залету?
– Ну когда девушка случайно забеременела, то есть залетела, получается брак по залету. Так случается. Но с другой стороны… Слушай, я тебе нравлюсь?
Нет, сейчас он ей не нравился. С этими пирожками, набитым ртом и вязкой речью, с нервным отхлебом кофе и ерническими интонациями. Но ведь там, на сеновале… Она неопределенно подергала головой: не то «да», не то «нет». Он понял так, как хотел.
– Вот видишь. И ты мне нравишься, и раньше, и сейчас. Так что хоть мы еще до замужества не доросли и планы у нас были другие, но обстоятельства требуют, и в этом нет ничего трагического. Женимся, а дальше – как получится.
– То есть ты мне делаешь предложение вступить в брак по залету?
– В общем, да, но ты мне нравишься, а это меняет дело.
– Я подумаю над твоим предложением, – насмешливо сказала Ира и облегченно надкусила пирожок. Вкусный оказался: с мясом и яйцом…
Было уже три часа дня. Вернее, не «уже», а «еще», потому что ужин Ирина практически приготовила: пожарские котлеты в аппетитно зажаренных сухариках уложены на блюдо, чтобы потом быстро подогреть их в микроволновке, рыба в специальной рыбнице украшена золотистыми кружками лука, «оливье» уложен в салатницу, полит майонезом, а в центре его красовалась сконструированная из зеленого горошка цифра «40», шарлотка, прикрытая салфеткой, издавала сдобный аромат, обогащая витающий на кухне запах сирени некоторыми, казалось бы, чуждыми деталями – так елочные новогодние украшения, нарушая природную красоту исходящей ароматом елки, одновременно придают ей яркость и праздничность.
Все готово к вечеру, хоть кухарка и провалялась в постели до конца утра. У Ирины так было всегда. Она все успевала сделать вовремя, потому что вольности, которые она себе иногда позволяла, находились под самоконтролем и в случае перебора автоматически отключались, как будто срабатывал «пакетник» в электросчетчике, отключая электричество и защищая электросеть от перегрузки. У нее все было продумано заранее. Накануне она купила необходимые продукты, с вечера отварила овощи для салата и разрезала на кусочки мясо и рыбу. Пока жарились котлеты, она крошила «оливье», а использованную посуду тут же мыла вручную, не дожидаясь, когда можно будет заполнить посудомоечную машину, потому что поле кухонной деятельности обязательно должно быть свободным. Иногда она отвлекалась на поздравительные телефонные звонки, но умудрялась сокращать разговоры до минимума, не обижая звонящего. Володя еще не проявился, но это можно понять: с тех пор как он стал первым замом генерального директора солидного предприятия, на неслужебные разговоры времени у него совсем не осталось. Но он, конечно, позвонит. Подарка от мужа она пока не получила, да это теперь было не очень интересно. Он дарил ей деньги: купи себе, что хочешь. Опять же не хватало времени. Ну и вообще…
Она вспомнила, как прежде он с вечера незаметно клал подарок ей под подушку, она утром его обнаруживала, и так радостно начинался день ее рождения. А однажды подарок получился слишком велик, под подушку не поместился, и Ира, ничего не найдя, расстроилась и даже расплакалась, а Володя, всплеснув руками, побежал куда-то в гостиную и притащил спрятанную вещь, и утешал ее, и смеялся над ее детскими слезами. Что это был за подарок, Ирина вспомнить не смогла, однако это было так трогательно, что она, помыв наспех руки, побежала в спальню и пошарила под подушкой. Глупо, конечно, ничего там не пряталось, прошли недолгие времена милых сюрпризов, и нужно уметь правильно на это реагировать.
Она умела. Она давно поняла свою правильность, дала ей собственную оценку и догадалась, почему у нее нет близких подруг, почему она никогда не становится центром компании, почему уважение, испытываемое к ней окружающими, не перерастает в желание тесного общения и почему, наконец, она, вполне симпатичная и милая женщина, не вызывает в мужчинах пылких проявлений симпатии. Правильность – едва заметная тонкая клетка, которая отгораживает от окружающих скучного человека, в лучшем случае зануду, в худшем – моралиста. Но ведь живого, живого! Живого, не свободного от странных поступков и ошибок, однако способного вырулить на ухабистой дороге и снова выйти на прямой верный путь. Собственно, так и случилось с ней. И что бы там ни говорили, ее двойная удача состояла в том, что она не только была правильной сама, но еще и с правильным человеком столкнулась. Да нет, куда там! Она столкнулась с правильными людьми, а это уже большое счастье, что бы там ни говорили. Потому и не было явления матери опозоренной девушки к родителям подлеца с угрозами, не было беготни по парткомам и комсомольским организациям, не было взаимной ненависти двух проштрафившихся детей. И в конце концов поговорка «стерпится – слюбится» не пригодилась. Они нравились друг другу, иначе не встретился бы им на деревенской улице не запертый по чьей-то небрежности сеновал. А любовь, о которой и речи не было тогда, притаилась где-то на обочине, как куст сирени, который, может, расцветет, а может, и нет, но красив сам по себе своей пышностью, глянцевыми блестящими листьями и спрятанным на кончиках веток ожиданием цветения.
И все остальные участники этой не слишком оригинальной истории знали, «что такое хорошо и что такое плохо». Ксения Алексеевна была уверена, что дочь найдет верный тон в общении с молодым человеком. Мама Владимира, познакомившись с Ирой, легко сообразила, что девочка в целом неплохая, а ее сын – еще лучше и жизнь свою, так неудачно начинающуюся, под колеса не пустит. В мужа своего она тоже верила безгранично. Отец будущего отца, ответственный работник райисполкома, привыкший мыслить стратегически, сразу озаботился приобретением жилья для молодых и будущим трудоустройством своего мальчика.
Они все всё сделали правильно. Была и свадьба, хотя и в узком кругу и невеста не украсила себя белым платьем и фатой, а нарядилась в свободную одежду, скрывающую уже обозначившуюся к тому времени полноту, не совместимую с принятой невинностью новобрачной. Жениху пошили новый костюм цвета «маренго» и купили новые импортные туфли с острыми носками. Молодые поселились в трехкомнатной квартире Владимира, продолжали учебу и жили дружно. Никакой тебе «лютой свекрови», грубого свекра и зловредной тещи. Забота, понимание, взаимопомощь. Потом – двойняшки, мальчик и девочка, полный комплект за один раз. Ира перешла на заочный факультет, который и закончила вовремя, разумеется, с красным дипломом, хотя никто не знал, чего ей это стоило. Но она привыкла к такого рода трудностям. Володю папа устроил в некую научно-производственную структуру с неплохим окладом и перспективой защиты диссертации. Квартиру, прописавшись в коммуналке у Ксении Алексеевны и встав на очередь, они тоже получили быстро – свекор был просто золотым мужиком.
А любовь? Конечно, любовь, как же без нее? В жизни, скрепленной чудесными детьми, поддерживаемой близкими родственниками и осененной правильностью молодых мужа и жены, разумеется, была любовь, и не стоит расчленять ее на отдельные признаки и выискивать новые и новые проявления. Нормальная счастливая семья, и при чем тут «брак по залету»?
Андрюша и Леночка росли и развивались под наблюдением и при участии семьи, проявляли способности к спорту и танцам, к музыке и живописи, а потом, в школе, отлично учились, но не так, как Ира, высиживая пятерки долгими бессонными ночами, а легко, с разбега, и она радовалась, что они унаследовали ум не от нее, а от отца, и жизнь, стало быть, дастся им проще. Она вкладывала в детей много сил и времени, водила их в кружки и секции, следила за правильным питанием и режимом дня.
И всегда советовалась с мужем, иногда принимая его советы безоговорочно, иногда корректируя их по своему усмотрению, но никогда не делала наперекор и не объявляла мужу, что он дурак, хотя, случалось, считала именно так.
Это была долгая, благополучная пора их жизни, которую омрачили только случившиеся одна за другой скоропостижные смерти сначала Ксении Алексеевны, потом пожилых свекра и свекрови, и Ира, считавшая себя виновницей, помнящая тот стресс, какой они пережили, когда решалась судьба их детей, боялась памяти об этих днях. В остальном же придраться было не к чему, потому так непонятен для нее самой оказался тот, давний вопрос, невольно возникший в мыслях, когда она захотела найти свою бывшую подругу Катьку и восстановить дружбу. Она подумала тогда: «Что интересного я могу рассказать ей о себе и своей жизни?»
Снова зазвонил телефон. Теперь Ирина не сомневалась, что это Володя.
– Привет, Ирочка, – весело пробасил муж. – Вот наконец-то вырвался поздравить тебя и пожелать тебе… – дальше было неинтересно, он всегда желал одно и то же: здоровья, счастья и неясно каких успехов, но Ирина терпеливо выслушала поздравительную речь.
– Спасибо, Вова. Когда тебя сегодня ждать?
– Вот тут небольшая закавыка, – он помолчал, а Ирина напряглась – она не любила закавык. – Явились партнеры из Польши, целый день возился с ними. А на вечер назначен банкет, на восемь часов. В общем, я должен быть.
– А удрать не удастся?
– Какое! Генеральный болен, черт бы его взял, прости господи! Я за главного.
– И когда же ты придешь? – упавшим голосом спросила Ирина.
– Ирочка, прости, это надолго. Давай перенесем твой праздник на выходные. Ну, ясно же, середина недели, неподходящий день.
– Я не собираюсь устраивать праздников.
– Все-таки поддалась на суеверие, глупышка?
– Не в том дело. Я приготовила ужин для нас и детей. Хотела скромно отметить в семейном кругу.
– Ну давай завтра отметим. Не испортятся до завтра твои деликатесы.
– Дети придут сегодня.
– Вот и посидите вместе, только всё не ешьте. Я завтра докушаю.
– Но если ты придешь сегодня часов в десять, будет еще не поздно.
– Боюсь, что не получится. Хорошо, если в двенадцать. Честное слово, мне обидно, но что делать-то? Прости.
Ирина молчала.
– Ира, я не знаю, что еще сказать. Мне надо бежать. Ну не сердись. Я искуплю вину ценным подарком.
– А что, уже есть ценный подарок?
– Нет пока. Но цена его сильно возросла в связи с предложенными обстоятельствами.
– Цена не так важна. Важно, что ты еще ничего не купил.
– Я хотел деньгами, но теперь…
– И теперь не надо, иди работай.
– Ты все-таки обиделась.
– Не смертельно. Просто жаль…
Ирина ему верила. Она должна была верить. Вот уже четыре года они оба закапывали, забрасывали прочными атрибутами жизни возникшую между ними пропасть. И почти удалось. Почему же сейчас, по такому ничтожному поводу, земля опять начала уходить из-под ног, пропасть обнажилась и засасывала в себя, и уничтожала? Владимир, конечно, говорил правду. Есть обстоятельства, от нас не зависящие. Он мог бы, правда, предупредить вчера, что приедут, мол, поляки, партнеры – святое дело. Да он просто забыл, потому что голова его последние годы забита до отказа и мелкие нужды в нее не помещаются. Он мог бы назначить банкет пораньше – но разве только от него это зависит? Генеральный заболел? Этот спортивный здоровяк, которого никогда никакие хвори не брали, даже во время самых массовых эпидемий гриппа он всегда оставался на посту, светел, ясен и здоров? Но кто сказал, что высокая должность и ответственная работа могут вызвать в человеке пожизненный иммунитет против вирусов?
Вот так все сложилось, одно к одному, неудачно. Ирина должна верить, Да верит она, верит. Но день рождения, который они с Володей проведут не вместе! И ничего бы страшного, однако с таким трудом утрамбованная пропасть опять начала проседать, и опять возникло это мелкое бабье заклинанье: я не нужна ему…
Ирина сидела на диване, облокотившись на спинку, раскинув руки и вытянув ноги, – в позе обессилевшего, утратившего волю человека. Она плакала горько, по-взрослому, и вспоминала то, что хотела забыть, но помнила…
Она тогда еще работала в библиотеке на Невском. Могла и не работать, карьера Владимира резко пошла вверх, он получил должность первого зама генерального директора – огромный оклад и всякие премии и еще какие-то денежные поступления. Они купили шикарную четырехкомнатную квартиру почти в центре города, у Таврического сада, и начали строить дачу – не дворец, но довольно приличный коттедж на участке двенадцать соток, и катались за границу на отдых всей семьей. Так что зарабатывать деньги трудом в библиотеке не требовалось. Но она работала, потому что ей нравилось. Она только тогда поняла, какая это удача – работать в полное удовольствие, не оценивая свой труд денежными знаками. Ее коллеги вели постоянные разговоры о долгах, о мизерных зарплатах и невозможности свести концы с концами, и конкретные их роли библиотекарей под давлением обстоятельств сводились на нет, подавлялись стремлением дожить до получки и в очередной раз возмутиться ее никчемностью. Ирина старалась держаться скромно, одевалась строго и неброско, не рассказывала о семейных своих делах и каждый раз огорчалась, когда очередная сотрудница покидала рабочее место, чтобы усесться в какой-нибудь конторе в кресло секретарши или за стол менеджера по непонятным вопросам. Ирина любила свою работу, не дающую средств к существованию. Она любила запахи типографской краски и старых книг, стройные ряды книжных стеллажей, на которых все было правильно, по порядку, по темам и фамилиям авторов. Ее умиротворяла тишина библиотечного зала, возникающая не потому, что кто-то этого требовал, а потому, что ее порождала обстановка торжественной вечности, которую дарило людям печатное слово.
С читателями Ирина работала творчески, то есть подспудно изучала их вкусы и общую культуру и старалась рекомендовать литературу, подходящую к данному случаю, да еще и пыталась засеять чем-нибудь полезным заросшее сорняками поле их невежественности и вела этот процесс аккуратно, постепенно, ненавязчиво. Любителю романов Андрея Константинова она предлагала почитать Рекса Стаута и Агату Кристи, потом переходила к Акунину и наконец добиралась до великого детективиста Достоевского, не отвлекая внимание читателя на философию автора и делая упор на занимательность сюжета. Ей казалось, что каких-то успехов в трудном деле воспитания человеческого мозга удавалось достигнуть. У нее были свои постоянные клиенты, которые любили поговорить с этой милой женщиной о разных разностях, и хоть за последние годы количество читателей в библиотеке заметно уменьшилось, Иринин контингент оставался на своем месте…
В тот день была пятница. Накануне выходных обычно наблюдался наплыв читателей, поэтому Ирина любила пятницу, готовилась к ней, отбирала подходящие книги для тех, кто – она знала – обязательно придет. С вечера она почувствовала начало простуды, ночью уже маялась насморком и кашлем, но утром все-таки решила пойти на работу: сегодня у нее будет много посетителей: мальчик-старшеклассник, «ботаник», которому она подготовила толстую книгу Шкловского о Толстом; пожилой господин Иван Иванович, любитель военных мемуаров; пытливая дамочка средних лет, которой, как считала Ирина, пора было познакомиться с творчеством братьев Стругацких, а для начала осилить «Понедельник начинается в субботу». Они все придут, а ее не будет. Нет, она все-таки поработает в пятницу, а за выходные подлечится.
Случаются в Петербурге такие беспощадные дни, когда стихия, кажется, абсолютно выходит из рамок, хулиганствует и насмешничает, а самоуверенное население покорно сжимается, втягивает головы в плечи и превращается в серую бесформенную массу, из которой, как щупальца медузы, торчат наполовину сломанные, вывернутые ветром наизнанку и совершенно бесполезные зонты, потому что дождь нападает со всех сторон и прятаться от него под зонт – все равно что стоять под пулями в противогазе. Можно, конечно, надеть длинный плащ, но он непременно намокнет снизу, и придется весь день ходить с мокрыми до колен ногами. Ветер не то чтобы сбивает с ног, но нарушает устойчивость и сталкивает прохожих друг с другом, хотя они к этому вовсе не стремятся и потому злятся на весь неправедный мир. В метро, естественно, полно народу, на полу вагона гнездятся лужи от сложенных и опущенных вниз зонтов, и от сырых человеческих одежд пахнет псиной. В такие дни лучше всего сидеть дома и смотреть телевизор, но работу по будням никто не отменял, потому что плохая погода вовсе не останавливает движения жизни.
От дома до метро было две остановки и ходил троллейбус, но так редко и до такой степени утрамбованный телами, что Ирина никогда им не пользовалась, предпочитая потратить двадцать минут на энергичную прогулку по Таврическому саду, который в любое время года одаривал ее теплом «равнодушной природы». Она и теперь пошла пешком, и путь был как никогда труден: под ногами лужи и мокрый песок, ветер сдувает капли с деревьев и норовит бросить их прямо в лицо. Перспектива аллей, задрапированная рваной шторой дождя, прячется и пугает кажущейся бесконечностью. К тому же болит голова и ноет все тело, и хочется повернуть назад, лечь в постель и вызвать доктора. Но Ирина все-таки доковыляла до метро, выдержала давку в вагоне, наконец переступила порог библиотеки и облегченно вздохнула. С утра народу нет, тепло, тихо и уютно. Она сменила намокшие сапоги на сухие туфли, накинула на плечи платок, выпила горячего чаю. Теперь можно было жить.
В три часа дня позвонил заботливый Володя.
– Ну как ты? Плохо тебе?
– Да так себе, – сдержанно ответила Ирина.
– Шла бы домой. Кому нужен твой трудовой героизм? Родина не оценит.
– Досижу уже до конца. Скоро мои читатели придут. Ничего.
– Ты сегодня когда заканчиваешь?
– Сегодня в семь.
– Я бы заехал за тобой, но боюсь не успею. Возьми такси.
– Дождешься твоего такси в пятницу вечером! Нет уж, доберусь как-нибудь.
– Ну ладно, тебе виднее. Давай трудись.
Тут как раз и появился мальчик-«ботаник». И все шло бы по плану, если бы не возникла перед глазами заведующая, взглянула на Ирину и ужаснулась.
– Боже мой! Что с вами, на вас лица нет!
– Простудилась, – просипела Ирина и закашлялась.
– Милая моя, что же вы делаете? И себя мучаете, и нас всех заражаете. Нельзя же так. Идите домой, я посижу за вас. Только не дышите на меня, не дышите.
Заражать сотрудников и посетителей – это, конечно, неправильно. Можно даже сказать, что это – проявление эгоизма. Ирина положила перед начальницей подготовленные для постоянных читателей книги, разъяснила, кому, что и почему, и, уверенная в бесполезности своих указаний, всквозную пролетевших через невосприимчивые уши начальницы (понятное дело, ее оклад мало отличался от жалких грошей сотрудников), пошла одеваться. Домой так домой. Не надо было приходить сегодня.
Она не помнила, как добралась до дома, не чувствовала дождя и ветра, потом из последних сил бежала по пустому Таврическому саду, шепотом подгоняя себя: скорей, скорей. Ключ, конечно, затерялся среди напиханного в сумочку барахла, потом долго отказывался попадать в замочную скважину. Наконец дверь открылась, Ирина сбросила куртку на тумбочку в прихожей, вылезла из сапог, раскидав их по полу, и поволокла себя в спальню, толкнула дверь и увидела… Да, так начинаются некоторые пикантные анекдоты: «Муж возвращается из командировки…» Только никто не прятался в шкаф, не выбегал в панике на балкон и не приклеивался к наружной стене дома, держась за водосточную трубу. Просто лежащая на Ириной подушке белокурая голова нырнула под одеяло, а голова супруга Володи, наоборот, приподнялась и уставилась на жену безумными глазами.
– Ира?!
И все кончилось. Ирина захлопнула дверь спальни, побежала обратно в прихожую, натянула мокрые сапоги и куртку, выскочила на лестничную площадку и понеслась вниз, не ощущая ничего, кроме желания бежать. Бежать и убежать от того, чего «не может быть потому, что не может быть никогда». Потом она, кажется, забыла, от чего и почему бежит, но кружила и кружила по улицам, как потерявший управление автомобиль, который неминуемо должен разбиться, но не разбивается, потому что это автомобиль из страшного бесконечного сна, когда человек, уставший от ночного кошмара, говорит во сне сам себе: надо проснуться. Она проснулась поздно вечером, наверно, даже ночью, остановилась у какой-то скамьи и села на мокрое сиденье. После таких снов люди долго не приходят в себя, но по крайней мере ощущают себя в яви. В этом и состоял ужас ее положения. Явь была хуже сна. Явь – это то, что с ней случилось.
Ирина вспомнила, что больна, ее трясло, голова раскалывалась от жара, и надо было куда-то пойти, но некуда, кроме дома, которого теперь нет. И она пошла к месту своей прежней жизни, к своему разрушенному счастью, единственному месту для ночлега. Владимир ждал ее на улице, бросился навстречу, обхватил, прижал к себе.
– Где ты была? Я уже все больницы обзвонил.
Она ничего не ответила, позволила ему помочь ей дойти до лифта, потом раздеть и уложить в постель и, уже погружаясь в беспамятство, услышала его стандартное и совершенно бессмысленное оправдание:
– Ты все не так поняла. Это случайность, она ни о чем не говорит.
Она хотела засмеяться ему в лицо и крикнуть: «Пошел вон, подлец!» – но помутившееся сознание лишило ее этой сомнительной радости.
Потом было много, много дней в жару и бреду, и двустороннее воспаление легких, и больница, и капельницы, и какие-то еще манипуляции, и мелькание облаченных в белое, похожих на привидения фигур, и редкие проблески сознания, когда она открывала глаза и видела над собой тревожное лицо Володи.
– Что, Ирочка? Что?
Она вдруг все вспоминала и опять хотела крикнуть: «Пошел вон, подлец!» – но слова застревали в горле, и она снова хотела заснуть – и засыпала. Однажды она спросила: «Где дети?» – «Они были вчера», – ответил муж, но Ирина этого не помнила. Через некоторое время она опять спросила, где дети, и он снова ответил, что были вчера, однако Ирина в то время была уже в полном сознании и хорошо знала, что вчера их не было. Их вообще ни разу не было в больнице.
Потом ее перевезли домой, пичкали лекарствами и откармливали фруктами, и Володя по вечерам, сидя у ее постели, упрашивал:
– Ну съешь кусочек, ты же совсем ослабела.
Она ослабела, но понемногу поднималась с кровати, и жизнь, сжавшаяся до размеров прикроватной тумбочки, начала расширяться. Ирина видела, как ежевечерне Владимир, повязав фартук, с отчаянным лицом человека, решившегося на подвиг, колдует над кухонной плитой, как Леночка брезгливо чистит картошку и двумя пальчиками устанавливает в посудомоечную машину грязные тарелки, как Андрюша яростно бросает на стол принесенный из магазина пакет с хлебом. Пора было начинать жить и реставрировать их разрушенный дом, а главное – заполнить всем, что попадет под руку, разверзшуюся между женой и мужем пропасть. Жить, как будто ничего не случилось, получалось плохо, и иной раз ее опять подмывало крикнуть в его виноватое лицо: «Пошел вон, подлец!» Но язык не поворачивался произнести эти ужасные слова, да и нечестно было так отблагодарить человека за заботу. Кроме того, она уже понимала, что перечеркнуть совместно прожитые годы не получится и надо забрасывать и забрасывать пропасть. Она ни разу ни о чем его не спросила, не выясняла, чья головка покоилась на ее подушке, а потом нырнула под одеяло, не пыталась говорить о чувствах, но иногда плакала потихоньку, не растравляя себя горькими мыслями, а так, по мелочи – можно сказать, грустила. А однажды не выдержала, разрыдалась прямо при детях. Они, оказывается, понятия не имели о случившейся трагедии, знали только, что мама больна и скоро поправится. Они удивились ее слезам: мама, что случилось? И тогда она поведала им все, с излишними подробностями и оскорблениями в адрес этого кобеля, который сломал ей жизнь. Она думала, что дети кинутся к ней, успокоят, утешат, пожалеют, обязательно пожалеют и, возможно, осудят виновника ее горя. Но Леночка сказала:
– Мама, ну что за глупости! Ты что, мужиков не знаешь? Двадцать лет живете вместе, конечно, ему захотелось свеженького. Забей.
А Андрюша добавил:
– Ты как будто вчера родилась. За двадцать лет чего только не было. Думаешь, все это время он смирно сидел у твоей юбки?
– Да, – прошептала Ирина.