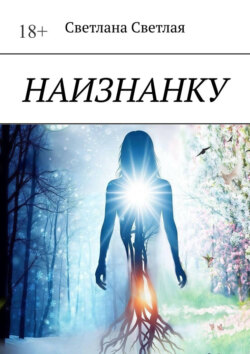Читать книгу Наизнанку - Светлана Светлая - Страница 3
НАИЗНАНКУ
Оглавление***
– «38 лет».
Цифра мелькнула в сознании, как дата на забытой могиле.
– «Неужели уже?»
Холод металла проникает под кожу, будто тысячи ледяных игл впиваются в незащищённое тело. Я пытаюсь фокусироваться на потолке – белом, стерильном, испещрённом паутиной мелких трещин. Они расходятся причудливыми узорами, то ли крылья ангелов, то ли щупальца теней прошлого, которые я безропотно таскала за собой все эти годы.
– «Как давно я не смотрела вверх?», – пронеслось в голове.
Запах антисептика режет ноздри. Он смешивается с чем-то сладковатым и приторным – может, это духи медсестры? Или это аромат моего собственного страха?
Где-то с навязчивой регулярностью капает вода. Метроном отсчитывая последние секунды до небытия…
– Тик. Тик. Тик.
– Как, чёрт возьми, я сюда попала? – пытаюсь я ухватить тонкую, ускользающую нить сознания.
– Что привело меня на этот холодный операционный стол? – лихорадочно ищу ответ в затянутых пеленой забытья обрывках памяти.
– Как я довела себя до такого жалкого состояния?
Память выдаёт бессвязные фрагменты: бесконечные очереди в поликлиниках, лица врачей, их быстрые и осторожные взгляды, словно у птиц. «Вы абсолютно здоровы… Анализы в норме… Это нервное…». А потом – резкая смена пластинки: «Мы должны прооперировать… Срочно…».
И вот я лежу здесь, на этом столе.
Голоса за дверью вырывают меня из тяжёлого полусна:
– Я не начну, пока не будет наркоза минимум на пять часов! – мужской баритон, твёрдый и отточенный, как скальпель. Это Лев Валерьянович, мой хирург. Все в больнице шепчутся, что он лучший в городе.
«Говорят, у него «золотые руки», – автоматически проносится в голове. «Говорят, он воскрешает тех, от кого уже отказались другие». Но сейчас в его голосе нет ничего золотого – только стальная решимость.
– Вы что, хотите, чтобы она очнулась прямо у меня на столе?
Тишина, последовавшая за этим вопросом, густая, тяжёлая.
Потом робкий голос ассистента:
– Может, перенесём на завтра?
– Нет.
Одно-единственное слово, но в нём – вес гранита.
– Она и так чудом дожила до сегодняшнего утра. Если упустим момент…
– «Чудом», – эхом отозвалось во мне, и этот отголосок горче любого признания. «Значит, я уже на самом краю?»
Дверь в операционную приоткрылась. Входит сам Лев Валерьянович.
Его лицо – идеальная маска профессионального спокойствия, но в уголках глаз читается глубокая усталость.
Не та, что приходит после одной бессонной ночи, а другая – будто он годами несёт на своих плечах неподъёмный груз чужих смертей и чужих надежд.
– Милая, придётся немного подождать. Всё под контролем, – его голос звучит ровно, почти отечески.
Он кладёт свою руку мне на плечо. Его пальцы оказываются на удивление тёплыми. «Как странно – тепло в этом холоде», – мелькает у меня мысль.
Он так же быстро выходит, но за тонкой стеной, разделяющей операционную и предоперационную, я отчётливо слышу каждый звук, каждое слово.
– У нас просто нет такого количества наркоза. Можем запросить в главном отделении, но это займёт время, – голос анестезиолога, Аркадия Петровича, ровный, но с явственным подтекстом, будто он уже тысячу раз объяснял это.
– Лев Валерьянович, вы же прекрасно знаете, как у нас с лимитами. Квоты – это не моя личная прихоть.
Тишина. И потом – глухой, сдержанный удар кулаком по металлическому столику.
– Аркадий Петрович, давайте без этого бюрократического бреда…
Голос хирурга стал тише, но в нём звучала ядовитая вежливость, от которой по моей спине пробежали мурашки.
Анестезиолог, наконец, отрывается от мониторов. В его взгляде – усталое раздражение.
– Я не Бог, Лев Валерьянович, чтобы материализовывать фентанил из воздуха. Заявку уже отправили. Ждём ответа.
– Операция состоится! Сегодня! – взрывной баритон Льва Валерьяновича вновь разрезает тишину.
– А сейчас – палата номер восемь. Больная Зацепина, плановая операция. Удаление камней из почек. Больная уже подготовлена и ждёт. Соседний стол свободен. Приступаем.
– А нашу больную отправляем обратно в палату? – спрашивает медсестра, слегка кивая в мою сторону.
– Ни в коем случае, – отвечает Лев Валерьянович, и его голос снова приглушается, но я всё равно уловила каждое слово:
– Психологически она уже полностью настроена на операцию. Вы представляете, что с ней будет, если её сейчас отправят назад в палату? Не факт, что она сможет морально вернуться сюда во второй раз.
– «Не сможет вернуться», – снова эхом отозвалось во мне, и на этот раз эти слова прозвучали как окончательный приговор.
***
Операционная внезапно ожила, нарушив гнетущую атмосферу ожидания. Дверь распахнулась, и на каталке, плавно скользящей по холодному кафельному полу, привезли другую пациентку. Медсёстры, чьи движения были отточены до автоматизма, без лишних слов и суеты переложили её на соседний стол.
Я лежала неподвижно, уставившись в ослепительно белый потолок, который слепил глаза своей стерильной, бездушной чистотой.
Холод. Пронизывающий, исходящий от металлического стола и проникающий глубоко внутрь, до самых костей. Ожидание, растянувшееся в липкую, бесконечную паузу. И страх – чёрный, плотный, спрессованный в тугой, болезненный комок под самыми рёбрами, мешающий сделать полноценный вдох.
А рядом, в каких-то считанных метрах, разворачивается другая жизнь, другая человеческая драма, решаемая холодным скальпелем.
– Глубже! – резко, почти рубяще, бросил Лев Валерьянович, уже склонившись над соседним столом. Его голос, обычно ровный и спокойный, сейчас был до предела напряжён и сконцентрирован.
– Кровит, – прозвучал более молодой, явно встревоженный голос ассистента.
– Не мешайте, дайте обзор! – парировал хирург, не отрываясь от работы.
Воздух наполнился металлическим лязгом инструментов, тихим, монотонным гулом аппаратуры и прерывистым, чуть слышным дыханием ассистента.
Я не хотела смотреть, не хотела видеть, но не могла отвести глаз. Моё периферийное зрение уловило тонкую, алую полоску крови – неестественно, тревожно яркой под лампами – которая медленно стекала по бледной, почти восковой коже женщины.
– Зажим! Быстрее! – снова прозвучал голос Льва Валерьяновича. Он работал стремительно, почти яростно, но каждое его движение было выверено до миллиметра, его пальцы двигались с холодной, безжалостной точностью.
– Лев Валерьянович, давление падает! – тревожно, уже громче, бросил анестезиолог.
– Я вижу! – сквозь стиснутые зубы отвечает хирург.
– Адреналин! Срочно!
Слышится быстрое шуршание вскрываемой упаковки, звяканье стеклянной ампулы.
– Введите!
И наступает тишина. Глубокая, звенящая, напряжённая. Две секунды. Три.
Сердце в моей груди замерло, будто в ожидании приговора и для себя самой.
– …Пошла, – наконец произносит анестезиолог, и в его голосе слышится слабое, сдержанное облегчение.
Следом – общий, негромкий, но очень ощутимый выдох, который вырывается, кажется, у всех присутствующих в операционной.
– Продолжаем, – голос Льва Валерьяновича снова стал собранным и твёрдым.
Я зажмурилась, пытаясь спрятаться от происходящего, но звуки с новой силой врезаются в моё сознание, становясь ещё более чёткими и пугающими:
Хлюпающий, влажный звук разрезаемых тканей.
Чей-то приглушённый шёпот: «Господи, да сколько же их там…»
Лёгкий, но отчётливый стук, будто мелкие камушки, брошенные в металлический лоток. – «Это камень?»
Потом ещё один. И ещё…
Каждый такой звук – как удар молотка, вбивающий меня в этот операционный стол, пригвождающий к нему.
– Наложу швы.
Голос Льва Валерьяновича прозвучал устало, но с отчётливым оттенком удовлетворения от хорошо сделанной, сложной работы.
– Всё. Готово.
Тихий, финальный щелчок – выключение главного хирургического аппарата. Спектакль окончен. Занавес.
***
А я всё так же лежала на своём операционном столе, в том же самом теле, с которым пришла в этот мир много лет назад. Нагая. Вся нараспашку, абсолютно беззащитная и уязвимая. Спина выгнута неестественной, болезненной дугой над жёстким валиком. Боль уже не острая – она стала фоновой, неотъемлемой частью меня, как старый, давний шрам. Руки и ноги раскинуты в стороны и пристёгнуты широкими, грубыми кожаными ремнями.
– «Как Христос на кресте», – мелькает в голове короткая, измождённая мысль.
Но тут же приходит другая, более точная и горькая:
– «Нет, скорее как бабочка в коллекции – аккуратно расправленная, обездвиженная, готовая для чужого, бесстрастного, изучающего взгляда.»
Холод. Он везде. Он впитывается в самые кости, замедляет ток крови, замораживает мысли. Дрожь. Сначала – мелкая, едва заметная, как вибрация натянутой до предела струны. Потом – сильнее, неконтролируемей. Тело начинает биться о холодный стол в ритмичных, судорожных конвульсиях, зубы выстукивают частую, беспорядочную дробь.
– «Это просто страх? Или оно, моё тело, уже окончательно отказывается слушаться? Начинает отделяться?»
Где-то из самой глубины сознания, сквозь толщу накатившего страха, едва пробивается слабый, но настойчивый голос разума:
– «Расслабься…»
Но как? Как расслабиться, когда каждое мышечное волокно сжато в тугую, болезненную пружину? Я пытаюсь представить море. Тёплый песок под босыми ногами. Солнце, которое ласково греет кожу, а не слепит, как эти безжалостные операционные лампы.
Но воображение, предательски, выдаёт только стерильную, давящую белизну стен, едкий, тошнотворный запах антисептика, смешанный с чем-то более зловещим, металлическим, и всепоглощающее ощущение, что я уже здесь, в этой комнате, наполовину не принадлежу себе.
– «Успокойся,» – настойчивее шепчет сознание. – «Никто на тебя не смотрит. Никому нет до тебя дела в эту минуту. Ты – просто деталь в их рабочем дне. Как скальпель. Как лампа. Инструмент, который нужно починить.»
Где-то там, за границей этого слепящего света, за гранью надвигающегося наркоза, должно быть что-то ещё. Что-то, ради чего стоит отпустить это измученное, усталое тело…
И постепенно, очень медленно, почти нехотя, дрожь стихает. Мышцы, измотанные до предела, наконец, подчинились, обмякли.
Страх начал растворяться, как кусок сахара в стакане воды. На смену ему приходит апатия – тяжёлая, густая, сладковато-тошная, как сироп.
– «А если я не проснусь?»
Удивительно, но эта мысль не вызвала новой волны паники. Наоборот – пробудила странное, почти отстранённое любопытство, как будто речь идёт не обо мне, а о каком-нибудь литературном персонаже из давно прочитанной книги.
И вдруг, с кристальной, пронзительной ясностью, стало понятно: жизнь – лишь одна из возможных, самых сложных и красивых игр. Деньги, карьера, вещи – просто яркие, блестящие фантики. Они горят эффектно, ослепительно, но их пепел уносит самым первым, лёгким ветром. Боль, стыд, старые обиды – и они оказываются иллюзией, мишурой. Как театральные декорации, которые громко и пыльно рушатся сразу после финального акта.
Всё исчезает. Всё тает. Всё рассеивается, как утренний туман… туман…
Вопрос, острый как лезвие, вонзается в самое сердце сознания:
– Как я попала сюда? Что привело меня на этот стол?
Ответ приходит сам, холодный и безжалостный в своей простоте:
– Моё доведённое до предела, физическое состояние.
***
В последние месяцы я стала собственной тенью.
Бледная, почти прозрачная кожа, сквозь которую отчётливо проступают синие, извилистые реки вен. Глаза – потухшие, будто кто-то выключил в них свет изнутри. Тело – живой скелет, обтянутый тонким, сухим пергаментом. Каждый шаг давался с невероятным трудном, будто ноги налиты тяжёлым свинцом.
Тело ослабло и совершенно не подчинялось мне. Но самое страшное – я даже не могла вспомнить, когда именно это началось.
Сначала – просто отсутствие аппетита. Потом – постоянная тошнота при одном только виде и запахе еды. Твёрдая пища стала казаться песком, жидкая – разъедающим ядом.
А потом – вес. Он уходил стремительно, как вода сквозь растопыренные пальцы.
– Да ты просто посмотри на себя! – моя подруга Ольга сжала мою исхудавшую руку так сильно, что кости хрустнули. Её голос звучал негромко, но он был острее любого крика, и каждое слово вонзалось в самое сердце, как отточенный нож:
– Ты выглядишь хуже, чем узники концлагерей на тех страшных архивных фото. Серьёзно. У них хотя бы в глазах горела ненависть, воля к жизни. А у тебя…
Она не договорила, с трудом отвела взгляд, я увидела, как с её ресниц скатилась слеза.
Я медленно поворачиваю голову к большому зеркалу в прихожей.
Тень.
Впалые, восковые щёки. Бледная, почти серая кожа, с огромными синяками под глазами. Губы – сухие трещины на высохшей земле.
Я попыталась улыбнуться. Получилась жуткая, неестественная гримаса.
– Ну и что? – мой голос скрипит, как ржавая дверь. – Зато теперь я влезу в любое, даже самое узкое платье.
Ольга вскипела. Чашка с недопитым чаем, которую она держала, с грохотом разбивается о пол.
– ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК?! – она закричала так, что я инстинктивно вздрогнула и отшатнулась.
– Ты умираешь! Понимаешь это? Я смотрю на тебя и вижу живой труп! Тень человека!
Её горячие слёзы упали мне на руки. Горячие, они обожгли мне кожу.
И впервые за долгие, пустые месяцы я почувствовала что-то, кроме внутренней пустоты. Что-то, напоминающее боль. И осознание.
***
На похоронах своего двоюродного брата, стоя у его открытого гроба, я с леденящей ясностью поняла: я следующая. Я умираю. Не абстрактно «когда-нибудь», а прямо сейчас, и мне осталось буквально две недели – это знание пришло не как мысль, а как физическое ощущение, холодная волна, пронзившая всё тело. Пришло холодное, кристально ясное осознание, что вот она – та самая грань, за которой ничего нет. Всего один неверный шаг – и всё закончится.
Гроб брата казался неестественно маленьким, будто его сжали под прессом. «Как он там вообще поместился? Ведь он был таким высоким…» – мелькнула абсурдная, почти кощунственная мысль, от которой стало муторно и стыдно. Я сглотнула ком в горле, чувствуя, как подкашиваются ноги.
Мама стояла рядом, её пальцы впивались в мою худую руку, будто она пыталась удержать меня в этом мире одной лишь силой своей отчаянной любви.
– Держись, дочка… – её шёпот дрожал, сливаясь с заунывными, давящими мелодиями похоронного оркестра, заполнявшими пространство маленькой церкви.
Я перевела взгляд на брата. Такое знакомое лицо, но теперь – странно спокойное, неподвижное, отстранённое от всего земного. А вокруг – море чужих и родных лиц, искажённых горем. Его мать рыдала беззвучно, вся сжавшаяся в крошечный комок, будто хотела исчезнуть. Его жена смотрела в никуда пустыми глазами, в которых не осталось ни слезинки – только шок. Сын, уже взрослый парень, сжал кулаки так, что побелели костяшки, и я видела, как дрожит его подбородок. Тёти, дяди, братья, сёстры… Все они плакали по нему. Воздух был густым от слёз и запаха ладана.
И вдруг – острая, как лезвие бритвы, мысль, пронзившая мозг:
«Через две недели они так же будут стоять у моего гроба. Такая же церковь. Такой же священник будет читать молитвы. Те же самые слёзы. Только в гробу буду лежать я…».
Мама вздрогнула, будто услышала мои ужасные мысли, и резко, почти панически, обернулась ко мне. Её глаза – два бездонных, тёмных колодца неподдельного ужаса:
– Ты… ты даже не можешь ровно стоять, – прошептала она, и в её голосе была леденящая душу увереность. – Дышишь… как рыба, выброшенная на берег… Дочка… Боже…
Я попыталась отстраниться, сделать шаг назад, чтобы отдышаться, но ноги вдруг стали ватными и подкосились. Мир поплыл перед глазами, поплыли и лица, и свечи, и золотые иконы. Кто-то сильный подхватил меня под руки, его встревоженный голос прорвался сквозь нарастающий шум в ушах:
– Таня, что с тобой? Тебе плохо? Сейчас вызовем скорую?
– Нет! – я с силой выдохнула, пытаясь выпрямиться. Мой собственный голос прозвучал хрипло, неестественно громко, нарушая траурную тишину. – Всё хорошо! Я просто… я просто оступилась. Я… я просто устала.
Но я знала правду. Моё тело сдавало. Оно больше не хотело, не могло меня носить.
И это странное, почти постороннее наблюдение немного отрезвило меня. Я увидела, как по-настоящему страдают близкие, когда человек уходит раньше времени. Я почувствовала кожей невероятную, почти физически ощутимую боль своей мамы – ту самую боль от возможной, почти неминуемой потери.
Её материнское сердце, самое чуткое в мире, тоже понимало, что, возможно, все эти плачущие родственники встретятся в самом ближайшем, обозримом будущем. Уже на моих похоронах.
Потому что на тот момент, я выглядела и чувствовала себя гораздо хуже, чем лежащий в гробу мой двоюродный брат. Он, по крайней мере, был в покое.
И в тот самый миг, среди давящего запаха ладана, восковых свечей и мёртвых цветов, где-то в глубине, под толщей страха и отчаяния, созрело тихое, но невероятно твёрдое решение. Что надо выкарабкиваться. Во что бы то ни стало. Что нельзя, просто нельзя опускать руки. Что пора начать действовать, пока ещё есть на это крошечный остаток сил и времени. Пока ещё не стало окончательно поздно.
***
Той же ночью, уже дома, я упала в ванной комнате. Просто потеряла сознание от слабости, не дойдя двух шагов до раковины. Очнулась на холодном кафеле, смотря в потолок одним глазом – второй заплыл и не открывался от удара о край унитаза.
И вдруг… меня прорвало. Я засмеялась. Хрипло, беззвучно, как старуха, которой осталось пару часов. Смех был горьким и пугающим.
– Ну что, Таня, ты готова сдаться? – прошептала я себе, и мой голос звучал чужим. – Выбирай: или ты сейчас ползёшь на кухню, к этому чёртову холодильнику, и глотнёшь хотя бы воды… или так и останешься здесь, на этом полу. Навсегда. Удобно устроилась, кстати.
Пальцы скользили по скользкому кафелю, цеплялись за дверной косяк, не слушались. Каждый сантиметр давался ценой невероятных усилий. В горле пересохло так, что, казалось, оно вот-вот треснет, а в висках отдавался навязчивый, громкий стук.
– Нет. – услышала я свой собственный, язвительный и требовательный внутренний голос. – Ещё не сегодня. Не здесь. Вставай.
***
Но все мои последующие, отчаянные походы к врачам ни к чему не привели. Я прошла, кажется, всех возможных специалистов в нашем городе, сдала горы анализов, потратила уйму денег, которых почти не было, и последние силы.
Но причину моего стремительного, необъяснимого угасания никто не мог обнаружить. Никто.
– По всем анализам вы абсолютно здоровы, – молодой, ухоженный врач щёлкнул дорогой ручкой, даже не глядя на меня, уставившись в яркий экран монитора. – Идеальные, я бы сказал, показатели. Поздравляю.
– КАК?! – я с силой стукнула ладонью по его глянцевому столу, но звук вышел жалким, как шлёпок мокрой тряпки. Голос сорвался на фальцет. – Какой идеальный?! Я не могу есть! Меня рвёт от одного вида еды! Вес 40 килограмм при росте 165! Я падаю в обмороки! У меня нет сил даже дойти до туалета! Это здоровье?!
Он тяжело вздохнул, наконец-то поднял на меня скучающий, усталый взгляд, полный профессионального пресыщения:
– Нервы. Депрессия. Панические атаки. Вам не к гастроэнтерологу, а к неврологу. Рекомендую курс антидепрессантов и… – он сделал театральную паузу, подбирая слова, – …может, обратиться к хорошему психиатру? Это сейчас часто бывает.
В пустом коридоре поликлиники я прислонилась к холодной стене и разрыдалась. Тихо, безнадёжно. Это было не просто отчаяние. Это было чувство самого настоящего предательства.
Предательства со стороны собственного тела, которое стало моим злейшим, коварным врагом. И предательства со стороны тех, кто по долгу службы должен был помогать, находить причины, но лишь разводил руками, списывая всё на «психику».
Я осталась совсем одна. В полной, оглушительной тишине. Наедине со своей непонятной, невидимой болезнью и с тикающими внутри часами, безжалостно отсчитывающими последние дни, часы, минуты.
***
Тот период моей жизни помню, как тяжёлый, серый туман.
Мир сузился до размеров моей квартиры, где каждый шаг давался с невероятным усилием. Я передвигалась, держась за стены, за спинки стульев, за края столов – всё плыло перед глазами, пол уходил из-под ног, а слабость сковывала тело свинцовой тяжестью. Работать я уже не могла – физических сил не хватало даже на то, чтобы дойти до кухни и вскипятить чайник.
Подруги и коллеги, глядя на моё стремительное угасание, шептались за моей спиной, а потом осторожно, с жалостью в глазах, начинали говорить о том, о чём в наше время уже не принято было говорить вслух.
– Тань, может, сходишь к бабкам? – робко предложила как-то утром Марина из бухгалтерии, помогая мне донести сумку до дома.
– Есть же такие, знающие… Может, порча какая? Или сглаз? Ты же не худеешь, а таешь на глазах.
– Да все они шарлатаны! – отмахивалась я, но семя было брошено.
Потом заговорила соседка, потом – старая подруга детства. Их голоса сливались в один настойчивый хор: «Ищи бабушек. Ищи, пока не поздно».
Поиски эти помню смутно, словно сквозь плотную пелену болезни. Первая бабка жила на окраине города, в старом доме, пахнущем кошачьей мочёй и сушёной мятой. Она, не глядя мне в глаза, что-то быстро пробормотала, плюнула через плечо и потребовала денег – «за труды».
В её прикосновениях не было ни силы, ни тепла, только холодная расчётливость.
Вторая оказалась «потомственной колдуньей» с блестящими глазами коммерсанта. Она сразу начала говорить о «сильном венце безбрачия» и «проклятии до седьмого колена», тыча пальцем в моё фото. Но её взгляд скользил по мне, оценивая стоимость моей сумки и колечка на пальце, а не моё измождённое тело.
– Дорогое дело, дочка, – сипло сказала она, заворачивая в платок какую-то кость. – Но ты не беспокойся, я всё сниму. Только готовь ещё пять тысяч на завтра.
Я вышла от неё с пустой душой и тяжёлым сердцем. Эти женщины не видели во мне страдающего человека – они видели кошелёк. Им было абсолютно безразлична моя судьба, слёзы катились сами по себе – от бессилия, от отчаяния, от понимания, что надеяться больше не на кого.
Я уже выбилась из сил совсем. Казалось, проще смириться, закрыться в квартире и ждать конца.
Но тут позвонила тётя Люда, коллега по работе, голос которой всегда был полон необъяснимой веры в лучшее.
– Тань, я тут одну бабушку узнала, – затараторила она.
– В деревне под городом. Говорят, она сильная. Младенцев лечит и параличных поднимает. Съезди к ней. Как последний шанс.
Я молчала в трубку, сжимая её влажными от слабости пальцами.
– Тань? Ты меня слышишь?
– Слышу, – прошептала я.
– Хорошо, тёть Люд. Съезжу. Если и она не поможет… то всё. На этом мой поиск закончится.
***
Её звали баба Фатинья.
Когда я ей позвонила, голос в трубке прозвучал сухо, как осенние листья под ногами:
– Деточка, приезжай на следующей неделе, у меня все дни расписаны.
Я прижала телефон к уху, будто он мог передать ей всю мою слабость, всю боль, что съедала меня изнутри.
– Простите… боюсь, до следующей недели я уже не доживу. Голос мой сорвался в шепот. – Сегодня. Я могу приехать сегодня.
Тишина. Потом – тяжёлый вздох, будто из самой глубины веков.
– Приезжай сегодня. Сейчас.
Адрес. Короткий, как приговор.
Я ехала на последних силах. Ноги не слушались – будто налитые свинцом, глаза слипались – мир расплывался в серую муть, руки дрожали – на руле оставались влажные отпечатки.
«Если не сегодня – то никогда» – билось в висках.
Дом бабы Фатиньи стоял боком к дороге, будто стыдился своего возраста, прикрываясь зарослями бузины.
Старуха открыла дверь без стука, словно ждала.
Изба пахла полынью и воском – не тем аптечным, а густым, как расплавленное солнце.
На столе, покрытом выцветшей скатертью с узором из синих виноградных гроздьев, стояла икона без лика – только силуэт, будто тень от свечи.
– Деточка, сними обувь, – сказала Фатинья, и её голос напомнил мне скрип старых половиц.
– Земля через подошвы – грязь в душу тянет. Ты и так еле держишься.
Я босая ступила на холодный глиняный пол. Он дышал сыростью и чем-то древним – может, памятью о тех, кто приходил сюда до меня.
Баба Фатинья усадила меня на высокий стул посередине комнаты – на табурете я уже не могла сидеть.
Начала кружить вокруг, жечь свечи, читать молитвы. Воздух гудел.
– Ты знаешь, зачем пришла? – спросила Фатинья, крутя в пальцах мою прядь волос. Они были тусклые, как пепел после костра.
– Чтобы жить, – прошептала я.
– Чтобы вспомнить, – поправила она.
– Ты забыла, чья в тебе кровь.
За спиной у неё тень шевельнулась. Я поняла – это не игра света.
Там кто-то был.
– Сейчас будет больно.
Её руки – сухие, узловатые, как корни старого дуба – впились мне в плечи.
Я не успела испугаться. Она дёрнула, что-то внутри хрустнуло и зажгло. Как будто она вырвала из живота клубок колючей проволоки.
Я закричала – но звук застрял в горле.
И поплыли воспоминания…
Моё сознание перенесло меня в моё детство:
Я сижу на большой, высокой кровати моей бабушки Стеши. В изножье, а посередине, в белых пелёнках, лежит развёрнутый младенец.
Над ним, стоя на коленях, склонилась бабушка, шепчет молитвы, умывает его водой:
– Вот, смотри, дочка. Учись. В тебе тоже сила есть, и ты лечить будешь, – говорила она, гладя меня по голове.
Потом принесли к ней другое дитя:
– Смотри, Танюшка, – бабушка Стеша подняла младенца над миской с водой.
– Видишь, как жилка под кожей дрожит? Это дорога, по которой жизнь ходит. Мы её подправим, и всё наладится.
Её пальцы скользили по тельцу, как по карте. Я, пятилетняя, держала свечу – мне казалось, пламя клонилось к ребёнку, будто хотело его обнять.
Потом я чуть постарше. В гостях у другой бабушки – Серафимы. К ней пришёл сосед, корчась от боли. Она усадила его посреди горницы:
– Танюша, айда помогай, зажжи свечу и давай сюда, – командовала бабушка.
Всё выполнив, я подошла.
– Сила – она как река, – говорила бабушка Серафима, вправляя вывих.
– Ты не её хозяин. Ты – мост.
Она смеялась, когда я боялась прикоснуться к больному. А потом приложила мои пальцы к вздувшейся, пульсирующей вене на его руке:
– Чувствуешь? Это жизнь бьётся. Ты должна слышать её стук даже сквозь кожу. Вот, смотри, запоминай, и ты лечить будешь, всю силу мою примешь.
Голос Фатиньи выдернул меня из воспоминаний, он доносился откуда-то издалека:
– Ну вот, сейчас я тебя подправлю, подлечу, а дальше ты сама. У тебя сила, уж побольше моей будет, только ты ей не пользуешься, вот и зачахла.
В том состоянии меня трудно было удивить. Я давно догадывалась, и она подтвердила всё.
Баба Фатинья поставила передо мной чашу с водой. Вода была мутной, но когда я заглянула в неё, увидела не своё отражение, а девочку в красном платье в горох – себя, пятилетнюю.
– Мы все – как эта вода, – сказала Фатинья.
– Грязь оседает, но чистота – она в глубине. Ты забыла себя.
Её руки жгли мои плечи. Я зарыдала – моё тело содрогалось в конвульсиях.
Слёзы были горячие, обжигали лицо и руки.
Баба Фатинья сидела напротив, пристально всматриваясь в моё лицо. В избе пахло тмином и чем-то жжёным.
За окном выл ветер – слишком громко для этого времени года.
– У тебя сила, – прохрипела старуха. Не констатировала, а приказывала верить.
Я подняла дрожащие руки. Те же тонкие пальцы, те же синие вены под кожей. Но теперь в них… что-то пульсировало.
– Я ничего не чувствую.
Баба Фатинья резко хлопнула ладонью по столу.
– Врёшь!
Глиняная кружка взорвалась вдребезги. Но не от удара – от звука её голоса.
Я вжалась в спинку стула.
– Ты думаешь, сила – это молнии из пальцев? – старуха плюнула в печь. Огонь взревел синим пламенем.
– Сила – это когда тебе больно, а ты всё равно встаёшь.
Когда тебя предали, а ты не сгнила. Ты – живая. Значит, сила в тебе ЕСТЬ.
В избе вдруг стало тихо. Даже ветер затих.
От бабы Фатиньи я уезжала наполненной.
Наполненной не просто надеждой – жизненной силой, которую она разбудила во мне.
Как ни странно, но на следующий день меня, наконец, положили в больницу для полного обследования.
Те, кто раньше отказывал, ссылаясь на отсутствие повода, теперь молча оформляли документы.
Вот так всё и началось. С визита к старой знахарке, которая не стала меня лечить. Она просто напомнила мне, кто я есть. И этого оказалось достаточно, чтобы жизнь начала возвращаться.
***
Сперва меня полностью обследовали в терапевтическом отделении…
Но потом от меня захотели избавиться и выписать восвояси.
Кабинет заведующего терапевтическим отделением был вылизан до стерильного блеска. Пахло озоном от кварцевой лампы, старыми бумагами и подводной тоской чиновничьего кабинета. Он сидел за столом, огромным, как айсберг, и его белоснежный халат сливался с белизной стен.
– Татьяна Сергеевна, – он развёл руками, и этот жест был таким же гладким, как поверхность его стола.
– Судя по всем обследованиям и анализам, вы здоровы.
Он постучал указательным пальцем по папке с моей историей болезни – тук-тук-тук.
Звук был сухим, окончательным, будто он забивал гвоздь в крышку гроба моих надежд.
– И я не имею никакой возможности продолжать вас держать в отделении.
Его взгляд скользнул по мне, по моей тени, прилипшей к стулу, будто оценивая несоответствие картины.
– Но ваш внешний вид и физическое состояние… Они не соответствуют этим идеальным цифрам. Вы не наш пациент.
Он откинулся на спинку кресла, и оно жалобно заскрипело.
– Причину надо искать у других специалистов. Я вынужден выписать вас.
Он уже склонился над бланком, его рука быстро бегала по бумаге:
– Чтобы вы прошли более глубокое обследование у гастроэнтеролога. Кстати, отделение находится в соседнем здании.
Он закончил писать с таким видом, будто поставил красивую точку в долгом и утомительном деле. Протянул мне направление – тот самый листок, бумажку-отмазку.
Я не взяла её. Мои пальцы вцепились в спинку стула так, что побелели костяшки. Это был мой якорь, единственное, что удерживало меня в этом кренившемся мире.
– Извините, но нет, – тихо сказала я. Голос мой был хриплым, чужим.
– Вы же сами прекрасно понимаете, что до этого отделения я самостоятельно дойти не смогу.
Я посмотрела на него, пытаясь поймать его взгляд, но он упорно смотрел куда-то мне за спину.
– У меня кое-как хватило сил дойти до Вашего кабинета из палаты. И причина не только в этом.
Я сделала паузу, набирая воздух в лёгкие.
– На дворе конец ноября. Снегу – по колено. На мне только больничный халат и тапочки. Мне нужно сопровождение. И какая-нибудь верхняя одежда.
Я замолчала, сама удивляясь своей наглости. Обычно я так не поступаю. Обычно я молча терплю.
– И ещё… мне нужна каталка. Или кресло-каталка. У меня действительно совсем нет сил. Самостоятельно я не дойду.
Заведующий выпучил на меня глаза. Даже присвистнул, будто я попросила вертолёт до соседнего корпуса.
– Ну вы загнули! Где же я вам всё это найду!?
Но его рука уже сама потянулась к трубке телефона. Ворча что-то под нос, он отдал распоряжения.
Через десять минут молоденькая медсестра, щурясь от яркого снежного света, уже катила меня на скрипучем кресле-каталке в сторону соседнего здания. Я была укутана в больничный пуховик, пахнущий чужим потом, лекарствами и хлоркой.
Приёмное отделение гастроэнтерологии встретило меня стерильным холодом. Не просто прохладой – ледяным дыханием системы, в которой нет места человеческому страданию. Стены, выкрашенные в безликий салатовый цвет, казалось, впитывали в себя все надежды и превращали их в пыль. За столом сидел дежурный врач, его лицо было маской безразличия. Он бегло просмотрел мои бумаги, даже не утруждая себя поднять на меня взгляд.
– Вы не наш пациент, – прозвучала фраза, отточенная, как скальпель. Очередной приговор.
– Но меня направили… – попыталась я возразить, но голос мой прозвучал слабо и жалко.
– Возвращайтесь обратно к тому, кто вас направил, – он отодвинул мои документы, словно отодвигал саму меня.
И мне «помогли» выйти из кабинета. Рука санитара под локоть была не поддержкой, а жестом, обозначающим: «убирайся». Я была не человеком, а ненужной коробкой, занимающей место. Словно мой недуг был чем-то заразным, чем-то постыдным.
Я снова оказалась один на один с болью, съедающей меня изнутри. А внутри всё замерзало от леденящего понимания: я была лишней везде. В этих стенах, в этой системе. Никто не видел во мне больного человека – все видели лишь проблему, неудобную, навязчивую, от которой нужно было поскорее избавиться.
Мой взгляд, затуманенный слезами и болью, нашел в полумраке коридора молоденькую медсестру, которая сопровождала меня. Она стояла в стороне, и на её лице читалось неподдельное сочувствие. Увидев мой взгляд, она подошла.
– Пока Вас обследовали… – она потупила взгляд. – Случилось несчастье. Кто-то угнал «карету»… ту самую, на которой Вас привезли.
«Карету». Так она назвала каталочку. Последний символ хоть какой-то заботы.
– Вы меня здесь подождите, – сказала она, и в её голосе слышалась искренняя тревога. – А я схожу за другой. Сядьте, пожалуйста, Вам нельзя стоять.
Она усадила меня в холодном, пустом холле ожидания. Металлическая секция стульев была ледяной, холод, он пробирал до костей сквозь тонкую ткань больничного халата.
И я осталась одна. Полное одиночество в многолюдном, казалось бы, месте – это особенная, изощренная пытка. Медсестра скрылась за дверью, обещая вернуться с помощью. Минуты растягивались, превращаясь в часы. Мне показалось, что её нет целую вечность.
А потом мне стало плохо. Сначала подкатила тошнота – пустая, сухая, выворачивающая наизнанку. Потом началось головокружение. Сначала – лёгкое, как после долгого голодания, знакомая слабость. Но очень скоро оно накатило новой волной – сильнее, закружило, замутило сознание.
Пол под ногами закачался, будто я стояла на палубе корабля, попавшего в шторм.
Ледяной озноб пробежал по всему телу. Я изо всех сил сжала подлокотники, пытаясь уцепиться за реальность, но пальцы не слушались, они онемели, стали чужими.
– Эй… – попыталась я позвать, но голос не слушался. Он застрял где-то глубоко в горле, густой и липкий, как переваренное бабушкино варенье. Ни звука.
Постепенно реальность начала расплываться, терять чёткие очертания. В глазах запеленел туман. Яркий свет ламп запрыгал перед глазами жёлтыми, слепящими пятнами.
Где-то вдали, словно из-под толщи воды, донёсся звон – то ли сигнализация, то ли нарастающий, оглушительный звон в собственных ушах.
– Кто-нибудь… – прошептали мои губы, но это был уже лишь беззвучный выдох.
Коридор был пуст. Безлюдный и бесконечно длинный. Только тени под потолком казались какими-то неестественными, длинными, зловещими, будто кто-то намеренно их растянул, чтобы запугать меня.
Ноги стали ватными, совершенно нечувствительными. Я собрала последние силы и попыталась встать, чтобы пойти, найти кого-нибудь…
Но тело не подчинилось. Оно стало тяжёлым, чужим, неподъёмным.
И вдруг пол резко накренился, стены поплыли перед глазами, сливаясь в зелёно-белую полосу. Или это я упала?
Удар.
Холодный линолеум больничного пола резко прилип к щеке. От этого прикосновения, шершавого и ледяного, по телу пробежала последняя судорога.
Где-то совсем рядом, будто в другой галактике, зашипел и захрипел радиоприёмник:
– Код синий, второй этаж… приёмный покой…
Голоса. Топот быстрых шагов. Они уже доносились откуда-то издалека, они уже не были для меня.
Темнота, густая и бархатистая, стала подползать с краёв зрения, как мокрое, тяжёлое полотно, затягивая меня в себя. Зрение сужалось, как диафрагма старого фотоаппарата, оставляя лишь маленькую точку света.
Последнее, что я успела почувствовать – чьё-то прикосновение. Чью-то руку на своём плече. Голос, напряжённый и срочный:
– Держите её! Быстрее!
Но было уже слишком поздно. Слишком поздно для помощи…
Я провалилась в чёрное, бездонное, беззвучное ничто.
***
Сознание вернулось ко мне не плавно, а ворвалось резким, оглушительным звуком, который врезался в самое нутро, в самую глубь отключённого мозга.
– Тык-тык-тык-БДЫЫЫНЬ!
Я открыла глаза. Тяжёлые, словно налитые свинцом, веки с трудом разомкнулись.
– Где я? – прошептали мои губы, но голос был чужим, хриплым и безжизненным. Сознание не торопилось возвращаться, оно плыло где-то рядом, как туман над болотом, не желая вселяться обратно в это измученное тело.
Кафель.
Он был везде. Он был моим первым и единственным миром. На стенах, грязно-белых и размытых. На полу, холодном и каким-то далёким. Даже на потолке, откуда на меня давили тусклые, зарешеченные лампы, отражаясь в плитке холодными, мёртвыми бликами.
Вся комната напоминала склеенную в страшной спешке ледяную коробку, гигантский холодильник для людей. Воздух вонял едкой, удушающей хлоркой, перебиваемой чем-то кислым и сладковато-приторным – будто здесь мыли и дезинфицировали гнилые яблоки, смешанные с запёкшейся кровью.
Если бы не этот оглушительный, повторяющийся стук, я бы наверняка решила, что умерла.
Что это и есть загробный мир – холодный, кафельный и пахнущий смертью.
Но мертвецы, наверное, не слышат.
А я слышала. И с каждым новым ударом моя голова раскалывалась на части.
– Тык-тык-тык-БДЫЫЫНЬ!
Я попыталась пошевелиться, приподнять руку, хотя бы палец. Напрягла мышцы… но ничего не произошло. Только слабая дрожь пробежала по телу.
Руки и ноги были намертво пристёгнуты к холодным металлическим поручням кровати широкими ремнями. А голова… голова раскалывалась. Каждый новый – «Тык-тык-тык-БДЫЫЫНЬ!» – отдавался внутри черепа адской болью, будто по нему били железным молотом, методично и безжалостно.
– Реальность или бред? – моё ещё слабое, затуманенное сознание пыталось ухватиться за что-то, определить, где я нахожусь. Это кошмар? Галлюцинация?
Я медленно, с невероятным усилием, повернула голову. Шея хрустнула, словно ржавые дверные петли, и взгляд мой упал сначала на капельницу, игла которой впилась в вену на моей руке, а потом… на него.
На мужика напротив.
И этот мужик… Он смотрел на меня. Пристально, не отрываясь.
Его рот был растянут в беззвучной, сумасшедшей ухмылке. Он лежал на своей кровати как-то неестественно, по диагонали, выгнувшись дугой, словно повешенный, которого сняли с петли. Одна его рука была привязана к кровати, а другой, свободной, он с завидным упорством бил железным судном по кафельному полу, порождая тот самый кошмарный звук, и издавал при этом какое-то нечеловеческое, гортанное:
– Тык-тык-тык-БДЫЫЫНЬ!
– ММММЭЭЭ… – доносилось из его глотки, больше похожее на рычание раненого зверя, чем на человеческую речь.
Его лицо было жёлто-серым, цвета старой, пожелтевшей газеты. Глаза – мутные, застывшие, но в их глубине пылала странная, животная, неукротимая ярость.
Вся эта картина напоминала кадр из какого-то низкобюджетного, но оттого не менее жуткого фильма ужасов.
– А почему здесь так жутко, так холодно, прямо как в морге, и везде этот кафель? – метались в моей звенящей от боли голове бредовые мысли. – Я в дурке? Или какой-то постапокалиптический сценарий из фильмов всё же сбылся?
– Очнулась!
Голос возник прямо над моим ухом, заставив меня вздрогнуть и дёрнуться на ремнях. Передо мной, словно из ниоткуда, возникла фигура в белоснежном, идеально отглаженном халате. Медсестра. Её лицо было странно гладким, неподвижным, будто вырезанным из воска или плотной бумаги. Ни одной морщинки, ни одной эмоции.
– Двое суток тебя откачивали, – произнесла она ровным, безразличным тоном. – Ну, наконец-то очнулась. Значит, будем переводить в общую палату.
Я с трудом перевела взгляд с её воскового лица на того, кто продолжал свой дикий концерт.
– А это? – прохрипела я, едва шевеля губами.
Медсестра проследила за моим взглядом и лишь безучастно махнула рукой, словно отмахиваясь от назойливой мухи.
– Это наш неугомонный пациент, – сказала она, и в её голосе впервые прозвучали нотки обыденной усталости. – Поступил в тяжёлом алкогольном опьянении. Ни одна доза наркоза его не берёт, вот и буянит. Сколько мы его ни привязывали, он каждый раз умудряется дотянуться до этого чёртова судна.
Как будто в подтверждение её слов, из угла снова раздалось:
– Тык-тык-тык-БДЫЫЫНЬ!
***
После реанимации меня, как и обещали, перевели в обычную палату в гастроэнтерологическом отделении.
И вот здесь, в стенах, которые уже не были сплошным кафелем, меня наконец-то начали обследовать. Началась новая глава моего больничного существования.
Тишина после реанимации была особенной – густой, вязкой, будто ватной. Её нарушил негромкий, но чёткий мужской голос, прозвучавший прямо над моим ухом.
– Татьяна Сергеевна, вы меня слышите?
Я с огромным трудом заставила себя открыть глаза. Веки были тяжёлыми, налитыми свинцом усталости и слабости. В мутном поле зрения постепенно проступили очертания человека в белом халате. Мужчина. Лет сорока пяти. Его лицо было испещрено глубокими морщинками, особенно у рта, а под глазами лежали тёмные тени – будто он не спал несколько суток подряд. Но его взгляд… его взгляд был острым, ясным и цепким, лишённым той раздражённой, равнодушной спешки, что я успела привыкнуть видеть у предыдущих врачей.
– Вы в хирургическом отделении, – произнёс он спокойно, и его пальцы, длинные и уверенные, принялись перелистывать мою историю болезни. Тонкая, жалкая папка, которая казалась такой же пустой и обессиленной, как и я сама. – Вас нашли без сознания в коридоре гастроэнтерологии.
Я попыталась приподняться на локте, но резкая, кинжальная боль в боку тут же пригвоздила меня к постели, вынудив с глухим стоном опуститься обратно на жёсткий больничный матрац.
– Не двигайтесь резко, – его голос прозвучал твёрдо, но без упрёка. Он наклонился ко мне, и его пальцы аккуратно поправили подушку под моей головой. От него пахло медицинским спиртом и чем-то ещё – горьковатым, как пережжённый кофе. Словно он только что выпил чашку, чтобы прогнать усталость, прежде чем зайти ко мне. – У вас анемия. Признаки внутреннего кровотечения. А анализы… – он вздохнул, и этот вздох был красноречивее любых слов. Его палец с лёгким стуком постучал по какому-то листу в папке. – Странно, что вас до сих пор не обследовали как следует.
Эти слова развязали мне язык, прорвав плотину отчаяния, которое копилось неделями.
– Меня везде выгоняли… – мой собственный голос прозвучал хрипло и предательски дрогнул, выдав всю мою беспомощность. – Говорили, что я «здорова». Что я симулянтка…
Он замер. Казалось, даже воздух в палате перестал двигаться. Потом он очень медленно поднял голову, и его взгляд, острый и тяжёлый, впился в меня.
– Здорова? – в его голосе прозвучало что-то среднее между леденящим возмущением и горькой, уставшей от подобных историй иронией. – У вас гемоглобин чуть за пятьдесят. – Он с силой швырнул папку на прикроватную тумбочку, и тот глухой шлепок прозвучал как приговор всей предыдущей системе «лечения». – А на УЗИ видно затемнение в брюшной полости. Обширное.
Хирург нахмурился, его губы сжались в тонкую, жёсткую линию. В его глазах читалась не просто профессиональная обеспокоенность, а нечто большее – человеческая, почти личная досада.
– Если бы вас ещё немного «покидало» по больницам, – произнёс он с убийственной прямотой, – вас могли бы привезти уже в соседнее с нами здание.
Мне не нужно было объяснений. Я всё поняла. Соседнее здание. То самое место, куда отправляются те, кого уже поздно спасать, место окончательной регистрации граждан. В простонародье – МОРГ.
Ледяной, тошнотворный холодок медленно пополз по моей спине, сжимая горло.
– Значит… мне действительно плохо? – выдохнула я, и в этом вопросе была не просто просьба о подтверждении, а мольба о признании моей боли, и наконец-то быть услышанной.
Он посмотрел на меня – внимательно, пристально, словно впервые за этот долгий день увидел перед собой не просто «очередную пациентку», не «случай из практики», а живого, напуганного, измученного человека.
– Да, – ответил он без обиняков, но в его голосе теперь звучала не грубость, а твёрдая, обнадёживающая ясность. – Плохо. Но теперь вы здесь, и мы разберёмся.
Потом он резко, почти порывисто развернулся к дежурной медсестре, стоявшей у порога.
– Найдите, кто её сюда направил, – приказал он, и его голос стал тише, но от этого лишь острее, подобно отточенному лезвию. – Я хочу поговорить с этим гением, который решил, что она «здорова». Лично.
Медсестра, кивнув, тут же вышла исполнять распоряжение. Хирург снова повернулся ко мне. Он наклонился чуть ближе.
– Вы не одна, – сказал он твёрдо, и его глаза, усталые, но ясные, смотрели на меня прямо и честно, без тени лжи или отстранённости. – Мы вас не бросим. Обещаю.
И впервые за долгие, чёрные недели я почувствовала, как крошечная, хрупкая, но настоящая искра надежды теплится где-то глубоко внутри, пробиваясь сквозь ледяную толщу страха и отчаяния.
Видимых отклонений во мне никто не находил, и это сводило врачей с ума. Я стала для них сложнейшим пазлом, который невозможно было собрать. Меня обследовали всеми мыслимыми и немыслимыми методами, словно редкий экспонат в медицинском музее.
Брали десятки анализов, которые упорно не показывали ничего определённого. Делали ФГДС снова и снова, заглядывая в меня с разных сторон, но каждая новая попытка лишь заводила в тупик, оставляя светила медицины в полном недоумении.
В тот день меня привезли в кабинет, где стоял аппарат, напоминающий гигантское, пугающее колесо обозрения из фильмов про средневековые пытки. Холодный металл блестел под лампами, жужжали скрытые механизмы, слепящий свет выжигал остатки сил.
– Выпейте это, – медсестра протянула мне стакан с белой, непрозрачной жидкостью, похожей на разведённый мел. Я сделала глоток – на вкус это было похоже на гипс с привкусом металла и безысходности.
– Что это? – спросила я, чувствуя, как тошнота подкатывает к горлу.
– Контрастное вещество, – безразлично ответила она. – Чтобы увидеть, где застряла ваша жизнь.
Меня пристегнули ремнями к холодной поверхности, и колесо начало медленно вращаться. Я чувствовала, как отвратительная жидкость переливается внутри, но не уходит дальше – словно в бутылке с наглухо закрученной крышкой. Так же, как и я сама – запертая в собственном теле, без выхода.
Врач уставился на монитор, его очки блеснули отражением зелёных пикселей.
– Милочка… ваш желудок – как кувшин, – произнёс он, и в его голосе прозвучало нечто среднее между изумлением и ужасом. Он повернул экран ко мне. – Видите? Вход в него есть, дальше идёт расширение, тело желудка. И… всё.
Его палец ткнул в затемнённую область на снимке.
– Дно. Выхода нет. Как в банке.
Он вытаращил на меня глаза, и в них читался неподдельный шок.
– Теоретически… вы не должны были прожить и недели с таким.
Я замерла, чувствуя, как ледяная волна прокатывается по спине.
– Но мне 38 лет! – выдохнула я, и мой голос прозвучал как чужой, полный недоумения и страха.
– Вот и мы не понимаем, – он растерянно почесал затылок, не отрывая взгляда от снимка. – Нуууууу… я даже не знаю, я первый раз сталкиваюсь с таким случаем. Вход есть, выхода нет.
Он развёл руками, словно предлагая миру разгадать эту невероятную загадку.
Через час в палату ворвалась настоящая буря – хирург Лев Валерьянович, гастроэнтеролог Анна Михайловна, реаниматолог Сергей Викторович. Они встали вокруг моей кровати, словно судьи.
– Посмотрите на снимки! – Сергей Викторович швырнул плёнки на стол. – Полная обструкция привратника!
Анна Михайловна покачала головой:
– Но как она вообще жива? Гемоглобин 52, белок на нижней границе…
– Вы хоть раз видели подобное? – Лев Валерьянович нервно поправил очки. – Желудок-ловушка! Пища поступает и не эвакуируется!
Мой голос, тихий, но чёткий, прорвался сквозь этот шум:
– Я питаюсь как зомби!
Все замолчали, повернувшись ко мне.
– Ем… потом жду, пока еда сгниёт… потом наступает рвота… и так каждый день уже три месяца.
Сергей Викторович побледнел:
– Боже правый… Вы живёте на аутотоксикации! Организм отравляет сам себя продуктами распада!
Лев Валерьянович решительно разложил на подушке схему операции:
– Только анастомоз. Будем формировать обходной путь. Возьмём гортань животного – хрящ не даст стенкам слипнуться.
– Почему именно гортань? – прошептала я.
– Потому что это единственный биоматериал, который не будет отторгнут и сохранит форму, – объяснил он, показывая на схеме. – Станет своеобразным каркасом.
Он вздохнул, снял очки и посмотрел на меня прямо:
– Татьяна, это беспрецедентная операция. Риск огромен – от отторжения трансплантата до сепсиса. Нам нужно ваше согласие.
Я посмотрела на свои синие, почти прозрачные вены на руках, на эту хрупкую ниточку жизни…
– Режьте.
Меня перевезли в реанимацию. Мир сузился до стерильного пространства: постоянное жужжание мониторов, щёлканье инфузионных насосов, холодные пальцы медсестёр, берущих анализы, шипение кислородной маски.
– Держитесь, Татьяна Сергеевна, – говорила медсестра Юля, меняя капельницу. – Вам нужно набраться сил перед операцией.
Каждый день – новые процедуры: вливания альбумина, инъекции витаминов, переливания эритроцитарной массы, кардиомониторинг 24/7.
За три дня до операции возле моей кровати Лев Валерьянович и Сергей Викторович, просматривали вновь поступившие результаты анализов:
– Смотрите, – реаниматолог держал папку в руках. – Гемоглобин поднялся до 67. Сердце стабильное. Мы будем готовы послезавтра.
***
Из реанимации меня перевели не в ту маленькую, почти уютную палату, где я лежала вдвоём с молчаливой пожилой дамой, а в огромную, восьмиместную. Первой мыслью было: «Раньше была тишина…»
Теперь её не было. Её съели скрип старых кроватей, надсадный кашель за соседней кроватью, металлический звон капельниц, сливавшийся в один тоскливый перезвон.
Старушка напротив, вся в морщинах, как печёное яблоко, беззвучно шептала молитвы. Две девушки лет двадцати, звонко смеялись над чем-то в своих телефонах, их смех резал уши, казался кощунственным. Остальные пациентки просто лежали, уставившись в потолок, их взгляды были пусты и безжизненны.
Меня разместили у окна – будто дали последнее место в театре перед закрытием занавеса.
И снова началась подготовка к операции. Предоперационная химиотерапия. И каждый день – три капельницы. Три флакона с прозрачной, обманчиво невинной жидкостью, которые методично вгоняли моё тело в самый настоящий ад.
Сначала – лишь лёгкий озноб, словно от сквозняка. Но уже через несколько минут под кожей разгорался огонь, будто в вены влили раскалённый металл. Сердце начинало колотиться с такой бешеной силой, что казалось – вот-вот разорвёт грудную клетку и выпрыгнет наружу. По всему телу бежали мурашки, но это были не просто мурашки – это были тысячи крошечных, раскалённых иголок, впивающихся в каждый миллиметр кожи, отзывающихся глубокой, ноющей, невыносимой болью.
Я сжала простыню, стиснула зубы.
– «Это лактоза…» – именно во время капельницы с этим препаратом начинался этот кошмар. Я была в этом уверена.
Во время утреннего обхода Лев Валерьянович остановился у моей койки. Он стоял, листая документы в моей истории болезни, его лицо было усталым, но сосредоточенным.
– Кризис миновал, – констатировал он, не глядя на меня. – Завтра будем оперировать. А пока продолжаем лечение.
Я собрала всё своё мужество, которое оставалось в моём истощённом теле.
– Доктор… – мой голос дрожал, но я заставила себя продолжать. – После капельниц мне становится хуже. Сильно. Температура, дикая дрожь, боль… Может, это лактоза? Может, отменить её?
Лев Валерьянович нахмурился, его глаза забегали по строчкам в бумагах, будто он искал там подтверждение или опровержение моим словам. Он тяжело вздохнул.
– Хорошо… – наконец произнёс он. – Сегодня попробуем без неё. Посмотрим на вашу реакцию.
Я кивнула, чувствуя, как отступает напряжение и разжала пальцы, отпуская скомканный край простыни.
– «Наконец-то… Слава Богу…»
Но вечером, когда в палате уже сгустились сумерки, дверь с привычным скрипом открылась, и на пороге появилась медсестра Надежда. В её руках – та самая, знакомая до тошноты капельница. И те самые три флакона.
Сердце упало.
– Наденька… – я из последних сил приподнялась на локте, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо и убедительно. – Лев Валерьянович… он отменил сегодня лактозу… Мне от неё очень дурно. Пожалуйста, проверьте…
Она даже не взглянула на меня. Её пальцы с привычной, бездушной ловкостью готовили систему, щёлкали клапанами.
– Татьяна, что Вы выдумываете? – её голос был ровным и холодным. – В журнале ничего не написано. Разберётесь завтра с заведующим. Не капризничаем. Давайте руку.
Отчаяние подкатило к горлу комом.
– Но я… Лев Валерьянович лично…
– Татьяна! – её голос вдруг резанул воздух, резкий и нетерпеливый. – У меня полное отделение таких, как вы. Некогда тут нянчиться с каждым!
Холодная вата со спиртом, резкий укол, знакомое жгучее тепло, поползшее по вене. Я закрыла глаза, чувствуя, как внутри снова, с неумолимой силой, разгорается ад.
Когда мучительная процедура закончилась, и Надежда уже снимала систему, она, не глядя на меня, бросила:
– Жду Вас в процедурном кабинете. Через пять минут.
– Зачем? – выдохнула я, чувствуя, как по телу растекается слабость и тошнота.
– У Вас завтра операция, – её тон не допускал возражений. – Надо подготовиться. Клизма. Не задерживайте.
– Я… я очень плохо себя чувствую… – попыталась я возразить, голос был слабым и предательски дрожащим.
– Детский сад! – фыркнула она, уже выходя из палаты. Дверь захлопнулась с грохотом. – Быстро в процедурную!
В ушах звенело, тело ломило, сердце бешено колотилось. Через силу, как лунатик, я поднялась с кровати и, держась за стены, поплелась в процедурный кабинет. Ноги были ватными, голова кружилась.
Пол под ногами внезапно стал мягким, неустойчивым, как зыбучий песок. Стены закачались и поплыли, сжимаясь в длинный, тёмный туннель. Я сделала последнее усилие, схватилась за косяк двери в процедурную, пальцы скользнули по гладкой поверхности…
И я провалилась. В чёрную, беззвучную, бездонную пустоту. Последнее, что я успела почувствовать – резкий, испуганный крик Надежды где-то очень далеко.
***
Сознание возвращалось медленно, будто кто-то вручную загружал мои мысли по частям, с перебоями и помехами, как старое кино с порванной пленкой. Ощущения накатывали волнами, обрывочными и не связанными между собой.
Первое, что я поняла – я в реанимации. Холодный металл перил кровати под ладонью, шипение кислорода, входящего в лёгкие через трубку, мерцание мониторов, отбрасывающее синеватые блики на стены.
Второе – я не помню, как сюда попала. Память была чистым листом, залитым белым, слепящим светом, в котором плавали лишь обрывки звуков и ощущений.
Третье – я хочу пить. Невыносимо, до тошноты, до спазмов в горле. Губы слиплись, будто их склеили медицинским клеем, и каждая попытка разомкнуть их отзывалась острой, рвущей болью.
– Пить… – хрип вырвался из горла, больше похожий на стон умирающего животного, чем на человеческую речь.
Тени над кроватью зашевелились. Из мерцающей темноты возникло лицо – чёткое, спокойное, с глазами, видевшими тысячи таких, как я.
– С возвращением. Тебя не было четверо суток, – голос был низким, бархатистым, без единой ноты паники или удивления.
Медсестра (или ангел? в этом полумраке границы между мирами стирались) в белоснежном халате протёрла мне губы мокрым бинтом. Прохлада стала лучшим ощущением в моей жизни. Миг абсолютного, ни с чем не сравнимого облегчения.
– Потерпи немного, скоро напоим, – её слова прозвучали как обещание, данное в другом, здоровом мире, до которого мне нужно было ещё дотянуться.
Она исчезла так же тихо, как появилась, оставив после себя запах спирта и миллион невысказанных вопросов, вертящихся в опустевшей голове.
«Четверо суток? Где я была? Что со мной произошло?»
Когда меня, наконец, вернули в палату, всё казалось чужим, смещённым. За время моего отсутствия мир здесь перевернулся и пошёл по другой оси.
Кто-то выписался, оставив после себя пустую, застеленную чистыми простынями койку и едва уловимый запах лекарств. Кого-то заселили – новые, испуганные, потерянные лица смотрели на меня, не зная, что я такая же, как они, только уже побывавшая… там. Где-то там, за гранью.
Родные приходили. Мама гладила мою руку – её пальцы мелко и предательски дрожали, выдавая спокойный, ровный голос, которым она говорила: «Всё хорошо, дочка, всё уже позади».
Подруга Ольга принесла апельсины, яркие, как маленькие, недосягаемые солнца, которые я не могла есть. Они лежали на тумбочке, немой укор моей немощи и беспомощности, символ обычной жизни, которая теперь казалась фантастикой.
Коллеги стояли в дверях, не зная, что сказать, их глаза бегали по сторонам, избегая моих, и в их растерянности было больше правды, чем во всех утешительных словах.
Муж Олег с сыном пытались меня взбодрить, говорили что-то обнадёживающее, о доме, о будущем, о том, как мы все вместе поедем на море.
Но их слова не долетали. Я видела их рты, двигающиеся в привычных, заученных утешительных фразах, но звук тонул где-то в густой, плотной вате, которой было набито моё сознание. Он долетал обрывками, как радиопомехи из другой, параллельной вселенной, не имеющей ко мне никакого отношения.
И тогда пришло оно. Странное, ледяное, абсолютное спокойствие. Даже не спокойствие – безразличие. Мне стал не важен исход. Будет ли жизнь после, или её не будет – это потеряло всякий смысл.
Слова Льва Валерьяновича, сказанные им накануне, звучали в голове чётко, как запись на повторе, вытесняя всё остальное:
– Операция очень тяжёлая. Очень сложная. Последствия могут быть разными. Самыми разными. Будьте готовы ко всему.
Я кивнула тогда. Кивнула не ему. Судьбе. И в тот самый миг… отпустила. Отпустила страх, сжимавший горло долгие годы. Отпустила надежду, согревавшую по ночам. Они испарились, растворились в больничном воздухе, оставив после себя беззвёздный, оглушительный вакуум.
Я уже умерла – четверо суток назад. Теперь я была просто сторонним наблюдателем, призраком, следящим за разворачивающейся вокруг драмой. И в этой оглушительной, безразличной пустоте ко мне пришла благодарность. Неожиданная, тихая, но жгучая, как раскалённый уголёк.
К Льву Валерьяновичу. За его честность. За то, что не врал, не кормил сладкими сказками про «всё будет хорошо». За то, что дал мне право на правду, какой бы горькой, жестокой и беспощадной она ни была.
Только так – без сладких иллюзий, без фальшивых обещаний – я смогла принять любой исход. И в этом осознании была странная, горькая, но настоящая свобода. Свобода от ожиданий, от страха, от самой себя.
***
Операционная. Снова помехи, снова препятствия на этом тернистом пути к спасению.
– Наркоза мало! – голос Льва Валерьяновича, обычно такого уверенного, теперь звучал сдавленно. Он стиснул зубы, с силой сжав в руке телефон.
– Запросите в городской! Срочно!
Я закрыла глаза, ощущая холод металла под голой спиной. «Интересно… увижу ли я весну?» – пронеслось в голове, как последняя мирная мысль перед бурей.
Холодный операционный стол впивался в тело, леденя до костей. Руки раскинуты на подлокотниках – точь-в-точь распятие. Я инстинктивно попыталась прикрыть грудь, но внутренний голос остановил: «Стыд – это роскошь. Сейчас не до него».
– Нет, вы не понимаете! – голос Льва Валерьяновича снова разрезал стерильную тишину. Он стоял в углу, сжимая телефон так, будто хотел раздавить его в кулаке. – У нас нет лишних суток! Больная уже на столе, и если мы сейчас…
Его слова оборвались. В операционной повисло тяжёлое, гнетущее молчание. Хирурги переглядывались, будто впервые осознали, что часы тикают не в их пользу. Анестезиолог Аркадий нервно постукивал пальцами по наркозному аппарату, его лицо было напряжённым.
– Мне срочно нужна необходимая доза наркоза… – Лев Валерьянович говорил уже в трубку, и после короткой паузы его резкий, напористый тон сменился на восторженный: – Благодарю, Иван Петрович, ты меня выручил! Ты же знаешь, за мной не заржавеет… Да, да, на личном, служебный ждать три часа… Нет, документы потом оформлю, спасибо, брат!
Он положил телефон, и по его лицу пробежала слабая улыбка облегчения.
В операционной было слышно только гудение аппаратуры и ровный гул холодильника с кровью.
Лев Валерьянович негромко, почти шёпотом, обратился к анестезиологу:
– Аркаш… Помнишь Турикову в прошлом году? Мы тогда тоже ждали…
Анестезиолог замер. Его пальцы непроизвольно сжали флакон с пропофолом.
– Не надо… – прошептал он.
Лев Валерьянович положил руку ему на плечо:
– Вот и мне не надо.
Потом, собравшись с мыслями, он обвёл взглядом команду:
– Ну что, коллеги, у нас есть час до начала операции. Можете расходиться кто куда, но недалеко.
Ассистентка кивнула в мою сторону:
– А пациентка?
Лев Валерьянович повернулся ко мне. Его взгляд был не взглядом врача, а скорее уставшего воина, который уже слишком много видел на своём веку.
– Пусть лежит. Всё стерильно, заново готовить – только время терять.
И они ушли. Дверь закрылась с тихим щелчком. Я снова осталась одна.
Голое тело. Раскрытое, как книга с плохим концом. Вся нараспашку, наизнанку, как учебник по анатомии: грудная клетка – поднята валиком, живот – обработан жёлтым антисептиком, руки – раскинуты, как крылья подстреленной птицы.
Но что-то изменилось. Моё тело уже не било дрожью, оно будто поняло, что сопротивляться бесполезно.
Дыхание стало глубоким и ровным. Холод стола больше не обжигал – он просто был, как есть ветер или дождь в природе.
Когда привезли наркоз, я уже не дрожала. И потом… наступила тишина. Только мерцание ламп, только лёгкий гул кондиционера.
– Делаем глубокий вдох, – голос анестезиолога проплыл над моим лицом.
Я вдохнула.
– Ещё… Ещё… Ещё…
***
И тогда началось нечто иное.
Мягкий, льющийся из ниоткуда свет залил всё вокруг. В этом свете я вижу реальные картины, но вижу их как будто не своими глазами, а кем-то другим.
При этом я понимаю – этот кто-то и есть я. Как в матрёшке, где одна я нахожусь внутри другой я, которая наблюдает за всем происходящим.
Тёмная волна накрывает меня, но страха нет. Потому что я уже там – в этом льющемся, тёплом свете.
Я вижу операционную сверху. Вижу себя – бледную, худую, с закрытыми глазами. Вижу, как анестезиолог наклоняется, как хирурги моют руки. И понимаю: это тоже я.
Там, внутри света, – ещё одна я. И та я смотрит на эту…
Последняя мысль перед тем, как сознание окончательно гаснет:
«Пусть будет что будет.»
Я – готова.
ВСПЫШКА…
Память – ненадёжный свидетель. Она искажает, преувеличивает, стирает самое важное, оставляя лишь намёки и тени.
Но иногда достаточно одного мгновения – вспышки – чтобы всё вернулось…
Вспышка мигает и её свет выхватывает из кромешной тьмы не образы, а ощущения… запах печного дыма, привкус страха на губах и жёлтые, как мёд, глаза бабушки Серафимы…
***
Казалось, сама природа смеялась над человеческими планами. Апрельский воздух был обманчиво ласков, а солнце светило так яростно, что асфальт плавился под колёсами отцовской «Волги».
– Мила, возьми хотя бы кофту! – Бабушка Стеша, мать отца, настойчиво сунула свёрток в руки моей маме, пока та усаживала двухлетнего Максима на заднее сиденье.
– Да какая кофта, мам? – мама отмахнулась, поправляя складки своего лёгкого ситцевого платья.
– Посмотри на градусник! +25 в тени! Мы же всего на два дня едем.
Отец, Сергей, с гордостью похлопал ладонью по капоту своей лакированной «Волги»:
– Эта красавица домчит нас за три часа. В воскресенье к ужину вернёмся.
Бабушка Стеша, вздыхая, перекрестила всех троих:
– Ну с Богом… Только смотрите, если ребёнок забеспокоится…
– Какой ребёнок? – засмеялся отец, заводя мотор.
– Ещё месяц как минимум! Всё успеем.
Двигатель заурчал, «Волга» плавно тронулась с места, оставляя за собой длинный шлейф пыли на сухой апрельской дороге.
Но судьба распорядилась иначе. Апрель, этот обманщик, показал свой настоящий, суровый нрав.
Вчера – почти летняя жара, а сегодня – слепая, бешеная снежная стена. Снег не падал – он яростно атаковал, закручиваясь в белые вихри. Белые волки вьюги выли в печную трубу, царапались в ставни, заносили дорогу и тропы за считанные минуты.
Воздух стал густым, белым, как парное молоко в жестяном ведре после дойки.
Утром, после ночного буйства стихии, открылась удручающая картина – зима вернулась, как незваная и злая хозяйка. За ночь снег завалил всё так, что ни о каком автомобиле не могло быть и речи.
– Никакой трактор до понедельника не пробьётся, даже не надейтесь, – обречённо сказала тётя Наташа, вглядываясь в заиндевевшее окно.
Её лицо в мутном отражении расплывалось, будто уже тонуло в этом белом хаосе.
– Ну вот, Милашка, попали мы с тобой в самый настоящий снежный плен, – развёл руками отец, его голос дрогнул от бессилия.
– Теперь передвигаться можно только на вертолёте или на лыжах. Вот я попал, мне же в таксопарк надо в понедельник с утра, как штык! – он с досадой стукнул себя ладонью по лбу.
– Да уж, трактор смогут прислать только к обеду в понедельник, не раньше, – сокрушалась тётя Наташа, заваривая чай. – В выходные у нас никто не работает.
И тут я, не рождённая ещё, приняла своё решение – мне стало тесно, скучно и захотелось на свободу. Я билась в мамином животе, настойчиво требуя выхода на волю.
Конечно, этим своим решением я устроила настоящий переполох.
Мой папа, муж тёти Наташи – дядя Саша, соседи – дядя Коля и дядя Толя, пытались героически расчистить дорогу лопатами, но все их попытки были тщетны, как попытка вычерпать море.
– Дороги в районный центр нет, она как белое, чистое поле! Ни нам к ним, ни им к нам! – чуть не плача, вбежала в дом из сельской конторы тётя Наташа, сбрасывая с плеч запушённый снегом платок.
– Я не знаю, что делать, – в отчаянии опустилась она на стул рядом с моей бледной, испуганной мамой.
– Что делать, что делать? – раздался в горнице голос моей бабушки Серафимы, матери мамы. Она вошла, встряхнула с платка снег, и в воздухе повисла ледяная пыль.
– Будем рожать! Мужики уже баню топят. Сейчас, моя хорошая, всё наладится, – и она положила свою сухую, но крепкую руку на мамино дрожащее плечо.
– Рожать? В бане? – мама схватилась за край стола.
– Да вы с ума все посходили! Я же не скотина какая-то!
Бабушка Серафима с силой хлопнула ладонью по тёплой печке:
– В бане все люди и рождаются! Я вас всех, девять сама, без этих ваших врачей приняла, и все – живы, здоровы. Там первый пар – он, как ангельское крыло, любую боль, любую хворобу снимает. А ты, Милана, не в городе теперь. Тут Земля-матушка сама решает, когда и кому на свет появляться.
За дверью слышались топот и обрывочные, глухие разговоры мужиков – отец и дядя Саша уже таскали в баню вёдра с водой. Их голоса резало и уносило порывами ветра:
– Эй, Сергей, глянь-ка! Твоя «Волга» – теперь как снежная баба!
Мама, стиснув зубы, кусала край полотенца, чтобы не закричать от страха и боли. Я же, ещё не рождённая, отчаянно билась в её животе, как речная щука, попавшая в сети.
Бабушка Серафима развела руки в стороны, будто держала в них невидимый клубок:
– Вот она, пуповина-то… Видишь, какая крепкая. До самого неба тянется.
Её тёплые пальцы медленно скользили по маминому напряжённому животу, как по тайной карте. Я чувствовала это – тепло шло следом за её прикосновениями, растворяя окружающую тьму и страх. Я поняла – я в надёжных, знающих руках.
Выскользнула я в этот мир на гребне волны горячего, духмяного пара. Первое, что увидели мои мутные глазёнки – бабушкины глаза. Не чёрные, не карие – а именно жёлтые, как мёд, на солнце.
Снег за маленьким окошком будто замер на мгновение, затаив дыхание, в такт моему первому крику.
Бабушка Серафима, шептала:
– «Духи рода одобрили.»
Баба Серафима ловко завернула меня в отцову чистую рубаху и унесла в дом, бережно уложив на тёплую лежанку печи:
– Пусть греется, набирается силы. А теперь Милу будем спасать.
– Ого-го! – радостно закричал кто-то, заглянув в дверь.
– Мужык родился!
Печь весело потрескивала поленьями, будто смеялась, когда в её нутре баба Серафима сжигала послед: – «Чтобы ребёнок не болел, чтобы зло мимо обходило.»
– А давайте ему имя придумаем! – проявила инициативу моя десятилетняя двоюродная сестра Агата, дочь тёти Наташи и дяди Саши, встав на табуретку и заглядывая за шторку на печку, туда, где лежала я.
– Коля – вот красивое имя! – не унималась она, сверкая глазами.
Отец, улыбаясь, подсаживает на руках моего старшего брата Максима:
– Ну, что Максимка, видишь, мужик там, на печи?
– Вижу! – Максим тычет в мою сторону пухлым пальцем.
– МузЫк!…
Тётя Наташа смеялась:
– Вот и славно, Николай Сергеевич!
Дядя Саша, поднимая кружку, стучал ложкой для важности:
– Ну, за новорожденного, за Колю!
Я же мирно посапыла на тёплой печке, не ведая, что через несколько часов вся эта идиллия перевернётся с ног на голову.
Мой оглушительный, требовательный рёв поднял на ноги весь дом. Я голодным криком требовала есть, но молоко у мамы ещё не прибыло.
Тётя Наташа в пять утра, побежала доить свою Бурёнку. Но я, маленькая упрямица, наотрез отказалась от тёплого коровьего молока и заорала ещё громче, выражая протест.
Плевалась я и от размоченного в марле хлеба, и от сладкой водички, которую мне пытались влить.
– Горожане, одно слово! – качала головой, но с улыбкой, тётя Наташа.
– Мои-то дети литрами это молоко пили!
Спасла положение соседка тёти Наташи, родившая всего неделю назад.
В её тугую, наполненную грудь я вцепилась с жадностью, будто голодный волчонок.
Вечером бабушка Серафима, совершая древний обряд, пошла купать меня в остывшей бане, в тёплом молоке, чтоб «не сглазили»… И вдруг замерла, склонившись надо мной:
– Батюшки светы… Да это ж девка!
– На, держи свою принцессу, – чуть насмешливо, но с добротой, протянула меня бабушка Серафима моему отцу.
– Ну, вот Максим, смотри, это не мужик! – говорил отец, снова поднимая брата ко мне на печку.
– Не, не музык! – старательно повторял за отцом Макс.
– Как девка?! – развёл руками дядя Саша. – Парень же был… Мы же Колей его звали!
Двоюродная сестра Агата театрально вздохнула:
– Ой, опять имя заново придумывать…
Папа, глядя на меня, сказал твёрдо и без колебаний:
– Имя у неё есть. Это Таня!
Бабушка Серафима вышла во двор на рассвете, когда в доме все ещё спали. В одной её руке был глиняный горшок, в другой – свёрток в чистой тряпице, туго перевязанный красной шерстяной ниткой.
Она присела на корточки у старой, могучей яблони и положила свёрток между её уходящими в землю корнями, бережно присыпала его рыхлой землёй, а затем полила из горшка – но не водой, а свежим, ещё тёплым молоком.
– «Чтобы дерево силу знало…», – шептала она, и её слова таяли в утреннем воздухе.
– «Как яблоня эта к земле накрепко привязана,
Так и ты, Таня, к роду своему навек привязана.
Корни вглубь – судьба ввысь.
Чтоб никто и никогда тебя не оторвал, не отрубил от этой земли, от этой крови.»
***
Вспышка гаснет, а я навсегда осталась связана невидимыми, но прочнейшими нитями и с тем старым домом, и с той яблоней, и с той баней, где появилась на свет, которых уже давно нет на картах, но которые навсегда отпечатались в моём сердце.
Навсегда связана с родом – рождённая вьюгой и принятая тёплыми, пахнущими дымом и парным молоком руками.
ВСПЫШКА…
Белое. Ослепительно-белое, режущее глаза. Сквозь слипающиеся ресницы я вижу себя – маленькую, беспомощную, распластанную на холодном операционном столе. Слепящий свет хирургических ламп, бездушный металлический блеск инструментов, смутные тени в зелёных халатах, копошащиеся вокруг. Их голоса доносятся сквозь вату наркоза, приглушённые и нереальные.
И вдруг – сквозь стерильную белизну больничных стен, сквозь кафель и штукатурку, проступает нечто иное. Тёмные, извилистые жилы. Они ползут, извиваются, наливаются соком. Это корни. Мощные, живые корни той самой родовой яблони, с которой навсегда соединила меня бабушка Серафима…
Они тянутся ко мне, эти пульсирующие ветви, мягко, но неумолимо опутывая запястья, щиколотки. Холод кожи сменяется их живым, грубывым и тёплым прикосновением. И вот меня уже держат не кожаные ремни, а они – живые, дышащие в такт моему сердцу.
В их тихом, древнем шелесте я слышу её, бабушкин, шёпот, проросший сквозь время: «Род крепок корнями, дитятко… Держись…»
Голос анестезиолога пробивается сквозь нарастающий водоворот образов, как сквозь толщу воды:
– Глубоко вдохните. Сейчас уснёте.
Я делаю последний, прерывистый вдох, наполняя лёгкие химической прохладой… и проваливаюсь.
***
…и вдруг, сквозь запах эфира, на языке возникает вкус – густого, парного молока. Того самого, первого, что пила в самые ранние, туманные дни своей жизни. И снова во мне просыпается всепоглощающий, животный голод.
Он разрывает грудь изнутри оглушительным рёвом, криком, в котором – одна лишь потребность жить.
– Да что ж ты за неугомонная такая! Ишь, раскричалась, не угомонить! – доносится сверху усталый, резкий голос тёти Наташи.
Но коровье молоко застревает комом в горле, не принося облегчения. И тогда – новое прикосновение.
Руки соседки, её грудь, что пахнет душистым травяным чаем и тёплым, только что испечённым хлебом. Я впиваюсь в неё с жадностью, впервые глотая не просто пищу, а саму жизнь, ту, что не могла принять от обессиленной родной матери.
Где-то в глубине, в самой сердцевине моего существа, что-то шепчет с безмерным облегчением: «Вот оно… Настоящее…»
– Спасибо тебе, большое спасибо, – слышится голос тёти Наташи из дверного проёма. – А то мы тут с ума сходили. У сестры молока нет, ребёнок голодный, кричит без остановки…
Несколько дней подряд она приходила, эта женщина, чьё имя кануло в Лету вместе с бабушкой Серафимой. Она была моим ангелом-хранителем, пока у мамы не появилось своё молоко. А потом её образ стёрся, оставив лишь запах хлеба и чувство умиротворения.
Дорога была расчищена. Отец уезжает один – мама ещё слишком слаба после трудных родов. На пороге дома стоит бабушка Серафима, непоколебимая, как вековая скала, и её слово звучит как закон.
– Пусть тут окрепнет сначала. Земля родная, воздух наш – они силу дадут, – говорит она твёрдо, и в её глазах светится глубокая, древняя уверенность. – Родная земля никогда не подведёт.
Через месяц, когда мама окончательно пришла в себя, а я перестала быть похожей на хрупкого птенца, мы все вместе отправились домой.
И вот новое испытание. Бабушка Стеша, отецова мать, разглядывает меня на руках у мамы. Её губы складываются в едва заметную, но колючую усмешку.
– Ну и галчонок же ты, галчонок чёрненький! – протягивает она и тычет в меня сухим пальцем.
– И имя ей – Гала! – говорит бабушка, растягивая слова на свой, белорусский лад. – Галка она, больше никто!
– Мама, хватит! – раздаётся твёрдый, как сталь, голос отца. Он встаёт между мной и этими словами, живым щитом. – Имя у неё – Таня. И точка. Я больше ни слова не хочу слышать.
Вечер. Тихо и уютно. Отец с мамой купают меня в большом жестяном тазике. Его руки, обычно такие большие и неуклюжие, сейчас движутся с поразительной нежностью. Он зачерпывает ладонями тёплую воду и осторожно поливает моё худенькое, хрупкое тельце.
– Ничего, Танюшка, ничего, – бормочет он, глядя на меня с такой любовью, что она становится почти осязаемой. – Вырастешь у меня золотой. Вот увидишь, будешь у папы золотой.
Я не понимаю смысла этих слов, но кожей, сердцем, каждой клеточкой чувствую – он верит. Верит так сильно, так безоговорочно, что его вера обволакивает меня тёплым коконом, становясь моим первым и самым прочным щитом.
И время доказало его правоту. Чёрный пушок на моей голове постепенно сменился вьющимися белокурыми локонами.
– Видали? А? – с торжеством говорил отец, окидывая бабушку Стешу победным взглядом. – Моя Танька – золотая! Я же говорил!
«Папа просто знал? – проносится где-то на грани угасающего сознания последняя мысль. – Или же я, сама того не ведая, подстроилась под его веру, чтобы оправдать её?»
А потом была первая явка в женскую консультацию. Мама, сияющая, счастливая, с моей крепкой персоной на руках.
Врач, опытная, видавшая виды женщина, с удивлением подняла брови:
– А где же вы рожали-то? Такой крепенький ребёнок!
Мама лишь лукаво ухмыльнулась, и её глаза блеснули озорными искорками.
– Да мы её в бане нашли, под веником! – с лёгкостью выпалила она.
Так и родилась наша самая главная семейная легенда: брата Максима – «купили в магазине», а меня, Таню, – «нашли в бане под веником».
***
Вспышка гаснет…
…но я чувствую вибрацию смеха где-то глубоко в груди…
…тепло рук и лёгкость, которая поднимает меня в верх, отменяя гравитацию…
…вкус детства на языке – сладковатый, как чай с вареньем, который ни с чем не перепутаешь…>
ВСПЫШКА…
Белая, ослепительная молния, холодная и резкая, внезапно раскалывает пополам липкое, тягучее небытие. Она вырывает меня, выдёргивает за душу из этой безвременной пустоты.
Голоса. Сначала – просто далёкий гул, словно доносящийся сквозь толщу океанской воды, сквозь слои земли и забвения. Они нарастают, становятся чётче, и я понимаю – я возвращаюсь.
Я вижу всё откуда-то сверху, со стороны, будто парю под потолком. Стеллаж со стерильными инструментами, холодный блеск стали. И – моё собственное тело, хрупкое и беззащитное, распластанное на операционном столе, залитое ярким, безжалостным светом хирургических ламп.
Лев Валерьянович, в зелёном халате, с сосредоточенным лицом, склонился над разрезом. Его руки в перчатках движутся быстро и уверенно. Вокруг – ассистенты, напряжённые фигуры, часть одного сложного механизма.
Его голос, спокойный и чёткий, режет тишину, как скальпель:
– Как самочувствие пациента?
– Все показатели в норме, – тут же, чуть сбоку, отвечает голос анестезиолога.
– Пульс?
– Стабильный.
– Сердцебиение?
– В норме, Лев Валерьянович. Всё под контролем…
Их слова, такие ясные и деловитые, вдруг резко обрываются. Не затихают, а именно обрываются, будто кто-то выдернул вилку из розетки, обесточив саму реальность. Звук глохнет, свет меркнет, и всё вокруг снова погружается в бездонную, оглушительную тишину. Я лечу в эту тишь, в эту пустоту.
И вдруг – я чувствую. Сначала не звук, а тепло. Оно разливается по моему ледяному запястью, мягкое, живое, знакомое до слёз.
– Бабушка?.. – шепчу я, это не звук, а лишь мысль, рвущаяся из самой глубины.
И сквозь время и пространство, словно по невидимой нити, доносится её голос, тот самый, тихий, с хрустальным подзвоном и бездонной мудростью, который я помню с детства:
«Как дерево к земле привязано корнями, дитятко, так и ты, Таня, к роду своему привязана душой. Помни это… Помни…»
***
Вспышка гаснет и я чувствую их. Не путы, не холодные кандалы. Это – корни. Они обвивают моё запястье, но не сковывают, а держат. Крепко, надёжно, по-родственному. Это руки моего рода, бесчисленные ладони всех, кто был до меня. Они не дают моей душе сорваться в бездну. Они мягко, но неумолимо тянут меня назад, к свету, к жизни, к стуку собственного сердца.
Они не дают мне уйти. Они возвращают меня домой.
ВСПЫШКА…
Сознание разлетелось на миллионы сверкающих осколков, словно хрустальная Галактика после Большого взрыва. Я плыву в первозданном хаосе, где свет и тьма сплетаются в причудливые туманности, не в силах понять – где я? В обломках прошлой жизни? В призрачном будущем?
Или это чужая, навеки потерянная память, в лабиринтах которой я обречена блуждать?
***
Яркий свет. Сначала он был одиноким огоньком в кромешной тьме, крошечной, мерцающей звездой. Но с каждой долей секунды свет набирает силу, разливаясь ослепительной, белой туманностью, выжигая собой всё пространство, заполняя собой всё сущее.
Пространство вокруг качается, моё тело, моё «я» плывёт в невесомости, и все прежние законы физики, всё, что я знала о движении, оказалось бесполезным и ложным.
– «Что это за место?! Почему я не могу управлять своим телом?!» – мысль, острая и быстрая, как падающая звезда, пронеслась и растаяла в безвоздушной пустоте.
Я будто заточена в тесный, неудобный скафандр, который сковывает каждое движение, каждое желание.
– «Но где кнопки управления? Почему нет инструкций? Где хоть какая-нибудь подсказка?»
Паника, холодная и липкая, поднимается изнутри, сжимая моё крошечное, бешено стучащее сердце.
– «Где автопилот?! Где техническая поддержка?! Я не справлюсь!» – бессильно кричу я в безмолвие.
Но звук тонет в вакууме, не находя отклика. Ответа нет, лишь тишина… Или не совсем?
Я внезапно ощутила – я не одна. Они были здесь. Высокие, непостижимые, как древние божества, сошедшие с небес. Их голоса гудели где-то на самом краю моего восприятия, могучие, как гром, но слова рассыпаются на отдельные звуки, которые я не могу собрать в понятные смыслы.
Но, странно, я не чувствую страха. От них исходит тёплая, почти осязаемая лавина нежности, безудержного любопытства и… любви? Да, это именно она. Они наблюдают за мной, и их восхищение искрится в воздухе, а эмоции накатывают на меня умиротворяющими волнами безбрежного, спокойного океана.
Один из Гигантов, с тёплым, грудным голосом, вдруг издаёт звук, от которого задрожала сама материя:
– Смотри! Смотри же! Наша Танечка… она сделала первый шаг!
И тут – Свет. Не просто свет. Это была вспышка гиперновой звезды в центре моей личной Вселенной.
Он снова завладел всем моим существом, манил, тянул к себе неодолимым магнитом.
Это был одуванчик. Совершенный, солнечный, пушистый шар, сияющий у самого основания гигантской, тёмной колонны, которую позже я узнаю как «ногу стула».
Я не могла сопротивляться. Каждый миллиметр давался с невероятным трудом. Мышцы, ещё не ведающие своей силы, дрожали от непривычного напряжения, ноги подкашивались. Но ОДУВАНЧИК манил, звал, обещал чудо.
И вот, моя крохотная, неловкая ладонь, преодолевая силу притяжения целой планеты, потянулась вперёд и коснулась пушистого солнышка.
В этот миг Вселенная замерла. Время остановилось, затаив дыхание. И где-то сверху, словно эхо Большого взрыва, раздался взрыв ликования, сотрясший основы моего мира:
– Молодец! Наша девочка! Наша девочка пошла! Ура-а-а!
Я обернулась на этот звук, этот вибрирующий от счастья гром. И впервые в жизни – не просто ощутила, а ПО-НАСТОЯЩЕМУ увидела их.
Двух Гигантов. Двух Богов моего детства. Мама и папа.
Их лица, залитые слезами и улыбками, их глаза, сиявшие, как целые галактики, полные безграничного восторга и любви, в которой можно было утонуть и возродиться.
И я всё поняла. Это не конец полёта. Это – старт. Самый первый шаг в великом и бесконечном путешествии под названием Жизнь.
***
Вспышка гаснет… и я растворяюсь в сиянии
ВСПЫШКА…
Резкий, безжалостный свет, будто тысяча молний, ударивших разом, пронзает мои закрытые веки. Я инстинктивно вжимаю голову в плечи, прикрываюсь ладонями, но сквозь пальцы уже чувствую – мир переламывается, как стекло.
Воздух гудит, натянутый до предела, как струна, готовая лопнуть, а в висках отчаянно, выбивает барабанную дробь:
– Тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
Сердце колотится в такт, бешеным молотком бьётся о рёбра, пытаясь вырваться из груди. И вот…
***
Тепло.
Не просто отсутствие холода. А бархатное, живое, солнечное тепло, которое разливается по коже, проникает в самую душу.
Я сижу на плечах у отца, высоко-высоко, вцепившись в его густые, колючие волосы. Они щекочут ладони, пахнут ветром, дорогой и чем-то неуловимо-родным. От счастья у меня перехватывает дыхание.
– Пап… – бормочу я, прижимаясь горячей щекой к его макушке, чувствуя под собой твёрдые, уверенные мышцы. – Мы сейчас как орлы?
Он смеётся, и его смех – это низкий, грудной, согревающий изнутри гул. Его грудь вибрирует подо мной, как самый надёжный в мире двигатель.
– Выше орлов, доченька! Смотри – облака почти достать можно рукой!
Я послушно тянусь вверх, к ослепительно-белым, пушистым глыбам, плывущим в бездонной синеве. Но тут он нарочно делает резкое движение, притворяясь, что поскользнулся. Я взвизгиваю, впиваясь пальцами в его лоб.
– Ты же меня не уронишь, пап? Правда? – спрашиваю я, хотя всем существом знаю ответ. Знаю его сильные, натруженные руки и огромное, доброе сердце.
– Никогда, – его голос греет сильнее, чем солнце, заливающее улицу. Он крепче сжимает мои голени, и я чувствую себя неприступной крепостью.
– Ни за что на свете.
Земля далеко внизу кажется нарисованной яркими красками из моего детского набора: изумрудные лужайки, кубики домов, крошечные, машины, где-то в далеке.
Но страшно? Нет. Его руки – мой нерушимый панцирь, моя крепость.
Рядом идёт мама. Её тонкие, нежные пальцы сплетены с пальцами брата. Максим важно вышагивает, подражая отцу, будто командует невидимым парадом солдатиков.
– Мам, не тащи меня, как мешок с картошкой! – ворчит он, надув губки, но его глаза смеются, выдавая истинную, безудержную радость.
– А ты не отставай тогда, наш командир, – мама слегка поддразнивает его, и солнечный зайчик пляшет в её зелёных глазах.
Она поворачивается к отцу, и голос её звенит:
– Смотри, вон то кафе, за углом… Помнишь, в прошлый раз у них были пирожные, прямо как эти облака – воздушные?
– Как же не помнить, – папа наклоняется к ней, и его кожаная куртка мелодично поскрипывает.
– Ты тогда весь крем себе на новое платье уронила.
– Это ты уронил! – фыркает мама, играя возмущением, но уголки её губ дёргаются от смеха. – А я героически пыталась его поймать!
Отец обнимает маму за плечи, они склоняются друг к другу, весело и беззлобно спорят, их смех сливается в одну мелодию.
Мне не нужны слова, чтобы понять их счастье. Оно разлито в воздухе, оно в их переплетённых руках, в сиянии их глаз, в этих лёгких, любящих прикосновениях.
А Максим тем временем, задрав голову, взахлёб рассказывает нам всем про могучего короля, о котором им читали сегодня в садике. Его голосок, звонкий и чистый, полный важности и открытий, вплетается в общую симфонию этого дня.
Я закрываю глаза и полностью растворяюсь в этом мгновении. В сладком, терпком аромате маминых духов «Красная Москва». В знакомом, уютном скрипе папиной куртки. В тёплом ветерке, что треплет мои волосы и несёт с собой запах нагретой травы. В восторженной, беглой болтовне брата.
Я впитываю каждую долю секунды, каждый звук, каждый оттенок запаха, стараясь впечатать это ощущение полного, безмятежного счастья в самую глубину памяти. Навсегда.
***
Вспышка гаснет…
И…
Темнота. Глухая, всепоглощающая. Давящая тишина, в которой слышен лишь стук собственного сердца, теперь одинокого и испуганного. Пронизывающий холод, забирающийся под кожу, в кости, в душу.
ВСПЫШКА…
Яркий свет снова хлестнул по глазам, но на этот раз он не слепит. Он закручивается в весёлую, зазывную спираль, переливаясь всеми цветами радуги, точно карамельная петля в новогодней конфете. Я чувствую, как меня подхватывает и затягивает в этот вихрь, будто в тёплый, игривый водоворот, и вот я уже лечу куда-то вглубь, сквозь толщу времени, по этому сияющему тоннелю…
***
Тишина. Такая, какая бывает только в старых домах, густая и сладкая, как мёд. Я сижу на прохладном полу, скрестив ноги, и старательно заворачиваю своего пупса в красивые лоскутки, которые мне дала мама. Они мягкие, уютные и пахнут стиральным порошком и чем-то ещё – может, её тёплыми, нежными руками?
– Ты теперь его мама, – сказала она, опускаясь передо мной на корточки и протягивая ещё одну горсть тряпочек. Её глаза смеялись.
– Вот, возьми побольше. Сделаешь ему кроватку.
Потом она подняла взгляд на брата, который уже вертелся у двери.
– А ты, – кивнула она ему, – смотри за сестрой. Никуда не выходите, я быстро, за хлебом.
Дверь за ней мягко захлопнулась, и воцарилась та самая, знакомая до слёз, тишина.
А я никуда и не собиралась. Мне было хорошо и безопасно в этом уютном мирке, ограждённом от всего света стенами родного дома. Мне даже нравилось иногда играть в машинки вместе с братом, слушая, как он заводит их губами: «Вж-ж-ж-ж!» Но сегодня он не играл. Он стоял у окна, вцепившись пальцами в подоконник, и смотрел на улицу, будто ждал чего-то важного и страшного.
Я отвлеклась от пупса и огляделась. Комната была полна знакомых ориентиров. Под ногами – прохладный линолеум с вытертыми до бледности цветочками. Слева – широкая родительская кровать, на которой мы с братом тайком прыгали, пока никого не было дома. Напротив – массивная, беленая печка, а за ней… Тот самый угол. Самый тёмный в комнате. Глубокий, как пещера.
– Там живёт Домовой, – говорила мама, но я видела, как её глаза смеялись, когда она поправляла занавеску.
Кот Васька обожал это место. Бесшумно проскальзывал туда, сверкал в темноте двумя жёлтыми угольками и будто растворялся – словно его проглатывала сама тень.
– Боишься? – брат, не глядя на меня, бросал в угол какой-нибудь камешек или пуговицу.
Я молчала, лишь плотнее прижимая к себе куклу.
Справа стояли, напротив друг друга, наши с братом кровати. А напротив, у самого окна, – большой круглый стол, вечно заваленный моими рисунками с размазанными красками и сломанными карандашами.
И было здесь ещё одно место… Между печкой и столом, прямо передо мной, зиял дверной проём. Чулан. Чёрный. Бездонный. Без единого окошка. Там никогда, никогда не было света. Даже днём он казался входом в иной, холодный мир.
Каждый раз, пробегая через него, я вжимала голову в плечи, зажмуривалась и чувствовала, как из этой густой тьмы за спиной что-то тянется к моей спине, холодное и невидимое. Мне всегда казалось, что в этой тёмной, огромной пустоте кто-то есть. И что этот кто-то обязательно схватит меня, если я хоть на секунду замешкаюсь.
– Бабушка говорит, что там просто старые вещи и паутина, – ворчал брат, но сам всегда бежал через чулан быстрее меня, обгоняя и толкаясь.
Я же никогда не заходила туда одна.
Внезапно брат вздрогнул всем телом. Его пальцы, лежавшие на подоконнике, впились в дерево так, что побелели костяшки.
– А-А-А-А! – его оглушительный, дикий вой, похожий на сирену, резанул по ушам, разрывая сладкую тишину.
Я замераю, не в силах пошевелиться. Моё сердце колотится где-то в горле.
Я всегда боюсь, когда он так делает. Боюсь не потому, что мне страшно за себя… а потому, что в эти моменты ему так страшно и ужасно, так одиноко, и я ничего не могу сделать.
Он с силой ударил кулаком по стеклу.
– Звяк! – хрустальный, невыносимый звук разбитого окна прокатился по комнате. Осколки, словно слёзы, брызнули и зазвенели, рассыпаясь по подоконнику и полу.
– Пошли быстрее! – брат, не глядя на последствия, хватает меня за руку и резко тащит за собой, к зияющему проёму.
Мы кубарем вываливаемся в палисадник, цепляясь за раму, и, не оглядываясь, бежим по пыльной дороге, держа друг друга за руки.
Мама появилась из-за поворота, сумки с батоном болтаются на её согнутых руках. Увидев нас, она замерла, а потом её лицо исказилось гримасой, в которой смешались ужас, облегчение и бессилие.
– Ну что мне с вами делать?! – её голос дрожит – то ли от смеха, то ли от ужаса.
– Опять?! Опять через окно?! Когда же это, наконец, прекратится?…
Брат молчит, сжимая мою ладонь так, что костяшки на его руке побелели, да и сам он стоит бледный, как стенка.
Он смотрел куда-то в сторону, в себя, в свой собственный страх.
А я смотрю на маму, на её испуганные, усталые глаза, и думаю всего одну простую мысль:
«Может, мы просто… оба до смерти боимся того чёрного чулана?»
Но вслух ничего не говорю. Никогда.
***
Вспышка гаснет…
Кадр обрывается на полуслове, оставляя в ушах звенящую, оглушительную тишину…
Я стою и смотрю на пустую дорогу…
Воздух меняется. Он становится резким, пахнет пылью от проселочной дороги и чем-то сладким – может это пахнет вьюнок полевой у канавы…
Но я знаю, просто надо ещё немного времени…
ВСПЫШКА…
Свет снова зовёт меня, манит за собой, затягивая в водоворот воспоминаний. Куда на этот раз?
Мир вокруг дрожит и мерцает, как плёнка старого проектора, рассыпаясь на отдельные, яркие, до боли чёткие кадры. Я изо всех сил сжимаю веки, пытаясь удержать ускользающую реальность, но она тает, как песок сквозь пальцы.
***
Не понимаю, как это произошло. И вообще, происходит ли это сейчас, или это всё же сон?
Да, точно. Мне это должно сниться. Этого не может быть на самом деле, ведь мой брат… он всегда защищал меня.
В памяти, словно спасительные вспышки, мелькают тёплые, солнечные образы:
…Максим, сгорбившись, учит меня завязывать шнурки. Его пальцы, ещё неуклюжие, аккуратно вяжут узел на моих маленьких ботинках.
– Смотри, вот так петлю делаешь… а потом продеваешь… Видишь? Получился бантик! – его голос спокоен и полон ответственности.
…Мы прячемся от внезапного летнего ливня под одной его курткой, пахнущей ветром, двором и мальчишеством. Крупные капли барабанят по ткани над головой.
– Ты не промокла? – его голос полон заботы, хотя сам он уже мокрый насквозь.
…Он с несерьёзным видом дёргает меня за косичку, а потом, тяжко вздохнув, отдаёт последнюю конфету – ту самую, с желанной вишнёвой начинкой.
– Держи! Ты же девчонка… – говорит он, хотя сам смотрит на неё с тоской.
Максим всегда был моим щитом. Помню, как в детском саду он решительно заслонил меня от рослого забияки с лопаткой. Его собственные коленки предательски дрожали, но голос был твёрд:
– Тронешь сестру – получишь! – его кулаки сжались, готовые на всё.
Но сейчас…
Сейчас он так же, как и всегда, взял меня за руку и повёл… но не спасать.
Вчерашний вечер настиг меня, как удар. Мы с Максом играли на полу в машинки, а взрослые, уставшие после работы, смотрели по телевизору чёрно-белый фильм про войну.
Мы, казалось, не обращали внимания на тягучий голос диктора и взрывы, но оказалось – ядовитые семена сюжета упали в самую глубину. Сцена, где немецкие солдаты безжалостно расстреливали у деревянного забора мирных жителей – женщин, стариков – врезалась в сознание, как раскалённая игла.
И сегодня Максим, под впечатлением от того фильма, решил «поставить к воротам меня и расстрелять».
Поставить к нашим старым, облупленным воротам…
Ветер. Он бьёт в лицо ледяными порывами, заставляя прижать спину к шершавым, холодным доскам.
Я ничего не понимаю. Глаза заливают слёзы, я не вижу двора, неба. Вижу только его, стоящего напротив. В его руках – автомат. Тот самый, игрушечный, который ему купили вчера. Он так красиво сверкал красными огоньками и весело трещал, когда нажимаешь на курок.
Но сейчас… сейчас он кажется настоящим в этом спутанном мире. Таким смертельным.
– Это сон. Должно быть, сон… – отчаянно стучится в висках одна-единственная мысль.
Ржавые петли ворот скрипят на ветру, будто злобно хохочут над моим ужасом. Макс стоит в пяти шагах, и его лицо сосредоточено, он не шутит. Дуло автомата направлено прямо на меня, в самую грудь.
Я оцепенела. Не могу двинуться, не могу издать ни звука. Ноги будто вросли в землю, в глазах – слепой, животный ужас. В голове проносится вчерашний кадр: вот так же стояли у забора те женщины… И я чувствую то же самое.
И тогда мой крик вырывается откуда-то из самых глубин, будто все женщины нашего рода, все расстрелянные и замученные, кричали в этот миг сквозь меня, видя смертельную опасность:
– ААААААААА!
Автомат сверкает ненастоящими, но такими жуткими красными лампочками. Палец брата нажимает на курок.
– Трррррррррр!
– Трррррррррррр!
– Трррррррррррррр!
Оглушительный, резкий, беспрерывный треск разрывает тишину, сливается с моим воплем, с биением сердца, с шепотом прошлого, ставшего настоящим.
– Что у вас тут случилось?! – из дома выбегает взволнованная мама, её лицо бледное от страха. – Таня, ты что так кричишь, тебя, что, убивают, что ли?!
Она бросается к нам, её глаза мечут гневные молнии в сторону брата.
– Максим, прекрати! Немедленно убери этот автомат! Мы тебе разве для этого его купили?! Ты видишь, до чего свою сестру довёл?!
Лицо Максима мгновенно меняется, с него слетает маска «солдата», и теперь он просто испуганный мальчишка, осознавший, что натворил.
– Я… Я просто играл… – бормочет он, опуская игрушку и глядя на меня растерянным, виноватым взглядом.
Но я уже не слышу. Я вся – один сплошной, немой, леденящий душу ужас. Игрушечные невидимые пульки будто вошли внутрь и разорвали что-то важное, навсегда оставив в душе трещину.
***
Вспышка гаснет, и наступает тишина. Глубокая, давящая. Но где-то внутри, в самой глубине, до сих пор колотится, отзываясь эхом, моё испуганное детское сердце, помнящее тот день, когда игра обернулась настоящим кошмаром.
ВСПЫШКА…
Свет. Не теплый и ласковый, а резкий, хирургический, он режет глаза, заливая мир белесым, бездушным пламенем.
На миг – лишь ослепление и пустота, будто душу вынули из тела.
А потом яркость разрывает меня на части, выдёргивает из привычной реальности, как нитку из старого, растянутого свитера. Я лечу сквозь вихрь обрывков, а мир вокруг бешено перематывается, мелькает, как старая, испещрённая царапинами киноплёнка…
***
Я иду, едва поспевая, и моя маленькая рука полностью исчезает в его большой, тёплой ладони. Я готова ходить так целый день, целую вечность. Как я обожаю эти моменты!
Как люблю, когда дядя Рома берёт меня за руку, шутит, заразительно смеётся, и его глаза… его глаза искрятся такой безудержной, детской радостью, что в них, кажется, можно утонуть. В них – целое море добра и такого тепла, что от него тает любое огорчение.
Этот искрящийся, радужный свет его удивительных, жёлтых, как у ночного кота, глаз струится повсюду, проникает в каждую щёлочку. Они смеются, даже когда он молчит, и этот смех заразителен. Все, кого касается его весёлый, открытый взгляд, тут же поддаются этому волшебству, этой всепоглощающей ауре счастья. Никто не может устоять.
Вот и молодая продавщица в огромном, гулком магазине, вся осветилась милой, смущённой улыбкой. Кажется, она готова отдать нам всё – все эти полки с конфетами, все эти игрушки – просто так, без денег, лишь бы это волшебство не кончалось. Лишь бы эти искрящиеся, как два солнца, глаза продолжали смотреть на неё, окутывая теплом и радостью.
Я торжествующе прижимаю к груди два больших, шуршащих кулька, набитых сладостями. В этот миг все богатства мира лежат у моих ног. Он для меня – как настоящий Дед Мороз, только в летней рубашке, тот, кто исполняет все мои, даже самые несбыточные, желания. Я даже никогда о таком не могла и мечтать.
Его рука – тёплая, шершавая от мужской работы, но держит мою ладошку так аккуратно, так бережно, будто я хрустальная.
– Ну что, Танька-босоножка, полетели? – его голос гудит, как шмель, и от этого щекочет в животе.
И вот он легко подбрасывает меня к самому потолку – и я на миг, на один захватывающий дух миг, увидела мир сверху:
Мама у печки ахает и хватается за сердце, она всегда боится, что он меня уронит.
Отец, стараясь сохранить серьёзность, прячет улыбку, но его глаза предательски смеются.
А я уже твёрдо знаю – этот человек неправильный, не такой, как все, но он – мой.
И вот мы уже сидим на самой макушке мира, на горячем от солнца шифере крыши. Отсюда, с высоты, открывается завораживающий вид: видна вся наша улица, речка, извивающаяся вдали, как синяя лента, и дорога, где машины кажутся неуклюжими жуками. Я впервые нахожусь на такой высоте…
– Тебе страшно, птенчик? – спрашивает он, и в его глазах плещется озорство.
– Ни сколечки! – уверенно отвечаю я. – Мне очень-очень нравится!
Он учил меня свистеть. Дядя Рома закладывает в рот два пальца, набирает побольше воздуха, и начинает свистеть, да так оглушительно громко, что, кажется, этот звук разносится на весь посёлок. Вот он закинул голову назад – и вдруг его губы сложились в странную, загадочную форму. Из них вырвался свист – резкий, пронзительный, как удар хлыста, разрезающий воздух.
И небо ответило ему. Сперва одна, потом другая, а через мгновение – сотни теней закружились над нашими головами.
– Смотри, Танька! Голуби! – восторженно кричит он.
Сотни голубей – белые, как облака, сизые, как вечерние сумерки, чёрные с ржавыми пятнами – взметнулись вверх единым, могучим вихрем. Их крылья хлопали в унисон, сливаясь в оглушительный гром, будто великан перелистывал страницы самого неба.
Я закрыла глаза – и в тот же миг уже летела вместе с ними, чувствуя под собой потоки ветра.
Дядя Рома тем временем вложил мне в ладонь горсть прохладного зерна:
– Они не просто клюют. Они – слушают. Сердцем.
Голубь с обрубленным когтем (его звали «Генерал») подошёл первым. Склонил свою сизую голову и начал пристально, умно рассматривать меня, изучая чёрными, бездонными бусинками глаз. Затем осторожно, будто боялся сделать больно, начал клевать зёрнышки с моей раскрытой ладони.
За ним, ободрённые примером вожака, последовали и все остальные. И тогда дядя Рома снова залихватски засвистел…
Тени – сотни живых, трепетных теней – снова взмыли вверх, заполонив небо.
Как это было захватывающе! Какая скорость, какие виртуозные развороты в полёте! Стая, кружась, поднималась всё выше, ловила попутный ветер и уносилась вдаль, чтобы через мгновение, развернувшись, снова пронестись пикирующим строем над нашими головами. Взмах тысячи крыльев – и они снова взмывали в высь, к самому солнцу…
Дядя Рома взял меня за плечи, и его лицо стало вдруг серьёзным:
– Слушай, птенчик. Запомни: если тебе когда-нибудь будет страшно – свисти. Так же, как я. Я услышу. Обязательно услышу.
А вот мы уже где-то далеко – там, где камни выросли из земли, как спящие великаны, а вода в озере блестит, словно разлитая ртуть, отражая небо – такое же чистое, бездонное и ясное, как детская душа. Воздух звенит от оглушительного стрекота кузнечиков и густо пахнет горьковатой полынью и нагретым за день гранитом.
Вдруг что-то холодное, влажное и нежное трогает мою руку усиками. Я замираю, боясь даже дышать, чтобы не спугнуть это таинственное существо.
– Что это? – шёпотом спрашиваю я.
– Улитка, – смеётся моя двоюродная сестра Тася, вытирая мокрые от воды руки о свои потертые шорты.
– Их тут, как грязи! На каждом шагу.
Но для меня, впервые увидевшей это хрупкое существо, это не грязь – это самое настоящее чудо.
Я осторожно, одним лишь кончиком пальца, прикасаюсь к закрученной раковине, её спинке, и улитка медленно, не спеша, прячет в неё свои смешные рожки-глазки.
– Она думает, что ты её съешь, – хохочет Тася.
– Давай, брось её в воду, к остальным!
– Нет! – я решительно прижимаю руку с улиткой к груди, защищая своё сокровище.
– Она моя. Я заберу её домой.
Тася только фыркает, не понимая моего восторга, и бежит купаться, а я остаюсь сидеть на горячем камне, зачарованно разглядывая новую подругу.
Она становится ещё одним ярчайшим впечатлением этого невероятно насыщенного дня, даже важнее большого, холодного озера с его гладкой, как стекло, поверхностью.
Вечером, перед самым сном, когда за окном назойливо трещит сверчок, а большая тень от лампы причудливо пляшет на стенах, я задаю маме вопрос, который вертится у меня в голове весь день.
– Мама, а кто для меня дядя Рома? – спрашиваю я, укутавшись в одеяло.
Мама вздыхает, садится на край моей кровати, поправляет одеяло. Её лицо в полумраке кажется усталым и немного печальным.
– Тебе – никто, доченька. – её голос тихий и ровный. – Он просто гражданский муж тёти Марины. Тебе он не родной.
Эти слова падают в тишину комнаты, как тяжёлые, холодные капли. Они не находят во мне никакого отклика, кажутся чужеродными, неправильными, ложными.
– Неправда! – мой голос звучит громче и резче, чем я ожидала.
– Он водит меня на рыбалку! И показывает, как червяка на крючок насадить! И смеётся громче всех, когда у меня получается!
Я делаю глубокий вдох, чувствуя, как подкатывает комок к горлу.
– И свистеть меня научил… И голубей своих, самых лучших, разрешает в руки брать. И конфеты, он всегда-всегда мне их покупает, самые большие…
Мама смотрит на меня с лёгким удивлением, и её губы трогает внезапная, тёплая улыбка.
– Детка, родство не в бумажках, а в сердце, – говорит она наконец тихо, по-доброму. – Если ты чувствуешь его родным – значит, так оно и есть. Для тебя.
Я закрываю глаза, прижимаюсь горячей щекой к прохладной наволочке, и передо мной, встаёт образ дяди Ромы – его тёплые, сильные руки, поднимающие меня на забор, его голос, рассказывающий небылицы о водяном, который живет в нашем озере, его безграничное терпение, когда я никак не могла научиться насаживать извивающегося червячка на крючок…
– Он – родной, – шепчу я уже в полусне, чувствуя, как по щеке скатывается круглая, тёплая, как летнее солнце, слеза.
– Самый что ни на есть родной…
***
Вспышка гаснет…
И её исчезновение – не тишина, а щелчок, переводящий мир на новую частоту.
Я смеюсь. Звук идёт не из горла – он вырывается из грудной клетки, лёгкий, как пух, и тяжёлый, как свинец. Это смех узнавания.
Узнавания простой, оглушительной правды:
Это – не сон. Сны тают, как сахар на языке. А это – остаётся. Осязаемое, плотное, как запах свежей травы после грозы.
И теперь всё по-другому.
Всегда.
ВСПЫШКА…
Огромные мыльные пузыри везде, куда бы я ни посмотрела. Они плывут вокруг меня – переливаются всеми цветами радуги, лопаются с тихим вздохом, рождаются снова из ничего.
А я… Где я? Моё сознание расплывается, становится панорамным, будто я смотрю из тысячи зеркал сразу, и в каждом – отражение детской мечты.
***
Как я мечтала об этом сервизе! О той великолепной посуде, что казалась воплощением самой сказки. Каждый раз, заходя в таинственный магазин с витринами, сияющими как хрустальные дворцы, я прилипала носом к холодному стеклу:
– Мама, смотри! – тянула я её за рукав, не в силах оторвать восторженного взгляда от белоснежных чашечек с золотой каёмочкой.
Они были такими тонкими, такими изящными, будто сотканы из утреннего тумана и солнечных лучей.
– Ах, если в садике узнают… – мечтательно шептала я, представляя, как все девочки ахнут от зависти, а я, как настоящая хозяйка, важно разолью им по чашечкам воображаемый чай.
И вот, чудо свершилось. Я стала обладательницей этого прекрасного кухонного сервиза. Огромная коробка, перевязанная лентой. Я разворачиваю её, затаив дыхание, как самый драгоценный клад.
– Какая красивая… – выдыхаю я, касаясь каждого предмета.
Каждый из них сияет под лучами лампы. Я любуюсь золотой линией на идеально белом фоне. Чашки – будто облака с позолоченными краями. Ложечки – лёгкие, как перья сказочной птицы. Супница – величественная, настоящий трон для супового короля.
Я устраиваю пир. Все куклы были принаряжены. Перед каждой – расписное блюдечко с золотым ободком и крошечные столовые приборы.
– Кушайте, гости дорогие! – объявляю я, важно прохаживаясь вдоль стола.
Убранство стола восхищает своей роскошью и богатством. Пир удался на славу.
Я – хозяйка. Королева этого маленького мира. Я встречала гостей в самом лучшем своём платье, с бантами в волосах.
– Как это прекрасно – когда у тебя есть такой сервиз и ты можешь позвать к себе на пир гостей, – думала я, сияя от счастья.
Когда все гости «разошлись», я аккуратно, с нежностью убрала каждый предмет своего сокровища в надёжный железный шкаф, чтобы ничего не потерялось, не разбилось.
– Ох, как он красив… – шептала я, закрывая дверцу. – Как хочется держать его в руках снова и снова…
Я засыпала счастливая, обнимая подушку и думая о своём сервизе. А утром, едва проснувшись, босиком бежала к заветному шкафчику – проверить, всё ли в порядке с любимым сокровищем.
Так шло время. Я вновь и вновь накрывала на стол, выставляла приборы и приглашала гостей…
Осень. Деревья в саду надели разноцветные наряды – жёлтые, красные, оранжевые, зелёные. Природа радовалась и любовалась своей красотой. Я собирала букет из листьев – тёплых, шуршащих, как медные монетки.
А потом…
Я услышала из дома отчаянные крики:
– Боже, что это?! Откуда такой дым?
Сердце ёкнуло от страха. Я бросилась в дом, сжимая в руке букет из листьев.
Из духового шкафа валило чёрное, едкое облако, заполняя кухню удушающей пеленой. Пахло гарью и чем-то горьким, химическим.
Я в ужасе открыла дверцу духовки – и застыла.
Мой сервиз.
Он не стоял там – он растекался. Растекался жидким, чёрным, пузырящимся пластиком. Белое становилось грязно-серым, потом чёрным. Золото исчезало в липкой, пузырящейся массе, превращаясь в безобразную чёрную лужу на дне духовки. От красоты не осталось ничего – только уродливая, дымящаяся масса.
– Таня! – закричала бабушка Стеша, вбегая на кухню. Её лицо было бледным от ужаса.
– Сколько раз я тебе говорила – не ставь пластмассовую посуду в печь! Никогда!
Слёзы – горькие, обжигающие – хлынули из моих глаз. Слёзы утраты, сожаления, отчаяния. Все чувства смешались в один комок боли в горле.
Ведь я не успела наиграться! Не успела!
***
Вспышка гаснет… и я проваливаюсь в липкую, вязкую, чёрную темноту. Она обволакивает меня со всех сторон, стараясь проникнуть внутрь, клетка за клеткой. Тело становится неподвижным, тяжёлым, чужим…
ВСПЫШКА…
Тени прошлого всплывают в памяти, будто кадры на старой киноплёнке – рваные, нечёткие, но от этого ещё более пронзительные. Каждый обрывок – как удар током, от которого сжимается всё внутри.
***
Вечер. Кухня тонет в сумеречном, сизом свете. Я сижу за столом, уставившись в тарелку с остывшей манной кашей. Она покрылась неаппетитной, плёночной корочкой, и я вожу по ней ложкой, рисуя унылые круги.
За окном медленно, неотвратимо темнеет, и по стене, словно живое существо, ползёт длинная, уродливая тень от старого шкафа. Тишину нарушает лишь шипение картошки на плите.
– Мама, – мой голос звучит негромко, но в вечерней тишине он кажется слишком громким. – А откуда я взялась?
Мама на мгновение отрывается от сковороды, её фигура – тёмный силуэт на фоне окна.
– Тебя в бане под веником нашли, – отвечает она просто, как будто сообщает, что хлеб в хлебнице. Её голос ровный, спокойный, будничный. Она снова поворачивается к плите, и шипение картошки становится громче.
В воздухе повисает пауза, тягучая и плотная.
– А Максим? – не унимаюсь я, уже чувствуя странную тяжесть на душе.
– Максима в магазине купили.
Голос её спокоен, будто она сообщает прогноз погоды, она просто констатирует.
Эти слова падают в тишину кухни, как два тяжеленных булыжника.
И от этого они кажутся ещё более неоспоримыми и правдивыми.
Я замираю, переваривая их. Они проваливаются куда-то в самое нутро, в самую душу, и ложатся там мёртвым, холодным грузом.
Позже, когда в доме гаснет свет и мы с братом уже лежим в своих кроватях, в комнате, где тени становятся гуще и таинственнее, я поворачиваюсь к его тёмному силуэту. Шёпот мой звучит важно, полный открытого, горького секрета.
– Макс… – шепчу я, – Тебя… тебя в магазине купили.
Он тихо смеётся в темноте, и я слышу, как скрипит его кровать.
– А тебя под веником нашли! – парирует он, и в его голосе нет ни капли обиды или грусти – одна лишь детская непосредственность.
Но мне не смешно. В горле встаёт тяжёлый, горячий ком, который не проглотить. Я закрываю глаза, стараясь дышать ровнее, и проваливаюсь в тревожный, беспокойный сон…
Магазин возникает как видение. Огромный, сверкающий, как новогодняя ёлка. Он залит таким ярким, праздничным светом, что больно смотреть. Высокие, до самого потолка, витрины сияют безупречно чистым стеклом, а за ними, как на параде, выстроились куклы.
Но это не просто куклы. Они живые. Мальчики и девочки с идеально румяными щёчками, одетые в нарядные костюмчики и платьица. У них ясные, сияющие глаза, и кажется, стоит только выбрать – и они оживут, засмеются звонко, протянут к тебе свои маленькие, доверчивые ручки.
Родители ходят по этому волшебному магазину, держась за руки. Повсюду – разноцветные шарики, которые колышутся под потолком, трепещут на невидимом ветру яркие флажки, а из самого воздуха льётся весёлая, зазывная мелодия, похожая на звуки старой, доброй шарманки.
Они подходят к одной из витрин, и их взоры останавливаются на одном мальчике – с озорными, смеющимися глазами и вьющимися кудрями.
– Этот, – говорит папа твёрдо, и мама кивает, и всё её лицо озаряется таким сиянием, таким счастьем, что становится светло даже во сне.
Они «покупают» его, как самую желанную, самую дорогую игрушку на свете. Несут домой, обнимают, радуются, осыпают его любовью с самого первого мгновения…
А меня… меня находят. Случайно. В тёмной, пропахшей дымом и сырым деревом бане. Под старым, забытым кем-то на полке веником.
Могли бы пройти мимо. Могли бы не заглянуть. Могли бы не заметить.
Я просыпаюсь от того, что по моим щекам ползут мокрые, солёные дорожки. Слёзы капают на белую наволочку, впитываются в ткань, оставляя тёмные, бесформенные пятна, как кляксы на чистом листе.
– Могли бы и не найти… – выдыхаю я в спящую, равнодушную темноту. Этот шёпот – горькое, детское прозрение о хрупкости своего существования.
И я снова засыпаю, убаюканная звуками той самой, весёлой и неумолимой мелодии из сна, которая теперь кажется бесконечно далёкой, чужой и навсегда для меня недоступной.
***
Вспышка гаснет…
И сказочный магазин, тот самый – рассыпается. Не с грохотом, а с шепотом. Стены тают, как леденцы на языке, полки с диковинными стеклянными витринами превращаются в струйки цветного пара.
Остается лишь лёгкая, переливающаяся дымка, в которой ещё угадываются отблески того, что только что было реальным.
Но музыка – та самая, что лилась из-под высокого, резного свода, – не умолкает.
Она всё ещё здесь. Только теперь её тембр изменился. Она звучит приглушённо, доносясь будто из-за толстой стены. И она заела.
Один и тот же мотив. Это уже не волшебная симфония, а навязчивый призвук, эхо застрявшего времени.
Он бьется в висках ровным, безжалостным ритмом, словно пытаясь вбить в сознание какую-то одну, единственную, незавершенную мысль.
ВСПЫШКА…
Пространство содрогается – не плавно, а рывком, как плёнка в заевшем проекторе, когда кадр вот-вот порвётся и погрузит всё во тьму.
Стены теряют свою твёрдость, они дышат, пульсируют, будто живые, уставшие лёгкие. Воздух густеет, становится вязким, как расплавленное железо, им тяжело и больно дышать. И всё вокруг – вот-вот рассыплется на миллионы бездушных пикселей.
***
День. В доме непривычно шумно и многолюдно. Пахнет чем-то вкусным, праздничным – жареным мясом, ванилью, свежим хлебом. Слышен громкий, раскатистый смех, а на стареньком проигрывателе звучит задорная, весёлая музыка, под которую так и тянет пуститься в пляс.
К нам приехали гости, и все – все! – веселятся, улыбаются, радуются. Я ношусь между взрослыми ногами, радостная от всеобщего внимания, от этой суеты, от ощущения, что я – частичка этого большого праздника.
И тут мой двоюродный брат, он такой большой, почти взрослый, легко, как пёрышко, хватает меня на руки. Его глаза весело блестят озорными искорками.
– А вот и наш главный экспонат! – громко объявляет он, и на секунду в комнате стихают все разговоры, и все взгляды обращаются на нас.
Он ставит меня на табурет посреди комнаты, будто на пьедестал, и начинает играть со мной, как с большой куклой. Его большие, тёплые руки берут мои ладони и начинают сгибать их в локтях, заставляя меня махать гостям.
– Помаши тёте Люде! А теперь дяде Коле! – приговаривает он, и мои руки послушно двигаются в его руках, как у марионетки.
Потом он аккуратно берёт меня за подбородок и двигает им вверх-вниз, имитируя кивок, а своим, нарочито тонким голосом, говорит за меня:
– «Здравствуйте, дорогие гости! Я так рада вас всех видеть!»
Гости умиляются, смеются. А я, вдохновлённая этой игрой, этой всеобщей радостью, вдруг ярко вспоминаю свой сон – тот самый, с волшебным магазином, полным кукол. И в моей голове рождается идея, новая, блестящая, как конфетная обёртка.
– А давай… – шепчу я ему, едва он отпускает мой подбородок. – Давай в магазин…
Брат на секунду задумывается, а потом его лицо озаряет новая, ещё более хитрая улыбка. Он с торжествующим видом достаёт откуда-то из-за шкафа огромный, громко шуршащий целлофановый мешок. Я на мгновение замираю. И в этот гигантский, прозрачный кокон, брат с ловкостью фокусника ставит меня, и я вся, с ног до головы, оказываюсь внутри этого огромного мешка.
Плёнка холодно и скользко липнет к коже, но мне не страшно, а дико смешно и весело. Брат, ухмыляясь, ловко завязывает сверху мешка огромный, красивый бант, оставив горловину не плотно затянутой, чтобы я могла свободно дышать.
– Внимание, внимание, дорогие покупатели! – он поднимает мешок со мной внутри, и я чувствую, как его сильная рука крепко держит его сверху, за то самое свободное пространство, будто за ручку сумки. Второй рукой он с пафосом показывает на меня, свою живую добычу. Его голос теперь звучит совсем по-другому – как у настоящего зазывалы с базара.
– Не упустите свой шанс! Сегодня у нас невероятное предложение! Продаётся живая, настоящая кукла! Умеет ходить, говорить и громко смеяться! Уникальная модель!, – он поправляет бантик на моей упаковке и продолжает игриво: – Я лично отобрал эту модель из тысяч других! Обратите внимание на качество исполнения! Смотрите, какая упаковка! Эксклюзив! Кто даст больше?
Гости взрываются хохотом, кто-то начинает аплодировать, подбадривая его и нахваливая меня.
Я стою внутри этого шуршащего пузыря, завёрнутая в блестящую обёртку, и сквозь целлофан вижу расплывчатые, улыбающиеся лица.
И в этот миг я чувствую себя не просто девочкой. Я чувствую себя самой желанной, самой лучшей игрушкой на свете, той самой, которую только что выбрали из тысячи других в том самом волшебном магазине из моего сна. Ту самую, которую не просто нашли, а которую хотели, которую увидели, потянулись к ней и купили.
Гордость и восторг переполняют меня до краёв, и я тоже начинаю смеяться, мой смех глухо отдаётся в моём целлофановом мирке.
– Вот оно! – ликует во мне моё детское, наивное сердце. – Вот как всё и должно быть на самом деле! Я не находка, я – выбор!
Но ночью, когда гости разъехались и в доме воцаряется оглушительная, давящая тишина, я лежу в своей кровати и вглядываюсь в потолок, где пляшут таинственные тени от луны. Весёлый бант развязан и убран, целлофан смят…
И из самых тёмных, самых глухих уголков памяти, как ядовитый, медлительный паук, выползает знакомая, горькая, обжигающая мысль. Она подкрадывается неслышно, обволакивает душу и кусает прямо в самое сердце:
– Максима… хотели. Его выбрали в том самом магазине. Привезли, распаковали, как самый дорогой, долгожданный подарок.
А меня… меня просто подобрали. Случайно. Как находку, которую могли бы и не заметить, пройти мимо и оставить лежать там, в темноте, под старым веником…
***
Вспышка гаснет…
Тьма отступает медленно, нехотя, как морской прилив, оставляя после себя проявленную, до боли чёткую реальность. Контуры предметов становятся резче, острее, будто кто-то безжалостно крутит кольцо фокуса на старой камере, стараясь рассмотреть каждую чёрточку прошлого. Тени ложатся глубже, чернее и беспросветнее. Краски кажутся неестественно насыщенными, почти ядовитыми. А воздух… воздух становится таким плотным и тяжёлым, что его, кажется, можно потрогать пальцами и каждый глоток даётся с трудом, словно в лёгкие поступает не живительный кислород, а тяжёлая, густая память.
ВСПЫШКА…
Свет.
Резкий, пронзительный, как лезвие скальпеля, вырывающий из тёмного, липкого небытия, в котором я тонула. Я чувствую, как моё сознание, тонкая серебряная ниточка, снова ускользает из ослепительно-белой операционной, где над моим безжизненным телом, будто инопланетные существа, склонились люди в зелёных масках.
Их голоса доносятся сквозь толщу наркоза, приглушённые, искажённые, словно я лежу на дне глубокого, ледяного колодца:
– Лев Валерьевич, действие наркоза заканчивается… Пациентка приходит в себя.
– Увеличьте дозу. – голос главного врача сух и безразличен, будто он комментирует показания сложного прибора.
– Интересный случай… очень интересный…
Свет мерцает, затухает и вспыхивает вновь, будто в самой реальности происходит сбой. Тени на стенах пульсируют, живут своей собственной, тревожной жизнью, сжимаясь и расширяясь в такт невидимому, сердцу. Пол под ногами плывёт, колышется, как палуба корабля, попавшего в жестокий шторм, но сделать шаг, чтобы удержать равновесие, невозможно – пространство вокруг густеет, прилипает к коже сковывает, не даёт двигаться.
***
Боль. Она не приходит и не уходит. Она живёт во мне. Устроила себе гнездо где-то в глубине горла, в самой груди, и лежит там – тяжёлым, раскалённым камнем, который нельзя ни выплюнуть, ни проглотить. Я уже хорошо, до автоматизма, выучила, что такое «нельзя». Это слово стало моей второй кожей.
Нельзя плакать, когда из тоненькой детской вены берут кровь – иначе медсестра строго скажет: «Ты же уже большая девочка, потерпи немного.»
Нельзя дёргаться, когда ставят капельницу – «А то вена уйдёт, придётся колоть заново,» – голос мамы звучит устало и безнадёжно.
И теперь – самое страшное, самое немыслимое нельзя – нельзя говорить…
Раньше, кажется, я болтала без остановки, и слова лились из меня, как вода из переполненного кувшина. Я помню, как папа смеялся, когда я, гуляя с ним за руку, выпалила на всю улицу:
– Смотри, пап, облака – это вата для птиц! Им же холодно ночевать на голых ветках!
А потом, вечером, тыкая пальцем в небо:
– А луна – это большая котлета, а звёзды – это крошки от печенья, которые она роняет!
Но как молчать, когда внутри меня столько непроизнесённых слов? Они копошатся, толкаются, как птенцы в гнезде, бьются о рёбра изнутри, обжигают горло, просясь вырваться наружу.
Я сжимаю свою куклу Лялю – её когда-то розовое платьице теперь пропахло больничной пылью и лекарствами.
– Тссс, Ляль… – шепчу я, прижимаясь губами к её холодному пластмассовому ушку. – Ничего не говори. Будем молчать, как рыбы. Они самые умные, наверное, потому что молчат…
Дверь в палату с тихим, жалобным скрипом открывается. Входит Доктор. Его белый халат пахнет лекарствами, холодным металлом и чем-то чужим, неуловимым. Мама, дремавшая на табуретке у моей койки, вскакивает, нервно сжимая и разжимая свои исхудавшие руки.
– Операция прошла успешно… Плеврит купирован. – его голос ровный, профессиональный, лишённый всяких эмоций. В нём нет ни капли тепла или участия.
– Но сейчас ребёнку жизненно необходим другой климат. Морской. Тёплый. Влажный. Чтобы лёгкие восстановились. И чем скорее, тем лучше.
Мама замирает. Её пальцы снова находят мою руку, и я чувствую, как они мелко, беспомощно дрожат.
– Но как же мы… – её голос – надтреснутый, едва слышный шёпот. – У нас здесь дом… Работа… Вся жизнь…
Его глаза, холодные и ясные, смотрят на маму не как на мать, а как на досадную помеху, которую необходимо решить.
– Или дом, или жизнь. – Доктор делает небольшую, рассчитанную паузу, чтобы эти слова вбились, как гвозди. – Вам решать.
Ночью я лежу без сна и смотрю на луну за окном. Она круглая и неестественно жёлтая, точь-в-точь как та самая котлета из больничной столовой.
Я закрываю глаза и пытаюсь представить море. Такое, как на яркой, картинке в маминой книге – бесконечно синее-синее, с белыми «бабочками» парусов на волнах.
– А там… там я смогу говорить? – тихо-тихо, одним лишь движением губ, спрашиваю я свою безмолвную Лялю, прижимая её к больной груди.
Кукла, конечно, молчит. Но зато в моей голове рождаются новые, тихие стихи:
«Солнце – спелый апельсин в сетке из облаков,
А боль – старый, ржавый замок на горле…
Но море, но море…
Оно отопрёт все замки!»
***
Вспышка гаснет…
Это – не память, это – живое, дышащее, пульсирующее сейчас. Оно меняет форму на лету, как облако, оно так же реально.
Это – прорыв сквозь слои «надо» и «почему», сквозь саму ткань привычной реальности.
И это настоящее, которое я ощущаю. Оно выжжено во мне. Как клеймо. Как формула, вписанная молнией прямо в грудь. Оно жгёт изнутри.
Я смеюсь, потому что страх и восторг – одно и то же. Потому что грудь ноет от этого ожога, а на губах улыбка свободы.
Я больше не боюсь падения, потому что уже лечу…
Вспышка погасла только для того, чтобы её свет продолжил жить внутри.
ВСПЫШКА…
Пространство дрожит, колеблется, как поверхность воды, в которую бросили камень, и снова уносит меня в водоворот воспоминаний.
Я кружусь, как заведённая юла, теряя всякое ощущение границ между прошлым и настоящим, между болью и надеждой.
Где-то там, далеко-далеко, остаются стерильные стены больничной палаты, безразличные лица докторов, гул аппаратуры…
А впереди – море.
Тёплое. Целебное. Я ещё не вижу его, но уже чувствую на своих губах солёные брызги, уже слышу его дыхание. И я знаю – там, у того моря, я наконец-то смогу говорить. Говорить, говорить, говорить без конца, без этой удушающей, рвущей грудь боли…
Я падаю сквозь слои времени, и вот уже чувствую тряску грузовика, вонь бензина и дорожной пыли, смешанную со сладковатым, непривычным воздухом чужого края.
***
Грузовик подпрыгивает на ухабах так, что зубы выбивают лихую, бесшабашную дробь. Я устроилась на мешке с гречкой, а мой брат, как непоседливая обезьянка, уже вовсю осваивает новое пространство – карабкается по узлам и чемоданам, ныряет в тряпичные горы, словно в снежные сугробы.
– Смотри! – он вдруг прилипает носом к узкой щели в брезенте.
– Там пальмы! Настоящие, я тебе говорю!
Я не верю. В моих детских книжках пальмы росли только где-то в далёкой-далёкой Африке, рядом со слонами. Но когда на очередной кочке брезент откидывается, в лицо бьёт плотная волна тёплого, густого, чуждого воздуха. Он пахнет ароматом цветущих акаций, едкой нагретой смолой, свежестью морской соли и чем-то ещё, незнакомым и манящим.
Ночь.
Мы на месте. Темнота здесь не просто отсутствие света, а нечто физическое, густое, бархатное, которое, кажется, можно потрогать руками.
Мы сгружаем наши пожитки в пустую, оголённую комнату с голыми стенами, где пахнет свежей извёсткой и сыростью.
– Мама, а это… это наш дом? – робко спрашиваю я, цепляясь за складки её знакомой, пахнущей домом юбки.
Отец с грохотом ставит на пол тяжёлый чемодан, и звук этот эхом разносится по пустоте.
– Теперь наш, – его голос устал, но в нём слышится твёрдая радость.
Спим вповалку на матрасах, даже не раздеваясь. Я прижимаюсь к тёплому боку брата, зачарованно слушая, как за окном, в этой непроглядной тьме, стрекочут миллионы невидимых насекомых.
Их голоса сливаются в странную, ни на что не похожую песню – тревожную и незнакомую, но почему-то бесконечно успокаивающую.
А утро… Утро стало настоящим взрывом цвета и жизни. Трава такая насыщенно-изумрудная, что от её зелени слезятся глаза.
Розы в саду пахнут так интенсивно, так густо, что от их аромата кружится голова.
А деревья… Они высокие-высокие, их мощные кроны теряются где-то в вышине, в синеве неба, такого яркого, которого я никогда раньше не видела.
Я бегу босиком по мокрой от ночной росы траве. Она щекочет ступни, оставляя на коже прохладные, блестящие капельки. Воздух наполнен запахом нагретой земли и чего-то сладкого, пряного, неизвестного.
Я полюбила этот новый мир сразу, с первого взгляда, безоговорочно и навсегда.
Я изучала всё, что попадалось на пути: трепетных бабочек, мохнатых гусениц, блестящих жуков, извивающихся червяков, резные листочки, нежные цветочки, диковинные ягодки. Мне нравилось абсолютно всё, и мне страстно хотелось исследовать этот бесконечно щедрый мир всё больше и больше.
По соседству с нами жили – София и Славка, тоже брат с сестрой. Мы быстро нашли общий язык, и каждый наш день теперь был наполнен совместными играми и открытиями.
Как-то раз София держала в руках нечто, отдалённо напоминавшее яблоко, но кожица этого плода была не гладкой, а пушистой, точно как мамина бархатная юбка.
– Что это? – не удержалась я, сгорая от любопытства.
Она весело рассмеялась и сунула диковинку мне в руки:
– Держи.
Я осторожно взяла тёплый, упругий плод, боясь повредить его нежную шкурку.
– А это… съедобное? – спросила я, не в силах поверить, что эту красоту можно просто взять и съесть.
Девочка залилась звонким, беззлобным смехом:
– Ты что, с луны свалилась? Никогда персиков не ела? Кусай смелее!
Плод оказался на удивление сладким, его ароматный, золотистый сок ручьями стекал по моему подбородку. Я ела, а по щекам сами собой катились крупные, горячие слёзы – будто моё собственное тело понимало, что происходит какое-то сладкое предательство.
Вкус северных, кисловатых и твёрдых антоновских яблок вдруг померк, стал далёким и безрадостным воспоминанием.
– Ты чего ревёшь? – недоумевала София. – Это же вкусно! Это же персик! – её хохот звенел в воздухе, как маленький, радостный колокольчик.
А персик пах так, будто впитал в себя весь солнечный свет этого нового мира. Весь его жар, всю его щедрость и всю его исцеляющую силу.
***
Вспышка гаснет…
И в наступившей тишине, в гуле уходящего света, остается он – этот вкус. Не воспоминание о вкусе. Не его эхо. А сам он – густой, сладкий, с терпкой горчинкой у самой кожицы, с медовыми нотами, тающими на языке.
Вкус персика, вобравшего в себя всё лето, весь солнечный свет.
Я провожу языком по губам, ожидая, что он исчезнет, как исчез свет. Но он – остаётся. Яркий, навязчивый, реальный.
Доказательство, что там, за гранью вспышки, была не абстракция, а плоть мира – сочная, ароматная, настоящая.
Я закрываю глаза. И вижу не темноту, а бархатистую шкурку плода, золотистую, с румянцем. Это было прикосновение к чему-то вечному, что не зависит от времени – к солнцу, созревшему в плоти фрукта, к простому счастью, которое можно вобрать в себя с одним кусочком.
В этом солнечном вкусе персика, который будет со мной до самого конца.
ВСПЫШКА…
Она бьёт по глазам, как тысяча зеркал, повёрнутых к полуденному солнцу – резко, больно, безжалостно, без всякого предупреждения. Этот свет не просто слепит, он вгрызается в самое нутро, в сетчатку, оставляя после себя выжженные силуэты, которые невозможно стереть.
Я инстинктивно зажмуриваюсь, но образы уже впечатались внутрь век – ослепительные солнечные зайчики пляшут на тёмном экране памяти, складываясь в странный, но до боли знакомый узор.
А когда я наконец решаюсь открыть глаза…
…оказывается, что та вспышка так и не погасла.
Она просто перешла внутрь, растворилась в крови, стала тихим, но вечным светильником, частью меня самой.
***
В нашем дворе, словно древний исполин, возвышалось дерево тутового шелкопряда – огромное, приземистое, с причудливо изогнутыми, корявыми ветвями, будто созданными самой природой для отважных лазутчиков. Оно стало моей страстью, моим личным миром, моим тайным королевством, куда не долетали голоса взрослых. Его ягоды – чёрные, глянцевые, сочные до невозможности, сладкие до самого головокружения – оставляли на детских руках и белоснежных платьицах фиолетовые, почти что магические, несмываемые пятна.
– Опять вся в этих чернилах! И платье новое, с утра надела – уже перепачкала! – ворчит мама, с силой скребя мои загорелые коленки жёсткой мочалкой в тазу с мыльной, уже давно остывшей водой. Её лицо раздражённое, усталое, на лбу блестят капельки пота.
– Ну сколько можно, Таня? Каждый день одно и то же! Просто нарочно, что ли?
Я смотрю на неё снизу вверх, сжимая в липких кулачках свежий, только что собранный урожай спелых ягод, от которых по всему телу разбегаются мурашки восторга.
– Но они же такие вкусные, мам! Вот, попробуй, правда же! – протягиваю ей полные, зажатые в ладонях пригоршни чёрного, блестящего добра, и сок тонкими струйками стекает мне на запястья.
Мама морщится, с отвращением отстраняясь, будто я предлагаю ей горсть жуков.
– Фу, какая гадость! И пахнут как-то приторно-сладко. И руки потом целую неделю не отмоешь, все будут показывать пальцем.
Но тут, словно добрая фея, появляется она – наша соседка, тётя Нина, мама моей закадычной подруги Софии. Она выглядывает из-за плетёного забора, и в её руках – горсть совсем других, зелёных, неспелых ягод, твёрдых, как камушки.
– Мила, Милочка, да что ты на ребёнка-то ругаешься, как на пожар? – её голос звучный и весёлый, будто она знает какую-то великую тайну.
– Вот, возьми, потри этими ягодками – и пятен как не бывало. Они кислоту содержат, она всю эту черноту съедает! А ягоды-то чёрные – одни сплошные витамины! Очень полезные! Дети должны их есть, это же кладезь!
Я торжествующе, с чувством полной правоты, смотрю на маму, задрав голову:
– Видишь? А ты говорила – гадость! А тётя Нина говорит – витамины! Целый кладезь!
Мама смотрит то на меня, то на соседку, тяжко вздыхает, но в уголках её губ уже пробивается сдержанная, сломленная улыбка. Она нехотя берёт зелёную, твёрдую ягоду, трёт моё перепачканное коленко – и, о чудо, фиолетовое пятно на глазах светлеет, тает, как утренний туман.
– Ну ладно, ладно, сдаюсь… – капитулирует она, разводя руками.
– Только смотри, Танюша, чтобы в следующем новом платье не лезть! Договорились?
С этого самого момента я становлюсь бесспорной, полноправной королевой тутовника. Я провожу все свои дни на этом дереве, забираясь на самую верхушку, откуда, как на ладони, виден весь наш шумный двор, крыша соседского дома и даже кусочек дальнего поля. Оттуда я, как орлица, наблюдаю за жизнью внизу.
Мои губы, пальцы и даже щёки постоянно окрашены в волшебный фиолетовый цвет, как у настоящей лесной волшебницы. Я ем ягоды горстями, прямо с веток, чувствуя, как их густой, сладкий, с лёгкой горчинкой сок разливается по всему телу, даруя мне силы для новых воздушных подвигов и открытий.
Иногда ко мне присоединяется София, и мы вместе, как две маленькие, проворные обезьянки, качаемся на упругих ветках, заливаемся беззаботным смехом и делимся самым спелым, самым тёмным «уловом», шепча друг другу самые сокровенные секреты.
А вечером, когда солнце, уставшее за день, начинает клониться к закату, окрашивая небо в те самые спелые, фиолетово-розовые тона, что и мои вечно перепачканные руки, я неохотно спускаюсь с дерева – уставшая, переполненная счастьем, вся пропахшая солнцем, ветром и самым настоящим летом. И даже мама, встречая меня на крыльце, уже не ворчит, а только качает головой, с обречённой нежностью глядя на свою неуёмную «дикарку», всю перепачканную сладкими, липкими чернилами самого беззаботного детства.
***
Вспышка гаснет, а этот образ – маленькой девочки с фиолетовыми, как у сказочной феи, руками на фоне изумрудной, шуршащей листвы – навсегда остаётся внутри меня, как та самая яркая, обжигающая вспышка, что никогда, никогда не гаснет, освещая тропинку обратно, в тот рай.
ВСПЫШКА…
Там, где свет вспышки был ярче всего, теперь висит едва уловимое, зыбкое послесвечение. Оно дрожит в воздухе, как мираж над раскалённым асфальтом, обещая вернуть ещё один островок памяти…
***
Каждый день в этом новом, щедром мире становился для меня откровением. Я с изумлением, граничащим с восторгом, обнаружила, что фрукты – эти диковинные сладости – растут не только на прилавках магазинов, за стеклом, но и прямо тут, под открытым небом.
Они висели на ветках, лежали под ногами, прятались в густой траве у самой дороги, будто сама земля решила одарить нас своими сокровищами.
Я стояла под раскидистым сливовым деревом во дворе, задирая голову и разглядывая удивительные фиолетовые плоды, гроздьями свисавшие среди яркой зелени.
– Мама, а это… это точно можно есть? – спросила я, осторожно дотрагиваясь кончиком пальца до прохладной, упругой кожицы незнакомого фрукта.
– Конечно, девочка моя! – засмеялась мама, и в её смехе звенела радость.
– Это же сливы. Самые настоящие. Сорви одну, попробуй!
Я потянулась, сняла с ветки тёплый, налитый солнцем плод и, зажмурившись, осторожно надкусила его. Кисло-сладкий, ароматный сок брызнул мне в рот, обжигая вкусовые сосочки.
– Ой! – воскликнула я, растерянно вытирая подбородок рукавом.
– Да они же такие сочные!
– Ну конечно, глупышка, – улыбнулась мама, гладя меня по голове.
– А вон там, у самой дороги, абрикосы растут. Плодов – море! Хочешь, сходим, посмотрим?
Сливы, абрикосы, персики – всё это висело, словно диковинные ёлочные игрушки, только не стеклянные, а живые, вкусные и невероятно сочные. Я превратилась в маленького первооткрывателя: забиралась на каждое дерево, обшаривала каждый колючий куст, пробовала всё подряд: сладкую, почти приторную вишню у крыльца магазина, терпкие грецкие орехи в дальнем, таинственном переулке, сочные ягоды, которые лопались во рту, как самые лучшие в мире конфеты.
Возле самого магазина росли густые, почти непроходимые заросли хвоща – высокого, сухого, шуршащего на ветру, как гигантская ведьмина метла.
Тётя Настя, папина родственница, женщина с добрыми, лучистыми глазами и вечно заляпанным чем-то фартуком, как-то подозвала меня к себе:
– Танечка, подь-ка сюды, золотцЭ! Видишь эти кусты? – она таинственно понизила голос. – Тут курочки наши яйца прячут. Шустрые, зараза, не в гнёздах нестись, а по углам шнырять.
– Деточка, – говорила тётка Настя, размахивая пухлой, загорелой рукой в сторону чащи, – ты маленькая, юркая, пролезть сможешь. Полезай тудЫ, в хвощу эту. Собирай да сдавай тётке Гале на кассу – она тАбЭ денег даст. А если бутылка пустая попадётся – вообще удача!
Я, воодушевлённая миссией, пролезала в самую гущу, где земля была тёплой, рыхлой и мягкой, а хитрые курицы выкапывали себе уютные ямки-гнёзда. Иногда мне везло, и я находила по пять-шесть яиц за раз – они были тёплыми и чуть испачканными в земле, что делало их только ценнее в моих глазах. А ещё среди упругих листьев, словно драгоценные камни, поблёскивали стеклянные сокровища – пустые бутылки из-под пива или лимонада, бездумно оставленные вечерними гуляками.
Мы с ребятами, как заправские кладоискатели, торжественно несли нашу «добычу» в прохладу магазина. Тётка Галя, строгая, но справедливая, внимательно пересчитывала яйца, звякала бутылками и выдавала нам честно заработанную награду:
– Ну что, добытчики, хотите деньги или, может, жвачку? – подмигивала она мне.
Я почти всегда выбирала жвачку «Турбо» с оглушительно-ягодным вкусом или огромный, воздушный кулёк кукурузных палочек – невесомых, тающих во рту, словно сладкий снег. Первый раз, когда я их попробовала, мне казалось, что я жую самое настоящее, сахарное облако.
Чем дольше мы жили здесь, тем смелее я исследовала окрестности. Однажды мы с соседскими ребятами забрались в самый дальний, почти заброшенный уголок посёлка, где Славка, с важным видом показал нам невысокие, крепкие деревца.
– Смотрите, как надо! – скомандовал он и стукнул длинной палкой по ветке.
С дерева тут же посыпался дождь из круглых, в прочной скорлупе, орехов.
– Вау! – мы с Софией, словно воробьи, бросились собирать щедрую добычу.
– А как их открывать-то? – озадаченно спросила я, разглядывая твёрдый, почти каменный панцирь.
– Вот этим камнем, – снисходительно объяснил Славка, подобрав с земли плоский булыжник.
– Бьёшь посередине. Только не сильно, а то все ядрышки вдребезги раздавишь.
После нескольких неуклюжих попыток у меня наконец получилось: скорлупа с хрустом поддалась, обнажив маслянистое, извилистое ядрышко.
– Оно такое… маслянистое! – с удивлением сказала я, пробуя первый кусочек. Оно таяло на языке, пахнув чем-то древним, древесным и по-доброму тёплым, как будто само летнее солнце спряталось внутри этой маленькой крепости.
– Ага, – кивнул Славка, – и полезное. Бабушка моя говорит, от них умнее становишься. Прямо на глазах.
А тётка Настя, видя мой неуёмный исследовательский пыл, научила меня искать щавель:
– Видишь эти листики? – она присела на корточки, раздвигая траву. – Длинные, стройные, как стрелочки. Понюхай-ка.
Я принюхалась, и в нос ударил свежий, кисловатый аромат.
– Кисленько пахнет! – выдохнула я.
– Вот именно, родная. Это и есть щавель, признак его. Срывай только молодые, нежные листочки, старые – жёсткие, как подмётка.
Когда я, пыхтя от старания, принесла полный подол фартука изумрудной зелени, тётя Настя всплеснула руками:
– Ой, Яка ты у нас помощница растёт! Молодчина! Сейчас я тАбЭ пирожков напеку, таких, что пальчики оближешь.
Пока она, напевая, замешивала крутое тесто, я вертелась рядом на кухне, подгоняемая любопытством:
– А почему он кислый, этот щавель?
– Потому что в Ём сила земная, витамины, – объяснила тётя, с силой раскатывая скалкой. – От него здоровье прибавляется, кровь чище становится. Вот попробуешь – сама увидишь.
Когда тётя Настя из печи вынула противень с румяными, дымящимися пирожками, она, обжигая пальцы, сунула мне самый загорелый, самый аппетитный:
– На, пробуй, первооткрывательница! Только осторожно, с пылу с жару, горячо.
Я, обдувая, откусила маленький кусочек: хрустящее тесто уступило место горячей, кисло-сладкой начинке.
– Ммм… – прошептала я, закрывая глаза от наслаждения. – Сладкий и кислый одновременно! Как вкусно…!
– Вот видишь, – залилась добрым, грудным смехом тётя Настя, – а ты боялась пробовать новое-то. А жизнь, она, детка, как этот пирожок – пока не откусишь, не узнаешь, какая на вкус…
***
Вспышка гаснет…
…но этот вкус, этот взрыв незнакомой сладости на кончике языка.
Это не еда. Это – откровение. Каждый глоток – это новый закон вселенной, новый цвет, впервые увиденный мной. Я чувствую, как эти вкусы впитываются в меня, становятся частью моей крови, моих клеток. Я становлюсь вкусом этих открытий, наполняюсь ими, как сосуд.
ВСПЫШКА…
А потом – Тишина. Но это не конец. Это не пустота забвения, а глубокая, насыщенная смыслом пауза, полная сладкого, щемящего ожидания.
Где-то там, за самой границей зрения, за туманной пеленой прошлого, что-то невероятно важное и дорогое терпеливо ждёт своего часа, готовое вот-вот выплеснуться в сознание.
***
Один из таких тёплых, безмятежных вечеров, густо пропахший дымком от далёких костров и горьковатой, пьянящей полынью. Воздух был тёплым и бархатным, а с неба медленно сыпался золотой песок заката.
И вдруг, разрезав эту идиллию, из распахнутого окошка тёти Насти донёсся её зычный, на весь двор, голос:
– Танечка-а-а! Иди сюдЫ, касатка! Вот тАбЭ оладушки, горяченькие, с пылу с жару!
Я, как ошпаренная, сорвалась с места и подбежала к её дому, заглянув в тёмный, но такой гостеприимный проём окна. Внутри, на столе, покрытом чистой ситцевой скатертью, дымилась, издавая соблазнительный аромат, целая гора толстых, пухлых, зарумянившихся лепёшек.
– Ой! – выдохнула я, уставившись на это великолепие. – Да это же толстые блины!
Тётя Настя, стоя у плиты, только фыркнула, комично поджав губы, и принялась ловко перекладывать оладьи на большую глиняную тарелку.
– Яки это блины, несмышлёныш, – проворчала она, но её глаза, маленькие и лукавые, так и лучились смешком.
– Это оладьи! Настоящие, на дрожжах, чтоб они поднялись, как солнышко. Бери, беги, угощай свою ватагу, а то уж заждались тАбЭ, поди..
И она сунула мне в руки целую стопку этих пышных, золотисто-коричневых, дышащих жаром солнышек. От них шёл такой божественный пар, что слюнки текли у меня рекой, а в животе от нетерпения заурчало.
По-моему, это были самые настоящие, самые лучшие в мире толстые блины, но такие невероятно вкусные, что я ела, обжигая кончики пальцев и язык, но не в силах была остановиться.
Я побежала во двор, где меня уже ждала моя небольшая компания – Славка, Софка и мой брат Максим, успевший перепачкаться в земле с ног до головы.
– Смотрите! – торжественно, как древний воин, подняв трофейную тарелку, возвестила я. – Вот что тётя Настя дала!
Славка, самый старший, с видом истинного гурмана протянул руку:
– Ух ты, объедение! А с чем они, к ним чего полагается?
– С мёдом можно! – донёсся раскатистый голос самой тёти Насти, снова высунувшейся из окна. – Или со сметаной! У кого что дома есть, тем и мажьте!
Мы устроились на старом, отполированном до зеркального блеска дождями и бесчисленными детскими попами бревне и принялись с восторгом делить щедрое угощение.
Солнце, садясь за горизонт, разливало по небу нежные, акварельные тона – розовые, персиковые, сиреневые. А у нас во рту таяли тёплые, сладкие, невероятно воздушные оладьи, пахнущие самым счастливым детством и беззаботным летом.
– Я… я никогда в жизни ничего вкуснее не ела, – сказала я, облизывая липкие от душистого варенья пальцы. Аромат смешивался с дымком и запахом спелой земляники. – Никогда! Честно!
Славка, набив рот так, что у него надулись щёки, мудро изрёк, как древний философ:
– А ты думала! Потому что сами яйца у кур в хвоще собирали, сами муку тётке Насте до дома помогли принести. Это ж и наш труд тут есть, наша доля. Так всегда во сто раз вкуснее.
И в тот самый миг, с последним кусочком тёплого, тающего во рту теста, под убаюкивающий стрекот кузнечиков и счастливый смех друзей, до меня вдруг дошло. Я поняла простую и великую истину: этот новый мир – не просто загадочный и незнакомый. Он – самый что ни на есть настоящий. Живой, дышащий, пахнущий, вкусный и бесконечно удивительный. И с каждым новым днём он открывается мне, доверчивой и жадной до чудес, всё больше и больше.
Мне нравилось здесь абсолютно всё, до самой последней мелочи: и то, как пахнет влажная, тёмная земля после тёплого летнего ливня – свежо, сладко и по-новому; и то, как спелые, налитые соком сливы сами срываются с веток и падают прямо под ноги, словно настойчиво предлагая себя; и даже то, как тётя Настя так смешно и мило коверкает слова, делая их такими домашними, родными и уютными.
Казалось, что весь этот огромный, щедрый мир был однажды специально создан для того, чтобы я, маленькая и счастливая, могла бегать по его лугам, лазить по деревьям, пробовать всё на вкус и каждый свой день начинать и заканчивать с чувством восторженного удивления.
А вечером, ложась спать на поскрипывающей кровати, я прислушивалась к таинственным ночным шорохам за открытым окном. Может быть, прямо сейчас хитрые курицы несут новые, ещё тёплые яйца в своих потаённых гнёздах в зарослях хвоща? А может, где-то в самом дальнем углу сада, о котором я ещё не знаю, наливается соком и созревает какой-нибудь новый, незнакомый фрукт, который завтра с утра станет моим очередным великим открытием?
И я засыпала с твёрдой уверенностью, что завтрашний день обязательно принесёт с собой новое, ещё более удивительное приключение в этом самом настоящем, подаренном мне мире.
***
Вспышка гаснет…
Но её исчезновение – лишь смена кадра. Световая буря сменяется другой…
Я понимаю, что вспышка была лишь дверью. А то, что за ней – это бесконечный сад, полный неизведанных плодов. И каждый из них – это – новый способ чувствовать. Новая эмоция. Новая часть меня.
И этот сладкий, терпкий, незнакомый нектар начинает светиться изнутри, вытесняя старую, пресную реальность.
Вспышка погасла. Но её истинный дар только начинает во мне распускаться. Я больше не та, кем была до неё.
ВСПЫШКА…
А за ней – жаркое марево, растекающееся по краям зрения, как расплавленное стекло. Воздух, густой и тяжёлый от пряного запаха нагретой за день травы и смолы, струящейся по коре сосен, словно сам дышит зноем, выдыхая его обратно в небо.
Где-то невидимо и неустанно, будто заведённые, стрекочут кузнечики, и этот монотонный, гипнотический звук похож на биение пульса – не моего, а самого лета, бесконечного, горячего и беззаботного.
***
За нашей улицей, на самом её краю, там, где кончался выметенный до блеска и предсказуемый мир взрослых и начиналось дикое, непокорное царство детей, бежала быстрая, говорливая речка. Она вечно куда-то спешила, шумела на камнях, перекатывала гладкие, отполированные водой до зеркального блеска валуны, а посередине, как настоящий пиратский корабль, брошенный на произвол судьбы, торчал заросший ивняком и лопухами-великанами островок – заветная цель всех окрестных мальчишек.
– Макс, возьми меня с собой! Пожалуйста! – кричу я брату, цепляясь взглядом за его удаляющуюся, загорелую спину, чувствуя, как комок зависти и обиды подкатывает к горлу.
Но он только озорно ухмыляется через плечо, ловко перепрыгивая с мокрого камня на камень, легко балансируя против упрямого, сильного течения.
– Не-а, мелким тут не место! – бросил он на ходу, и его голос тут же утонул в оглушительном шуме и грохоте воды, разбивающейся о гранит. – Течение сильное, снесёт тебя! Утонешь!
И он исчез за крутым поворотом, в густых, таинственных зарослях прибрежной ивы, оставив меня одну на раскалённом от солнца берегу – с тем самым комом обиды в горле и щемящим, едким чувством полнейшей несправедливости.
В тот день я снова осталась в одиночестве. Солнце пекло немилосердно, в густой траве звенела невидимая цикада, а мне было до слёз обидно и невыносимо, до тоски скучно.
Отчаявшись и желая хоть как-то развлечься, я сняла свои новенькие, нарядные красные туфельки – те самые, лакированные, с тугими пряжками, что накануне купил папа, так гордившаяся этой взрослой, красивой покупкой, – и опустила их в прохладную, почти ледяную воду. Струйки весело заиграли вокруг глянцевых носочков.
– Плывите! – торжественно сказала я туфелькам и толкнула их, как самые настоящие, отважные кораблики, в большое, опасное плавание.
Один тут же нелепо зачерпнул воду, неуклюже перевернулся и, как камень, пошёл ко дну, но второй гордо выпрямился и поплыл, весело подпрыгивая на резвых, пенистых струйках течения. Я ахнула от восторга! И вдруг…
– А-а-а!
Быстрая, коварная волна, сорвавшаяся с небольшого, но бурливого порога, подхватила мой кораблик, безжалостно завертела его в танце, и через секунду мой красивый красный башмачок исчез в коварном водовороте. Его уносило стремительным, неумолимым горным течением всё дальше и дальше от меня, к чужим, неведомым, пугающим берегам.
Я застыла на месте, как вкопанная, не в силах оторвать глаз от алой точки, которая становилась всё меньше и меньше, пока окончательно не растворилась в бурлящей воде. В руке у меня остался только один красный башмачок – немой, укоряющий свидетель моей великой потери. Сердце колотилось где-то в горле, смешивая страх с горьким осознанием содеянного.
Домой идти босиком? Было дико страшно признаваться. Но и оставаться тут одной, на пустынном берегу, – тоже было жутковато до слёз.
Вернувшись домой, я украдкой, как самый настоящий преступник, спрятала оставшийся туфель в самом тёмном углу дровяного сарая, за рыхлыми, пахнущими смолой и летом поленьями, и натянула старые, тесные, до боли знакомые сандалики – те, что уже давно жали, от которых болели пальцы и натирались мозоли.
– Таня, а где же твои новые туфли? – спросила мама вечером, её взгляд сразу же упал на мою старую, потрёпанную обувь.
– Я… я их… – голос предательски дрогнул и куда-то пропал, словно тот самый башмак в реке.
– Опять где-то забыла? – разочарованно, с укором вздохнула она, качая головой.
– Ну, Таня, когда же ты, наконец, станешь ответственной и послушной?
Я промолчала, опустив глаза и сжимая в кармане кулачки. Лучше уж пусть думают, что я бестолковая растяпа и забывчивая, чем узнают горькую, позорную правду о моём великом кораблекрушении.
Но детская грусть, к счастью, – вещь недолговечная и летучая. Особенно по вечерам, когда солнце, спрятавшись за тёмный силуэт далёкой горы, оставляло после себя тёплый, бархатный, живой и таинственный сумрак. Уже через полчаса становилось совсем темно – не как в городе, с его фонарями и окнами, а по-настоящему, до черноты, до россыпи крупных, холодных бриллиантов звёзд над самой головой.
И про одинокий красный башмачок, заточённый в дровяном сарае, уже никто не вспоминал. Кроме меня. Лишь я одна знала его печальную тайну.
***
Вспышка гаснет…
Я стою в зыбкой пустоте, в зарождающейся дымке забвения, и слушаю тишину, в которой отдаётся лишь эхо того дня.
Этот повторяющийся кадр моего воображения, отточенный до блеска.
Он снова и снова прокручивает тот самый миг, когда видение было самым ярким, самым настоящим, почти осязаемым… и затем резко, безжалостно обрывается.
Но это не конец. Это – пауза. Глубокий вдох. Якорь, зацепившийся за дно памяти, не дающий волшебству уплыть безвозвратно в прошлое.
ВСПЫШКА…
…и я падаю сквозь время, как сквозь разбитое зеркало. Осколки впиваются в память – острые, яркие, живые, каждый со своим отражением, каждый со своей историей, которая режет по-новому.
Вот один из них – тот самый, тёплый день, когда лето пахло дорожной пылью и терпкой, спелой смородиной, щедро усыпавшей кусты у крыльца.
***
Я сидела на тёплых от солнца ступеньках крыльца, опустив босые, перепачканные в земле ноги в прохладную воду жестяного тазика. Вода приятно холодила кожу, смывая следы дня. Солнце, огромное и багровое, медленно угасало за горизонтом, окрашивая небо в нежные, акварельные тона – персиковые, сиреневые, розовые. Воздух был густым, сладким и тягучим, как малиновый сироп.
– Фр-фр-фр! – донёсся откуда-то снизу тихий, но отчётливый звук.
Сначала я замерла, затаив дыхание и прислушиваясь, пытаясь понять, не показалось ли. Потом, боясь спугнуть, тихо, почти шёпотом, позвала:
– Мама… Мамочка, тут кто-то есть… кажется…
И тут из-под раскидистого, густого куста смородины, окутанного сизой вечерней тенью, выкатился и замер маленький, колючий комочек.
Ёжик! Небольшой, с влажным, блестящим, как бусинка, носиком. Он деловито, нервно обнюхал воздух, вытягивая свою смешную мордочку, и смело уткнулся в мокрую тряпку у самого тазика.
– Мамочка, можно… можно взять его домой? – голос мой дрожал и визжал от неподдельного восторга. Я уже представляла, как он будет спать у меня под кроватью в коробке из-под папиных ботинок. – Он такой одинокий и маленький! Наверное, он потерялся!
Мама вышла на крыльцо, на ходу вытирая о фартук руки, испачканные в муке. Её усталые глаза смягчились, когда она увидела моё светящееся от изумления лицо и самого виновника торжества.
– Нет, детка моя, нельзя, – её голос прозвучал твёрдо, но ласково. – Он не потерялся. Дикие животные должны жить на воле, в лесу или в саду. Это их дом. Она заметила, как мой подбородок предательски задрожал, и поспешила добавить, присев рядом: – Но знаешь что? Мы можем его покормить. Думаю, он очень любит молоко.
Мы налили в маленькое, с цветочками по краю, блюдце молока и осторожно поставили его на траву, в шаге от смородиновых веток.
Ёжик сначала настороженно фыркал, пыхтел и даже попытался свернуться в клубок, но любопытство и аппетит пересилили. Через минуту он смело подошёл и уткнулся мордочкой в блюдце и принялся громко, с удовольствием чавкать, забавно морща свой чёрный носик и фыркая от удовольствия. А когда насытился до отвала, он, не сказав ни слова благодарности, деловито развернулся и бесшумно исчез в сгущающихся сумерках, будто его и не было.
Но на следующий вечер, когда небо снова начало розоветь, он вернулся. Всё повторилось. И снова. И снова. Он стал нашим вечерним ритуалом, самым главным событием конца дня.
– Он теперь наш! – объявила я однажды торжественно, сидя на корточках и зачарованно наблюдая, как ёж, которого я окрестила Фырчиком, уплетает своё угощение.
Даже наша рыжая кошка Мурка, вначале шипевшая, фыркавшая и выгибавшая спину дугой при виде колючего пришельца, вскоре привыкла и стала относиться к нему с царственным снисхождением. Она лишь лениво наблюдала с верхней ступеньки крыльца, прищурив свои зелёные глаза, как ёж важно и неторопливо топочет по нашему двору, словно самый настоящий хозяин, проверяющий вверенные ему владения.
Перед сном я лежала в своей кровати, укутанная в прохладную простыню и слушала, как через распахнутое настежь окно доносится оглушительное, мерное стрекотание сверчков, сливающееся в одну сплошную, убаюкивающую симфонию ночи.
Я думала о том, как невероятно, до слез хорошо здесь, в этом месте, где тёплый воздух навсегда пропах мёдом, пылью и спелыми фруктами, где даже потерянная в речке туфелька превращается в целое приключение, а долгие летние вечера наполнены густым, сладким ароматом свежескошенной травы. И где под самыми обычными зелёными кустами, в таинственных сумерках, живут самые настоящие, фырчащие, колючие и такие трогательные чудеса.
***
Вспышка гаснет, и эти воспоминания, такие яркие и объёмные, кажутся одновременно такими близкими, что вот-вот коснёшься, и бесконечно далёкими – как звёзды на ночном небе, которые продолжают посылать свой свет на землю, даже давно-давно погаснув в ледяной космической пустоте. Они больше не греют, но их свет всё ещё ведёт меня сквозь время.
ВСПЫШКА…
Это не просто воспоминание…
Это дверь, которая всегда, всегда приоткрыта, сквозь которую веет воздухом другого времени.
Это место, куда можно вернуться, стоит лишь захотеть.
Надо лишь закрыть глаза…