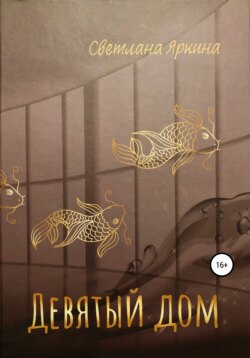Читать книгу Девятый дом - Светлана Яркина - Страница 1
Глава 0
Оглавление– Опаздываешь, – сказал мужчина, недовольно покачав головой, и постучал указательным пальцем по циферблату часов. Монг вздрогнул, оторвав взгляд от аквариума с рыбами, плавающими по спирали друг за другом. – Постажируешься немного, разберешься тут во всем и будешь работать самостоятельно, – он снова посмотрел на свои часы, на которых кроме циферблата не было ни стрелок, ни делений. – Давай собирайся.
Монг начал было собираться, но, оглядевшись вокруг, понял, что брать с собой ему ровным счетом нечего. Он находился в чужом кабинете, стены которого были окрашены в бело-голубой цвет. По центру располагались широкий дубовый стол и кожаное кресло с высоким подголовником. На стенах не было ни картин, ни дипломов, ничего, чем обычно украшают свои кабинеты руководители. А это определенно был кабинет какого-то начальника.
Стол был, на удивление, пуст: ни компьютера, ни телефона, ни привычных канцелярских принадлежностей. Вероятно, все эти приспособления были лишними для работы. Что точно не было лишним, так это рыбы, помещенные за стеклянный квадрат аквариума, вмонтированного в стол. Рыбы плавали, догоняя друг друга, держась на минимальном расстоянии, как летчики, исполняющие фигуры высшего пилотажа.
У одних были широкая голова и длинный тонкий хвост. У других, наоборот, пышные плавники и миниатюрная голова, которая казалась попросту лишней. Третьи были похожи скорее на ящериц, нежели на рыб. Они плавали по часовой стрелке, заныривая вглубь и возвращаясь наверх, создавая эффект воронки. Воронка затягивала в свое жерло и не давала оторвать взгляд.
Поймав себя на том, что еще немного, и он погрузится в транс, Монг силой оторвал взгляд от рыб и пошел следом за человеком, имя которого не знал или просто не мог вспомнить.
Они шли молча по длинному узкому, петляющему и, казалось, бесконечному коридору. Стены коридора были снежно-белые, потолок и пол тоже. Из-за плавности поворотов коридор напоминал желоб для санного спорта, накрытый сверху таким же, только перевернутым, желобом. Через пару минут у Монга начала кружиться голова, и он уже приготовился упасть.
– Привыкнешь, – сказал человек. И, к облегчению Монга, коридор внезапно повернул влево и уперся в лифт.
«Слава Богу, пришли», – подумал Монг.
Зайдя в лифт, человек нажал кнопку третьего этажа, и лифт начал спускаться вниз.
Выйдя из лифта, они сразу же оказались в помещении цилиндрической формы, стены которого рассмотреть было сложно. Они были окутаны туманом, который осел по периметру, словно был раскидан центробежной силой. Из-за его непроглядности и густоты контуры предметов стирались, в то время как в середине помещения воздух оставался прозрачным. По центру в нескольких метрах друг от друга стояли музыкальные инструменты. За каждым из них сидел человек и играл.
Приглядевшись, Монг обнаружил, что стен, как таковых, действительно нет. Вместо них помещение окутано темно-серой завесой очень плотного тумана. Монгу захотелось подойти ближе, чтобы разглядеть или даже попробовать его на ощупь, но ему уже давали наставления:
– Ты будешь работать с арфой. Предыдущего настройщика перевели на другую должность. По правде говоря, арфу уже почти никто не слушает. Чистых звуков она давно не издает, совсем зафальшивила. Никто особо не рассчитывает, что она заиграет, как когда-то. Поэтому просто следи за ней и поддерживай в рабочем состоянии. Неровен час, рассохнутся струны, и тогда все. Ты парень сообразительный, разберешься.
– Послушайте. Я крайне польщен, что мне доверили эту арфу. Но я никогда не играл ни на одном музыкальном инструменте. В детстве меня отказались принимать в музыкальную школу, сказали, что, мол, ваш мальчик не может отстучать элементарный ритм; не мучайте ребенка, пусть занимается лучше спортом. С гитарой потом тоже как-то не сложилось. В общем, музыка – явно не мое. Мне медведь еще в детстве наступил на ухо.
– С чего ты взял, что слушать надо ушами? Ушами много не услышишь, – человек вздохнул с досадой и нетренированным терпением, как делает учитель, когда уже не в первый раз пытается объяснить какую-то очевидную истину нерадивому двоечнику.
– Эта арфа очень старая. До нее, кстати, была другая, но она продержалась совсем недолго. Эта пока еще звучит. Фальшиво, надрывно и очень раздраженно, но звучит. В последнее время стали появляться скрипы. А струны совсем разболтались. Как подует ветер, такой вой начинается, как будто стая голодных волков воет от страха перед погибелью. А иногда такой плач заходится, как будто миллион дев плачет по своим не вернувшимся с войны женихам. Что мы только ни пытались сделать. И струны регулировали, и более опытным настройщикам доверяли. А ей все хуже и хуже. А потом решили пустить все на самотек. В общем, недолго ей осталось звучать. Так что работка тебе досталась непыльная, – и, ничего не сказав, пошел по направлению к девушке, которая крутилась вокруг скрипки, вслушиваясь в каждый звук.
У девушки были длинные черные волосы, которые плавно переходили в юбку. Юбка была тоже длинная, с черным вертикальным орнаментом, и поэтому сложно было разобрать, где кончаются волосы и начинается юбка. Она была очень увлечена своим инструментом, и ее совершенно не интересовало происходящее вокруг. Она крутилась вокруг скрипки, как молодая и настороженная мама крутится вокруг своего первенца. Временами девушка замирала и прислушалась, и по ее лицу сразу можно было понять, осталась ли она довольна звуком, который только что услышала, или нет. Если звук казался благозвучным, то ее лицо озарялось улыбкой, глаза сияли от счастья, и она готова была запрыгать, хлопая в ладоши. А когда звук казался не очень чистым, ее пробирала такая печаль, что она закрывала ладонями глаза и готова была расплакаться. Но потом опять собиралась, становилась спокойной и серьезной и продолжала вслушиваться дальше.
Человек подошел к девушке и стал что-то ей говорить. Разговор был ей явно не очень приятен. В ответ на его слова она молчала и тупила взор, иногда едва подергивала плечами и разводила руками. Осознав безрезультатность своих действий, девушка начала кивать человеку и продолжала так делать, пока он не окончил говорить. Монгу показалось, что их разговор напоминает отцовское чтение моралей ребенку, который сперва не признает вины, а потом, устав сопротивляться, смиренно соглашается, что его обличили.
«Странно тут как-то», – подумал Монг. Девушка со скрипкой вновь оказалась наедине с инструментом, и по ней было видно, что она осталась недовольна то ли собой, что не сумела оправдать себя, то ли человеком, что он был слишком строг с ней.
Взгляд Монга перешел на худощавого юношу со светлыми волосами, доходившими до плеч, пряди которых он то и дело заправлял за уши, а те не слушались и настойчиво лезли на лицо. Да это было и немудрено, потому что юноша эмоционально размахивал руками, пытаясь совладать с барабанными палочками, которые его не слушались и цеплялись друг за друга. Барабанный бой был похож на спор двух палочек, кто громче ударит. Юноша пытался синхронизировать их работу. У него ничего не получалось, но он, не теряя терпения, начинал сначала.
– А это, интересно, что? – спросил сам себя Монг и направился к инструменту, напоминающему рояль. Рояль он напоминал только лишь сбоку: открытая крышка, педали. Но подойдя с лицевой стороны инструмента, Монг увидел клавиатуру, доходящую до конца зала и уходящую сквозь серую дымку куда-то в неизвестность. За роялем сидела женщина лет шестидесяти, весьма пышных форм, а короткая стрижка придавала ей законченную шарообразную форму. Женщина пыталась усмирить клавиши, которые хаотично утопали вниз без ее участия и издавали режущие слух звуки, особенно на высоких регистрах. Но больше всего ее раздражало то, что длины ее рук не хватало, чтобы усмирить их все. И тогда она, разводя руки в стороны, ложилась грудью на рояль и изо всех сил пыталась растянуться так, чтобы охватить собой все клавиши.
– Могли бы за рояль посадить кого-нибудь повыше и постройнее, – еле слышно ворчала женщина. Ей, очевидно, было тяжело справляться со своими обязанностями. Но, несмотря на это, она ежеминутно вскакивала со стула и убегала за серую дымку, чтобы уделить внимание и сокрытым от ее постоянного внимания клавишам тоже.
А в левом дальнем углу зала плакала маленькая девочка. На вид ей было не больше десяти лет. Левой рукой она держала виолончель, а правой перебирала подол платья, который был мокрый от слез настолько, что замочил белые колготки с сиреневыми бегемотиками. Девочка не всхлипывала, не плакала навзрыд, а просто задумчиво смотрела перед собой. Когда из ее глаз время от времени скатывались слезинки, она привычным движением вытирала их подолом платья.
«Кто же додумался дать такой малышке эту громадину?» – вознегодовал в душе Монг. У девочки были светлые волосы, вьющиеся крупными кудряшками, и смешной вздернутый носик, который придавал ей наивный, еще более детский вид. И тут девочка заметила Монга, переведя на него свои большие голубые глаза, которые от слез, стоявших в них, казались еще больше.
– Почему ты плачешь? – Монг осмелился и подошел к девочке.
– Все бесполезно, – сказала девочка, всхлипывая, и из ее правого глаза выкатилась огромная слеза, которая уже набежала и ждала во внутреннем уголке, когда нахлынут новые собратья и столкнут ее вниз.
– Я их натягиваю, натягиваю, а они рвутся. Я натягиваю новые, а они опять рвутся. Я вроде все делаю правильно, каждую на свое место. У меня, между прочим, идеальный слух, настраиваю без тюнера. Но как тут настроишь, если они рвутся? Поначалу думала, может, перетянула. Проверила – нет. Но не проходит и секунды, какая-нибудь из четырех рвется. Потом другая, и так все.
Тут Монг заметил, что действительно все струны на инструменте порваны. Причем не просто порваны, а растерзаны, как будто голодные львы рвали их своими клыками, как добытую в кровавой схватке пищу.
– А ты давно здесь играешь? Что это вообще за место? – оживился Монг. Он понадеялся, что ребенок уж точно не будет говорить загадками, как тот человек.
Девочка вытерла подолом платья оставшиеся слезы и недоумевающе посмотрела Монгу в глаза. Посмотрела так пронзительно, что Монгу показалось, что она заглянула ему прямо в мысли. Но, видимо, поняв, что Монг не шутит, отвела взгляд и сказала:
– Давно ли? Здесь никто не следит за временем. В этом нет никакого смысла. Прошел час, день, год – не важно. Вот сколько времени прошло с того момента, как ты ко мне подошел?
– Ну, минуты две, наверно, – прикинул Монг.
Девочка засмеялась таким задорным детским смехом, что Монг невольно засмеялся тоже. От ее слез не осталось и следа. Перед Монгом уже сидел совсем другой ребенок, счастливый и беззаботный. Она болтала ногами в колготках с сиреневыми бегемотами, улыбалась и, казалось, забыла про свои струны, которые были похожи на изогнутую колючую проволоку.
– Насмешил ты меня. Хотя я знаю, что ты новенький, про тебя нам уже рассказали, – подытожила она, взяв Монга за руку, и повела куда-то. Монг повиновался и пошел следом.
– Здесь музыкальный зал, – принялась объяснять она, – всех настройщиков ты уже видел, познакомишься с ними позже. У каждого свой инструмент. Если кому-то доверили инструмент, это навсегда. Настройщика меняют только в особых случаях, если, например, его переводят на более высокую должность. Как предыдущего настройщика арфы, например. Он очень добрый, отзывчивый, мы все его очень любим. Но дело есть дело, перевели. Самый главный у нас Гобс – это тот, кто тебя привел. Строгий, но справедливый. По всяким глупостям его лучше не беспокоить, он очень занятой. Это и немудрено, попробуй за всем уследить. Поэтому мы здесь, помогаем ему и сами в процессе учимся. Я думаю, ты уже успел заметить, что твоя арфа отличается от остальных инструментов.
– Я, по правде, вообще не разбираюсь в музыке, но как выглядит арфа, знаю. А эта штука вообще на нее не похожа. Как же на ней играть-то? – спросил Монг.
– Опять смешишь меня. Ты когда-нибудь слышал про эолову арфу? – спросила девочка.
– Нет, – ответил Монг.
– Эолову арфу придумал Эол, который жил давным-давно. На Земле это непопулярный инструмент, люди не понимают красоты звучания. Не понимают, может быть, потому, что играют не они. Эолова арфа – это единственный в своем роде инструмент, на котором играет ветер. Да, да, ветер. Арфа сконструирована таким образом, что потоки ветра, проходя через струны, заставляют их звучать. И каждый раз по-разному. Сегодня музыка грустная, завтра веселая, а потом арфа плачет навзрыд. У всех эоловых арф четное количество струн, а у твоей нечетное. Кто-то говорит, одна струна куда-то пропала, а другие говорят, что ее вовсе и не было никогда.
– А мне-то что с ней делать, если играет она сама? – изумился Монг.
– Настраивать. Ты теперь настройщик.
– Но я не умею. Ты меня научишь?
Девочка опять залилась таким искренним детским смехом, что Монг подумал, что действительно спросил какую-то глупость.
– Я не научу. Да и никто здесь не научит. Не потому, что не хотим, а потому что это твоя арфа. Понимаешь? – спросила девочка.
– Пока не очень. Как мне ее настраивать? Может, струны подтянуть или подкрутить что-то? – спросил Монг.
– Можешь попробовать. Я по арфам не специалист, не подскажу. Мне бы с виолончелью разобраться. А то видишь, что творится. Невозможно ни играть, ни слушать.
И девочка вернулась к своей огромной виолончели, во все стороны от которой торчали хвосты струн, извиваясь и всем своим видом выражая недовольство таким наплевательским отношением к музыке.
Монг подошел ближе к своей новой подопечной в деревянной раме, чем-то напоминающей садовую беседку. Струны, на удивление, тоже были деревянными. Одинаковые по длине, но разные по толщине. Всего их было девять.
– Настраивать тут нечего. Разве только подпилить где-то или, может, лаком покрыть.
И он стал ходить вокруг арфы, заглядывая внутрь, как будто надеясь найти какой-то рычаг или кнопку. Потом отдалялся, стараясь оценить надежность конструкции. Потом зашел внутрь арфы и остановился. Прислушался: где-то рядом заплакал маленький ребенок. Он плакал тихо, но так жалобно, с детской обидой в голосе, что у Монга чуть не оборвалось сердце. Монг вышел за пределы арфы – тишина.
– Показалось, наверно.
Еще раза два обошел арфу, осматривая и поглаживая каждую струну. Убедившись, что это просто большой деревянный музыкальный инструмент, не хранящий никаких подвохов, никаких секретов, медленно сделал шаг внутрь арфы и замер.
Откуда-то издали сперва тихо, потом все громче снова начал плакать младенец. Крик был истошным, надрывным, проникающим в самое сердце, цепляющимся за него и растекающимся с каждым его ударом по венам, как будто говоря: слушай меня, чувствуй меня, спаси меня.
Монгу стало нехорошо, он буквально выскочил из арфы и стоял недвижимо несколько секунд, хотя ему показалось – вечность.
«Где он? Что с ним?» – думал Монг, судорожно соображая, куда бежать и что нужно делать.
– Нет, нет, я в своем уме. Это просто древняя развалюха, которую никто не удосужился починить, нормально настроить и как следует протереть с нее пыль. – Монг огляделся вокруг в поисках какой-нибудь тряпки или ветоши, но, как и ожидал, ничего не нашел. Тогда он решил снять с себя что-нибудь из одежды, но обнаружил, что на нем лишь кеды, джинсы и его любимая, видавшая виды и уже местами просвечивающая футболка с Куртом. – Вот кто бы сейчас помог настроить. – И в голове его зазвучало: «Come as you are, as you were, as I want you to be…».
Не раздумывая ни секунды, Монг стянул через голову футболку и прямо лицом своего некогда кумира стал водить вверх и вниз по струнам, стирая невидимую пыль с инструмента, надеясь хотя бы этим помочь ему. И тут Монгу вспомнилась его бабушка, которая с виду была божьим одуванчиком, но стоило только появиться какой-либо неприятности, как этот одуванчик превращался в рыцаря с мечом и доспехами. Рыцарь отважно выступал вперед, прикрывая маленького Монга собой и вонзая меч неприятности в самое сердце. Отец у Монга был сильный и смелый, но почему-то именно бабушка в его детском мире была хранителем его спокойствия и хладнокровным борцом с причинами его страхов.
После устранения любой проблемы бабушка любила повторять ненароком, но так, чтобы у мальчика непременно отложилось в голове: «Прежде чем махать мечом, обязательно подумай. Если ты чувствуешь свою силу и готов сделать все, что угодно, – остановись и не делай ничего. Будет только хуже. Бездумная борьба ни к чему хорошему еще не приводила. А вот если ты осознаешь свое бессилие, свою никчемность, свою малость перед бедой, – значит, ты на верном пути, и значит, в твоих силах сделать хоть что-то. И тогда бери меч и сражайся».
Монг никогда толком не понимал, почему сильному нельзя сражаться, а слабому можно. Ведь сильному сила на то и дана, чтобы ей пользоваться. А со слабого что возьмешь?
Вспоминая бабушку, он продолжал протирать струны своей футболкой. Он уже прошелся по каждой струне несколько раз, но чище они не становились.
«Зачем я это делаю?» – подумал Монг и вдруг понял, что он и есть тот самый беспомощный, который не в силах помочь этому загадочному инструменту под именем эолова арфа. Он не в силах заставить ее звучать чисто, так как у этих струн не предусмотрена настройка. Он не может сыграть на ней красивую мелодию, так как на арфе играет ветер. Он не может ни у кого спросить совета, так как никто ничего не знает, а если и знает, то не хочет говорить.
«Вытирать пыль со струн – вот что в моих силах сейчас, – решительно подумал Монг и еще раз протер футболкой все девять струн. – Ладно, пока так. Все-таки надо у кого-нибудь что-нибудь поспрашивать. Не может быть, чтобы вообще никто ничего не знал».
И он пошел по направлению к полной пианистке, которая яростно пыталась успокоить непослушные клавиши.
– Здравствуйте! Я вам не помешаю? Вы не сильно заняты?
– А! Это вы? Нет, нисколько. Я сейчас занята не более, чем обычно, но и не менее. В общем, я занята, как всегда, но мне это никоим образом не мешает общаться с вами.
– Я тут недавно. Мне многое непонятно. Вы могли бы мне рассказать об этом месте?
– А вам разве Гобс не рассказал? Он ведь никого не допускает до работы, пока не даст наставления. Наверно у него теперь другой подход. В последнее время все довольно сильно изменилось. Задачи ставит более сложные, приходится голову поломать, прежде чем поймешь, что да как. Но у нас никто не жалуется. Оно и понятно, ведь каждый хочет усовершенствовать свое мастерство и когда-нибудь перейти на следующий уровень. Вот как ваш предшественник, например.
– Да, мне о нем говорили. Я так понял, что это очень уважаемый человек. А куда он перешел?
– Я же сказала: на следующий уровень.
– Понятно. Расскажите мне, как тут все устроено.
– У каждого из настройщиков свой инструмент, и задача настройщика следить за чистотой звука. При появлении фальшивых звуков или, того хуже, скрипов настраивать. Каждый инструмент отвечает за отдельную задачу. А главная цель – сыграть в настроечном зале мелодию всем оркестром чисто. Мы все стараемся, конечно, но ни у кого инструмент не работает, как нужно. Я так сильно расстраиваюсь каждый раз. Но я верю! Мы все верим, что получится!
– А где расположен настроечный зал? – Мы с тобой как раз в нем находимся.
– А девочка с виолончелью сказала, что это музыкальный зал, – парировал Монг.
– Какой же это музыкальный зал? В музыкальном зале играют на инструментах. А здесь их настраивают. Так вот, мы с вами находимся в настроечном зале. Это одно из основных мест. Самое интересное, что здесь работают только настройщики. Музыкантов нет. Точнее, они, конечно, есть, иначе не было бы музыки. Но они далеко отсюда и играют, прямо скажем, абы как. А инструменты просто улавливают вибрации, которые производят музыканты, и преобразуют их в музыку. Я бы, конечно, музыкой это не назвала. Это больше похоже на скрежет, на вопль, на крики, на скрипы, временами на ультразвук. Но точно не на музыку. А задача настройщика добиться музыки.
– Так как же это сделать? – окончательно перестал понимать Монг.
– Как? Как? С музыкантами работать, – ответила женщина. Слово «музыкантами» она произнесла нарочито протяжно, сильно выдвинув нижнюю губу вперед, так что «а» приобрела оттенок «э», тем самым давая понять свое отношение к ним как к неразумным и трудно поддающимся управлению людям.
Женщина на секунду задумалась и погладила рояль с любовью, как своего ребенка, умиляясь им.
– Инструменты в нашем зале подобраны не случайно. Каждый инструмент отвечает за одну из частей человеческой сущности. Если люди сами в себе не гармоничны, то и инструмент фальшивит. И ничего тут не поделаешь. Сколько лет существует человек, столько и слушают здесь эту трескотню. Нет, нет, я не жалуюсь, я давно привыкла. Да и как можно жаловаться на них. Я же понимаю, что так вот сразу нельзя. Они же… люди. Нет, я не свысока, просто, понимаешь, хочется за них порадоваться. Вот раньше, когда я жила по ту сторону, работала школьной учительницей музыки. Знаешь, сколько через меня детей прошло. Никто ведь не считает урок музыки за предмет. А зря. Ты не представляешь, какая это радость видеть интересующиеся, жаждущие глаза в толпе детей. Потом эти глаза пойдут в музыкальную школу и сами проложат себе дорогу в жизни. А есть и такие, которым нужно просто дать послушать музыку, показать, какая она бывает. Он, может быть, нигде больше и не услышит ничего, кроме современной музыки. Так пусть хотя бы здесь, хоть немного.
– В эти инструменты встроены локаторы огромной мощности, которые улавливают даже малейшие колебания, – подытожила она.
– Я, кажется, понял, – медленно, еще обдумывая, сказал Монг, – а за какую часть человеческой сущности отвечает ваш рояль?
– Вот смотри. Ты кем хотел быть в детстве?
– Я всегда хотел быть авиаконструктором, мечтал изобрести такой самолет, который мог бы летать без участия человека. Тогда такое даже вообразить нельзя было, а я верил, что это возможно, просто люди еще не все изучили, еще не все просчитали. Вот я, когда вырасту, обязательно сконструирую такой беспилотник. Все детство что-то мастерил, придумывал. Жить без этого не мог, – вздохнул Монг и задумался, – но придумали это уже другие.
– А стал кем?
– Экономистом.
– И как? Доволен?
– Поначалу чувствовал себя очень важным, а потом разочаровался. Цифры, цифры, и ничего кроме цифр. Считаешь их и так, и сяк. А зачем – непонятно. Нет, начальству понятно зачем, а мне-то? У меня мало того, что весь дом был в самолетах, так и на работе тоже парочка стояла. Сижу я в своем кабинете и воображаю, что обдумываю изобретение новой модели. А тут входит начальник и спрашивает, где отчет.
– Экономисты не изобретают самолеты, – с едва уловимой ухмылкой пропела женщина под исполняемую роялем мелодию, напоминающую реквием.
– Да, это реквием по моей мечте, – печально закивал головой Монг, – но потом, когда я понял, что в экономике нет никакого смысла, уже поздно было менять профессию, вот и не стал.
– Как это нет смысла в экономике? Просто ты выбрал чужой путь, вот и маешься.
– Но я иначе не мог, у меня есть оправдание. Понимаете, девяностые, в экономике застой, наука в упадке. А профессия экономиста в большом почете, сразу на тебя смотрят, как на уважаемого человека.
– На какого? Ха-ха. И за какие заслуги тебя уважать? Чего ты добился? Какую пользу ты принес стране? А главное себе, – развеселилась женщина. – Вот, таких, как ты, у меня целая клавиатура. – И она пробежала указательным пальцем правой руки по клавишам справа налево, а затем принялась с новым усердием ловить неугомонные клавиши, которые нажимались сами по себе, когда хотели.
– А вы не устаете на своей работе? Я смотрю на вас: то, что вы делаете, совершенно бесполезно. Зачем? Люди не могут найти гармонию в себе. И не смогут никогда. И никогда эти клавиши не сыграют красивую мелодию. Это как борьба с ветром. Вы сами-то понимаете это? – возмутился Монг.
– Твои слова меня удивляют. Гобс сказал нам, что очень сильно на тебя рассчитывает, что с твоим приходом наша работа станет продуктивнее, что ты сможешь помочь нам. Эолова арфа – самый главный инструмент в оркестре. Как только арфа зазвучит чисто, остальные инструменты тоже начнут подстраиваться за ней. А ты говоришь – бесполезно. Да ты знаешь, что если не верить, все станет бесполезным, – женщина сдвинула брови. – Гобс никогда не ошибается, и в тебе он не мог ошибиться.
– Гобс, Гобс. Только о нем и слышу, – заворчал Монг и прижал двумя руками клавиши большой и малой октавы. – Помогу вам немного.
– Ох, дорогой, да не такая помощь от тебя нужна. Иди к своей арфе и работай, а с роялем я как-нибудь сама.
– Понял. Можно, я к вам попозже еще приду? Вы хоть что-то рассказываете. Как вас зовут?
– Габорна.
– Габорна? – удивился Монг.
– Да, раньше меня звали Галина Борисовна, но тут Гобс сказал: слишком длинно, сократи до одного слова. Вот я и сократила. Твое имя я знаю, Монг. Ты ведь тоже его сократил, – сказала Габорна.
– Я? Я ничего не сокращал. Хотя, постойте, постойте. Меня раньше звали по-другому, – Монг начал мучительно вспоминать. Имя крутилось у него в голове, но Монгу никак не удавалось его поймать. – Сейчас-сейчас, Максим… Матвей… Михаил… вспомнил: Монреаль Григорьевич Заболотный.
– Как? – засмеялась Габорна. – Монреаль? Что это за имя?
– Такое имя. Мой дедушка по папиной линии во время войны оказался в Болгарии, и после ее окончания там и остался. В Болгарии он женился на моей бабушке, и вскоре у них родился мой папа. Жили они в столице Болгарии, а когда папа вырос, то приехал поступать в советский ВУЗ. А закончив его, женился на моей маме. Так вот, столица Болгарии называется София. И отец, женившись на моей маме, убеждал ее, что хочет сохранить часть своих корней в дочери, дав ей имя София. Но мама знала истинную причину. Все дело в том, что у папа до мамы была девушка по имени София, отец был в нее безумно влюблен. У них был роман, потом через какое-то время, когда он ей наскучил, она от него ушла, оставив его безутешным с разбитым сердцем.
После разрыва, еще не успев оправиться от неразделенного чувства, папа встретил маму. И зачем-то поначалу много рассказывал ей про эту девушку. Мама пыталась всячески успокоить его и переключить внимание на себя. Когда папа говорил о Софии, мама чувствовала себя запасным вариантом, который случайно попался под руку. Ей, понятное дело, было неприятно слушать все эти истории, но мама его полюбила и решила избрать тактику утешения, сделав из себя жилетку. И мама оказалась права: тактика сработала, уже через три месяца они расписались.
Так вот, отец мечтал о дочке и настаивал на имени София, а мама никак не могла с этим согласиться, несмотря на то, что доводы отца выглядели вполне невинно. Тогда мама стала возражать, что ничего не может быть глупее, чем называть ребенка именем города. Но отец продолжал настаивать на своем. Исчерпав все возможные контраргументы, мама то ли от бессилия, то ли от ярости выпалила, что в таком случае, если родится мальчик, она назовет его тоже именем города.
Эту историю я узнал от мамы. Спорили они в гостиной. А жили тогда в квартире вместе с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Ремонт в квартире сделали один раз, как въехали еще мамины родители, и с тех пор почти ничего не меняли, обои не переклеивали. Если где появлялась непотребная дырка и грязь, завешивали картиной. Раньше у нас жил кот, которого дедушка подобрал где-то на улице. Кот был некастрированный, и когда ему март ударял в голову, бесновался и гадил по всей квартире. А один раз, сидя на столе в гостиной, ни с того ни с сего заорал и прыгнул прямо на стену, содрав своими когтями кусок обоев размером примерно метр на метр. Картины такого большого размера в доме не было. И тогда дед, поразмыслив, достал политическую карту мира и повесил ее на стену, закрыв ею все бесчинства дворового кота.
В тот момент, когда мама, уже не зная, как отговорить отца от пожизненного напоминания о его прежней любви в лице дочери, пообещала назвать мальчика тоже именем города. На вопрос отца, каким именно, мама начала вспоминать названия городов, и, не вспомнив ничего подходящего, не глядя, ткнула пальцем в карту со словами «вот этим». Когда они с папой посмотрели на карту, мамин палец указывал четко на город Монреаль. «Назову его Монреаль» – сказала мама. Это решение сразу ее успокоило, так как она сразу почувствовала себя под мужской защитой воображаемого Монреаля, который обязательно должен ее спасти от переизбытка Софий в ее жизни.
В то время УЗИ во время беременности еще не делали, и люди полагались на многовековые приметы. А приметы эти говорили, что если беременная расцвела и похорошела, то у нее непременно будет мальчик, а если нет – то девочка. Еще пол ребенка предсказывали по форме живота: если живот выдается вперед и имеет слегка заостренную форму, то там растет мальчик, а если ребенок как бы распределился по всей площади живота, то там девочка. У моей мамы все приметы указывали на девочку, и поэтому все мамины подруги, соседки и неравнодушные бабульки на скамеечке у парадной поздравляли ее с растущей помощницей и спешили поделиться девчачьей одеждой, из которой их дети уже выросли.
Именно это безапелляционное уверение в скором появлении девочки позволило папе согласиться с маминым выбором имени. На том они и порешили: девочку назовут Софией, а мальчика Монреалем. К всеобщему изумлению, появился я, и назвали меня Монреаль. Наверно, можно было бы назвать меня другим именем, но мама больше не хотела затрагивать столь болезненную тему имен, а папа был человеком слова, и выбор другого имени означал бы для него неспособность сдержать данное.
– Забавные у тебя родители были, – сказала Габорна. – Ты приходи, если что. Я всегда здесь.
Монг медленно пошел к своему инструменту.
«Самый главный инструмент, – думал он, – нужно узнать, за что он отвечает. Тогда я смогу понять, как его настроить. Какой смысл гадать, нужно идти к начальству: к Гобсу. Он-то мне все и пояснит».
Монг огляделся вокруг в поисках Гобса, но не нашел его: «Наверно, он в своем кабинете».
– Меня ищешь? – раздалось за спиной.
Вздрогнув от неожиданности и повернувшись, Монг увидел перед собой улыбающегося Гобса, глаза которого излучали столько доброты и спокойствия, что Монг невольно расплылся от счастья и тут же забыл, что хотел спросить.
– Ты, наверно, хочешь что-то узнать у меня? – спросил Гобс.
– Да, да, – моментально собрался Монг, – я хотел с вами поговорить, чтобы вы мне объяснили мои задачи.
– С радостью. Спрашивай, что тебя интересует.
– Я пытался разобраться с арфой сегодня. Почистил, отполировал, проверил, как закреплены струны. Но это ситуацию не исправило. Габорна мне объяснила, что смысла в этом нет никакого. Что все инструменты отражают поступки и мысли людей, и инструмент каким-то образом улавливает эти вибрации и преобразует в музыку. Предположим, что это так. Но в чем моя задача? Разве я могу заставить людей быть другими?
– Послушай меня, Монреаль. Я выбрал для этой работы именно тебя, потому что ты достиг уже того уровня знаний, который позволяет тебе взять на себя ответственность за других. Взять над ними шефство, как в школе. Я помню, каким ты был сообразительным учеником, у тебя была целая подшефная «звездочка» из 2-го «б» класса. Мне тогда очень понравилось, с каким рвением ты взялся за дело. С тобой эти второклашки с удвоенной силой потянулись к учебе. А то, что ты проверял у них домашнее задание, так это…
– Вы работали в нашей школе? Что-то я вас не помню. – Монг нахмурил брови, пытаясь выудить из сгустков воспоминаний лицо Гобса.
– И потом, когда у вас на работе хотели всех сократить… – Откуда вы знаете? Вы вообще кто?
– Возвращаясь к твоему вопросу, – как ни в чем не бывало, продолжал Гобс, – помимо того, что здесь вы все работаете, вы еще и учитесь. Поэтому первая часть твоей задачи – понять задачу, а вторая часть – реализовать ее. И первая часть сложнее второй. Это так же, как в школе: чтобы научиться писать, нужно прежде выучить буквы, потом научиться читать, а уже после – писать. Но зато, когда научишься, можно написать любое слово, предложение, книгу. Времени у тебя сколь угодно много, но не советую откладывать в долгий ящик. Мы в ответе за людей. Помнишь, как там у Экзюпери: «Мы в ответе за тех…»
– …кого приручили, – выпалил Монг, – одна из моих любимых книг.
– Неправильно, – с теплой улыбкой ответил Гобс, – Экзюпери сейчас пишет продолжение этой книги, готовы пока только наброски. Автор продолжает развивать тему привязанности, и в окончательном варианте будет звучать «мы в ответе за тех, кого научили».
– Экзюпери же умер, – недоверчиво сказал Монг.
– Конечно, умер. Разве тебя это удивляет? – и продолжил: – У тебя хорошо развита интуиция. В нашей работе она намного важнее разума. Не оценивай арфу как инструмент, прислушайся к ней, она ведь живая, попробуй с ней поговорить. Она сама хочет играть прекрасную волшебную музыку добра, счастья и любви. Она очень сильно устала от скрипов и воплей и почти обессилила. Помоги ей, и она будет тебе безмерно благодарна. – Гобс посмотрел на свои часы без стрелок. – Мне пора. У меня дела. – И исчез так же внезапно, как появился.
В голове Монга стали возникать вопросы один за другим: как он понимает время по своим часам? откуда он знал меня в детстве? как понять то, что нужно понять?
Пожалуй, для первого дня информации было более чем предостаточно. Монгу не хотелось уже ни с кем разговаривать, и он пошел прогуляться и спокойно осмотреться. В музыкальном зале инструментов оказалось не так много, как показалось ему на первый взгляд. Рояль, барабан, виолончель, скрипка и эолова арфа играли музыку. Каждый свою, не очень чисто, но играли.
– В оркестре только эти инструменты? – спросил Монг, подойдя к Габорне.
– Здесь да, – ответила она. – Раньше оркестр был побольше, но затем его сократили, и часть инструментов теперь хранится на складе на четвертом этаже.
– Туда можно попасть?
– Конечно. В Центре ты можешь перемещаться совершенно свободно.
И Монг направился к лифту. Поднявшись на четвертый этаж, он оказался в запыленном помещении, которым, вероятно, не пользовались совсем.
При входе его встретили одиноко стоящие орган, контрабас и флейта. Контрабас стоял, подбоченясь, на подобии упитанного мужчины, которого жена откормила так, как кормят поросят на убой в деревнях. Женщины, выйдя замуж, начинают считать мужа своей полноправной собственностью и, опасаясь, что какая-нибудь более проворная и хитрая девица захочет увести его, соблазнив своей молодостью, беспечностью и новизной, применяют уже проверенную поколениями женщин тактику: откормить до такого состояния, чтобы ходить мог, но не очень далеко, а ровно до границы видимости.
Тетушка Монга была именно из таких женщин. Готовить она научилась еще в детстве, помогая маме, и кулинария захватила ее настолько, что уже годам к двенадцати, когда она освоила рецепты всех супов, вторых блюд и десертов, стала экспериментировать с ингредиентами, в надежде найти новые рецепты, намешать несмешиваемое и изобрести что-нибудь эдакое, за что если и не дают премии, то, во всяком случае, награждают признанием таланта, неповторимого в своем роде. Достигнув двадцатилетнего возраста и считая себя асом кулинарии, она уже давно перестала удивлять своих родителей вкусными обедами и ужинами. Она избаловала их разносолами, и они скорее удивлялись, когда одно и то же блюдо за неделю подавалось дважды. Но у тетушки никуда не пропала потребность в чьем-то признании, и она стала подумывать о том, не выйти ли ей замуж, приобретя таким образом нового, неизбалованного дегустатора в лице мужа.
Она стала искать мужчину, и он нашелся. Нашелся совсем случайно, в очереди на кассу в продовольственном магазине. Тетушка стояла за ним, и его худоба так разжалобила ее, что ей захотелось его обогреть и накормить, как бездомного котенка, забившегося в подвал и робко выглядывающего при появлении прохожих, обращая на себя внимание писклявым и жалобным мяуканием. Мужчина не мяукал, но это не остановило тетушку, и она слово за слово завязала с ним беседу, рассказывая о том, что готовила вчера, позавчера, на прошлой неделе. Мужчина молчал и временами сглатывал слюну так, что его острый от худобы кадык, как поплавок, нырял вниз почти до самой ямочки и возвращался обратно. Этой картины тетушка выдержать не смогла, и вечером она уже кормила его наваристым борщом с куриными котлетами.
Вскоре они сыграли свадьбу, на радость гостям, такую же разносольную. С каждым днем Анатолий увеличивался в талии, потом и в бедрах, а через полгода уже не влезал ни в одну из своих одежд. Оценив перспективы, тетушка подарила ему штаны на резинке и пару новых рубашек. Штаны, хоть и были на резинке, не были спортивными и выглядели вполне презентабельно. Настолько, что он ходил в них на работу в свой НИИ и не вызывал неодобрительных взглядов коллег. С тех пор и до конца своих дней он стал выглядеть в точности как этот контрабас.
По правую сторону от контрабаса лежала флейта. Лежала небрежно, накрытая с одной стороны холщовой тканью. Глядя на нее, создавалось впечатление, что на ней немного поиграли и, потеряв интерес, бросили, как ребенок бросает игрушку, увидев новую.
Мимо органа Монг прошел несколько раз, спутав его с цветочной клумбой. Вокруг него росли ирисы и садовые ромашки. Росли так густо, перемежаясь с травой, что заметить в них музыкальный инструмент можно было не сразу. Судя по высоте растительности, орган забросили давным-давно.
«Как странно, что трава растет прямо из деревянного пола», – подумал Монг.
Побродив, он вернулся в настроечный зал и стол ходить, прислушиваясь к звукам инструментов, и пытаться узнать мелодию. Несколько раз ему казалось, что он точно где-то слышал эту музыку, и название композиции вертелось на кончике языка. Но внезапные незнакомые фрагменты разбивали его уверенность в пух и прах.
Настройщики по-прежнему сидели каждый за своим инструментом и работали с неустанным упорством.
– Нужно отдохнуть, – решил Монг, – хочется выйти на улицу, – он стал оглядываться по сторонам.
– Вы что-то ищете? – спросил барабанщик, не прекращая укрощать барабанные палочки.
– Ищу. Выход ищу. Он на первом этаже?
– Не знаю, – ответил парень, – я, признаться, давно забыл, где выход. Когда чем-то не пользуешься, то сразу забываешь. А зачем он вам?
– Я устал, хочу отдохнуть, прогуляться. Я помню, что был в кабинете Гобса, потом мы вместе с ним шли сюда по длинному белому коридору, похожему на санную трассу, потом спустились на третий этаж. Но откуда я пришел в кабинет Гобса, не помню.
Откуда-то должен был прийти. Значит, здесь должен быть выход наружу. Где я был до этого?.. Не помню, как странно… Голова кружится… Что вы там говорили? Где здесь дверь?
– Для нас ее больше нет. Забудьте, – ответил парень и отвернулся от Монга, потеряв интерес к разговору.
– Как нет? Для кого для нас? – взволновался Монг.
– Для тех, кто переехал, – улыбнулся парень и продолжил барабанить.
– И вы переехали?
– И я переехал. Мы все переехали, – заверил парень, замедляя темп речи и кивая головой, как делает психиатр, успокаивая безнадежного пациента и убеждая его в безуспешности всяческих попыток к бегству, – наш дом теперь здесь. Мы все переехали. Все. Вы поняли?
«Просыпайся, – кто-то тронул Монга за плечо, – просыпайся, все проспишь». – Монг почувствовал, что его толкают, но толкают так легонько, как делает ребенок, когда, проснувшись рано, приходит будить родителей, – что даже не сразу почувствовал прикосновение.
– Ну, вставай же, соня! – Монг с трудом разлепил веки и увидел знакомое детское личико с огромными голубыми глазами. – Мы все так волновались за тебя, ты упал в обморок, тебя отнесли сюда, в твою комнату. И меня попросили присмотреть за тобой. Ты так долго спал. Что с тобой случилось?
– Я упал в обморок? Со мной такого раньше не приключалось. Помню, разговаривал с барабанщиком, а потом пустота. – Монг вспомнил, о чем ему говорил барабанщик, сморщил лоб и ощупал голову, проверяя, на месте ли она. Голова оказалась на месте, и ей явно не давала покоя мысль о загадочном переезде.
– Послушай, девочка. Этот парень с барабаном объяснил мне, что мы все сюда переехали. Только я никак не могу вспомнить, откуда. И этот обморок.
– А, я, кажется, поняла, в чем дело. Ты появился здесь очень неожиданно. Гобс тебя так расхваливал, говорил, что ты такой способный, все схватываешь на лету, и что тебе даже не нужно в ЦКП. Что твой мозг способен обрабатывать и воспроизводить одну и ту же информацию в разных измерениях. И что ты справишься с перенастройкой сам. Неужели Гобс ошибся, и у тебя не получилось перенастроиться? Гобс никогда не ошибается.
– Что еще за ЦКП? – спросил Монг.
– ЦКП – это Центр Коррекции Прошлого. Он находится на шестом этаже. Когда человек умирает, ему обязательно нужно откорректировать прошлые воспоминания. Правильнее даже сказать, не откорректировать, а взглянуть на них с другого ракурса, из этого измерения, если так будет понятнее.
– То есть я умер?
– Умер, переехал. Какая разница? – ответила девочка. – Не перебивай, я же тебе все объясняю. В общем, когда я корректировалась, мне ужасно хотелось вернуться туда, где я была до переезда, и все изменить. Кстати, в ЦКП такая возможность есть, но говорят, что это очень опасно. Я пугливая до жути, поэтому не стала экспериментировать на себе и прошла коррекцию до конца. Говорят, раньше здесь была одна женщина, это было еще до меня, которая не прошла до конца коррекцию и пропала. Ой, что было.
– А что было? – спросил Монг.
– Искали ее долго, не нашли. И там тоже не нашли. – Девочка махнула рукой в сторону.
– Где там?
– Там, куда она хотела вернуться. Болтливая она была, всем рассказывала про своих детей. Какие они расчудесные, и все-то они умеют, и не нарадуется она на них до смерти, и как же они без нее справятся, пропадут, ей-богу. Всем уши прожужжала, мол, простите-извините, как-нибудь в другой раз, а сейчас ей нужно к деткам. А деткам-то на тот момент было лет сорок, наверно. Ее убеждали, что ничего с ее детками не случится, они взрослые, самостоятельные, и лишняя забота им только вредит. А она как не слышит. Говорили ей, вам уже пора собой заняться, а она только рукой махала. Не знаю, может, вернется еще. – Девочка всплеснула руками. – Вот поэтому коррекцию надо доводить до конца, а ты ее, выходит, вообще не проходил. Поэтому ничего и не помнишь да в обмороки падаешь. Поговорил бы ты с Гобсом.
– Угу, – ответил Монг, вставая с кровати. Это была деревянная односпальная кровать с изголовьем такой же высоты, как и изножье. Рядом стояли тумбочка в цвет кровати и двустворчатый шкаф, как и можно было ожидать, тоже в цвет кровати. Письменный стол был из того же гарнитура, что и остальная мебель. На столе стояла одинокая лампа, на потолке освещение не было предусмотрено.
Монг сразу вспомнил, как первый раз отдыхал на море, и в его гостиничном номере тоже не было потолочного освещения. Его поначалу это удивило, но потом он сообразил, что так владельцы гостиницы экономят на освещении. Людям свойственна генетическая боязнь темноты, как память времен каменного века, и они всюду включают свет, нужно это или нет, и не задумываются о напрасной трате электроэнергии и о том, что ресурсы Земли не бесконечны.
Монг вспомнил, как ежегодно проводился «Час Земли», направленный на борьбу с лишними тратами энергии. Он, неплохо разбирающийся в физике, никак не мог взять в толк, в чем же польза этого мероприятия. Ведь чем больше людей одновременно выключат свет, тем больше людей одновременно его включат, создав тем самым пиковую нагрузку на подстанции и возможность аварии. Участие в этом Часе приносит скорее удовлетворение чувства выполненного долга перед природой для людей, стремящихся везде, где только можно, написать свое имя, но никак не пользу для планеты. «Здесь был Вася», «Вася один час не включал лампочку», «Вася девятого мая сказал спасибо ветеранам», «Вася восьмого марта уступил место женщине в метро». А в остальное время Вася материт стариков, использует женщин и не выключает за собой свет. «Но ведь тогда я поступил хорошо!»
– Хорошо, Василий, хорошо. Вот бы почаще так.
В комнате Монга тоже экономили на электроэнергии, но Монгу комната не казалась темной. Одна лампочка давала столько света, сколько было необходимо. Не больше и не меньше. И кровать была по размеру, не больше и не меньше его роста. В этой комнате были только необходимые и достаточные вещи.
Тут Монгу почему-то вспомнилась его преподавательница по высшей математике, маленькая, энергичная женщина, угловатая и жесткая по манерам, свято верящая в силу науки. Она носила всегда один и тот же коричневый костюм, то ли за неимением другого, то ли потому, что он точь-в-точь походил на школьное платье для девочек, символизируя собой преемственность всех учебных заведений. Казалось, она о математике знает то, чего не знают другие. И это что-то очень важное и жизненно необходимое. Казалось, что она знает какую-то секретную формулу, с помощью которой энергию человека можно возвести по меньшей мере в десятую степень.
Глядя на то, с какой скоростью и энергетикой она преподносит материал студентам, Монг был в этом уверен на сто процентов. Преподаватель жаждала поделиться секретной математической информацией, известной лишь избранным, но понимала, что может это сделать только после того, как прочтет обязательный курс лекций. Она понимала, что не успевает и этого, и потому торопилась, проглатывая окончания слов и не дописывая хвостики цифр.
Монг, как и большинство студентов, не успевал не то что понять теоремы, но даже записать их решение. Говорила она почти всегда спиной, потому как беспрестанно исписывала доску километрами формул. Задача-минимум для студентов была: успеть переписать с доски то, что она написала, в тетрадь, пока она не стерла формулы, чтобы написать поверх новые.
Почти в каждой теореме было условие, озвучивая которое, женщина-преподаватель поворачивалась, успевая за секунду встретиться взглядом с каждым, делала загадочное лицо, немного замедляла темп речи и говорила: «Необходимыми достаточным условием является то-то и то-то». – Эта фраза звучала завораживающе.
В комнате Монга, как в условии теоремы, все было необходимым и достаточным для жизни. Было все, но лишнего не было.
– Ты сказала, это моя комната? – с надеждой на подтверждение своих слов спросил Монг.
– Ну да, а моя соседняя, – ответила девочка. – Все настройщики живут на втором этаже. Тебе у нас понравится. У нас есть все удобства: на первом этаже – столовая, на втором, где мы сейчас, – комнаты настройщиков, на третьем – настроечный зал, на четвертом – склад, но там нет ничего интересного, кроме сломанных и давно заброшенных инструментов, на пятом – зона отдыха и библиотека, на шестом – ЦКП, на седьмом – ЦНБ, на восьмом – кабинет Гобса. Он по большей части все время проводит там. Наверно, там, точно не знаю. Пойдем, все покажу. Сейчас как раз время завтрака.
Монг еще раз ощупал голову и, лишь убедившись в ее целостности, с усилием медленно поднялся с кровати. Голова была еще тяжелая, но мысли потихоньку укладывались на свои места, восстанавливая картину реальности, и начинали работать в привычном режиме.
Они вышли из комнаты и пошли по длинному узкому коридору, такому узкому, что двум взрослым людям было бы затруднительно разойтись. По левую сторону коридора одна дверь сменяла другую и ничем не отличалась от предыдущей. За дверьми располагались комнаты настройщиков, вероятно, с такой же мебелью, как в комнате Монга. А правая сторона коридора была выполнена сплошь из стекла, за которым открывался великолепный вид на океан.
У Монга от неожиданности закружилась голова, как это бывает на высоте башни обозрения.
«Что-то у меня слишком часто стала кружиться голова», – подумал Монг.
– Не бойся, это стекло очень прочное, его ничем не разбить. Так что никуда ты не упадешь, трусишка. Смотри, какая красота. Любуйся сейчас, потом привыкнешь и перестанешь замечать красоту воды.
– Как же красиво, – изумился он, – что это за место?
– Мы находимся в здании, которое встроено в скалу. Мне нравиться называть это место домом. Хотя взрослые называют его Центром. Здесь моя комната, я здесь сплю, ем, отдыхаю. Ведь такое место обычно называют домом?
– Да, да, конечно, – пробормотал Монг, не отрывая взгляд от океана.
– Ты знаешь, – продолжала она, – мы с родителями раньше жили в небольшом городке, наш дом располагался на берегу моря. Каждое утро, просыпаясь, я знала, что как только выбегу на крыльцо, меня встретит оно, такое огромное и всегда живое. Мне даже казалось, что море со мной разговаривает. Вот, например, если я не могла что-то решить для себя, найти ответ на какой-то вопрос, то я спрашивала у него, правильно ли я поступаю, верное ли решение я приняла. И если верное, то вода накатывала на берег и затем отступала обратно, как будто кивая головой: да, правильно. А если я была не права, то волны должны были двигаться из стороны в сторону, как будто качая головой: нет, неправильно. Признаться, я никогда не видела, чтобы волны ходили из стороны в сторону. Море всегда мне кивало: да.
– Конечно, глупенькая. Так и есть. Волны всегда набегают на берег, иного и быть не может.
– Ну, зачем ты это сказал? – задумавшись на секунду, сказала девочка. – Я-то думала… – и она затопала ножками, рассердившись на свою недогадливость, а может, на прямоту Монга.
– Не сердись, я больше так не буду. – Монг обнял ее за плечи, и они пошли дальше по коридору. Монг передвигался, так и не развернув голову вперед, продолжая любоваться бесконечностью водного полотна, ловящего лучи солнца и возвращающего их обратно отблесками.
– А кто еще живет в этом доме?
– Все мы, все настройщики, которых ты видел вчера, – ответила девочка.
– Ты прости, я ведь так и не спросил, как тебя зовут.
– Меня здесь все называют Девочка, – ответила она, – и, пожалуй, прощаю, – добавила, улыбнувшись.
– А может, все-таки выберем тебе имя?
– Нет, никогда. Понял? – Она впилась в Монга сузившимися вмиг зрачками и пригвоздила его к стеклянной стенке так, что ему стало чуть-чуть не по себе от отсутствия почвы за спиной. – Понял?
– Да понял я, – ответил Монг, так и не поняв, чем он уже во второй раз разозлил это милое существо.
– Нужно поторопиться, опоздаем на завтрак, – бросила через плечо Девочка. Монгу и впрямь пришлось поторопиться, чтобы догнать ее, потому что она припустила так, что Монг почувствовал себя самым отстающим участником марафона.
Они прошли по стеклянному коридору, затем повернули налево, спустились на лифте на один этаж и оказались в большом светлом холле, напоминающем скорее фойе, чем столовую. Столовая тоже одной стороной выходила на океан. Одна стена была полностью стеклянная, как и коридор второго этажа. В силу того, что столовая располагалась ниже, океан казался еще ближе.
– Мы чуть не опоздали. Ты голоден?
– Да, я бы с удовольствием съел яичницу и выпил кофе, – ответил, сглатывая слюну, Монг. Он уже и не помнил, когда последний раз ел.
– Нет, здесь такое не готовят. – Девочка повела его к стойке, где стоял мужчина в поварском колпаке. – Так, посмотрим, какое меню на сегодня. О! Сегодня на завтрак нектар с росой, на обед моллюски с молочной пенкой, на полдник конфета, а на ужин мясо молодого ягненка с овощным рагу.
– И это все? – расстроился Монг. – Здесь только ужином и можно наесться, а все остальное похоже на меню для пчел и рыб, – я умру с голоду.
– Ты ошибаешься, Монг, – ответила Девочка, – как раз ужин здесь самый легкий, ведь перед сном не стоит много есть, а то потом сложно выспаться. Нам, пожалуйста, два завтрака, – сказала она мужчине в поварском колпаке.
В руках Монга оказались два бокала: один с бело-желтым содержимым, похожим на желе, а другой с прозрачной жидкостью, похожей на обычную воду. Монг немного растерялся, как обычно теряется человек в ресторане, когда ему подают незнакомое блюдо.
А Девочка в это время уже уплетала желтый нектар десертной ложечкой, причмокивая и время от времени закатывая глаза.
– Ну, попробуй же, это вкусно, – сказала она и протянула Монгу ложечку.
Монг, несмотря на напоминающий о себе урчанием в желудке голод, нерешительно зачерпнул краешком ложечки нектар, как будто опасаясь какого-то подвоха, но распробовав, смолотил все за пару секунд.
– Я никогда не ел такого божественного кушанья, даже не могу описать, на что это похоже. Это какая-то сладкая субстанция, которая впитывается в язык, десны, нёбо, оставляя после себе долгое послевкусие. Это напоминает… напоминает…
– Нектар? – удивленно и с ехидным прищуром в глазах спросила Девочка.
– Да, очень похоже на нектар, – причмокивая, ответил Монг.
– Ха, так это он и есть. Только в следующий раз ешь, не торопясь, иначе нектар не успевает насытить тебя необходимой энергией.
– И я, похоже, наелся. Никогда не наедался такой птичьей дозой.
– Я думаю, ты еще не наелся. Вот когда выпьешь…
Монг уже пил росу, и по лицу его было видно, что он сам крайне удивлен, почему раньше ему не посчастливилось испить этот напиток богов.
– Мне кажется, я готов сдвинуть горы, – допив, напряг все мускулы тела Монг.
– Горы и без тебя сдвинут. Голова прошла?
– Да, мой ум ясен, как никогда. Я готов. Я ко всему готов.
– Тогда пошли, – они вышли из столовой и оказались перед лифтом. – Нам наверх, настроечный зал на третьем.
Почти мгновенно подошел лифт. Обычный лифт, ничего особенного, восемь кнопок с номерами этажей и еще одна в самом низу без номера.
– А эта для чего? – спросил Монг, почти дотронувшись указательным пальцем до безымянной кнопки.
Девочка тут же отдернула его палец и сердито сказала, как маленькому: не трогай, на эту кнопку нажимать нельзя.
– А что там?
– А кто его знает. Говорят, планировался еще один этаж, но в последнюю минуту передумали. Наверно, там ничего нет, но на всякий случай лучше не нажимать.
– А то что? – не унимался Монг.
– Слушай, хочешь – нажми. Но меня в это не втягивай. Говорят, что этаж этот не достроен и все там не доделано, а потому и непредсказуемо. А вообще я ничего про это не знаю.
– А если я поеду туда? – напирал Монг.
Девочка сделалась серьезной и спокойно равнодушной:
– Вот ты какой, оказывается. Говорят тебе, нельзя, а ты свое гнешь. Иди. Я свою задачу выполнила, все тебе рассказала. За последствия не отвечаю. У меня, знаешь ли, свои планы. Если все получится, может быть, повысят на следующий уровень. Так что мне спасать таких безбашенных, как ты, некогда. – И замолчала.
Лифт остановился на третьем этаже. Они вышли из лифта и оказались в настроечном зале. Девочка поспешила к своей виолончели, даже не обернувшись на Монга, словно они не были знакомы.
– Обиделась, наверно, – подумал он и нехотя пошел к арфе. Все настройщики были на своих местах, и по лицу каждого было видно, что они занимаются привычным для себя делом и не испытывают ни малейшей неуверенности или сомнения в своих действиях. А Монг сомневался, а точнее сказать, не знал совсем, как работать с арфой. Так обычно бывает, когда человек устроился на новую работу и в первый день ему все кажется непонятным и непривычным.
– Дорогая арфа, все говорят, с тобой нужно разговаривать, – погладил он арфу, – не сердись на меня, я пока не знаю, как тебе помочь, но очень хочу. Если бы ты мне могла подсказать хотя бы намеком, у нас бы вместе обязательно что-нибудь получилось. Не знаю, понимаешь ты меня или нет.
Арфа молчала. Монг, не добившись никакой реакции инструмента на свои слова, начал вспоминать хоть какие-то фразы на других известных ему языках. Но снова не добился желаемого.
Из интернациональных языков, Монг владел еще азбукой Морзе, которую выучил летом на даче вместе с соседским мальчишкой, чтобы было интереснее играть в разведчиков. Но эти знания здесь помочь не могли. Отчаявшись, Монг попробовал разговаривать жестами, чем насмешил скрипачку, давно наблюдающую за тем, как он выразительно размахивает руками, показывая то на себя, то на арфу, вытягивает руки вперед, разворачивает ладони кверху, вопрошающе поднимает брови и подается верхней частью туловища вперед. Со стороны это выглядело как разговор сумасшедшего с невидимым собеседником.
– Простите, что я вмешиваюсь, но что вы делаете? – спросила девушка, отложив скрипку.
Монг обернулся на голос и сразу почувствовал себя застигнутым врасплох. Девушка смотрела на него непонимающе, как на чудака, но по-доброму.
– Я… – замялся Монг, – я пытаюсь разобраться с арфой. Девочка сказала, с ней нужно разговаривать, я попробовал на всех языках и жестами, но ничего не выходит.
– Ах, вот оно что, – девушка улыбнулась. – Она милая девочка, очень добрая и очень хочет вам помочь. Она хоть и маленькая, но по внутреннему развитию опережает многих из нас. Уверена, что ее слова не нужно воспринимать буквально. Не думаете же вы, что арфа будет с вами разговаривать?
– Наверно, вы правы, – ответил Монг, – должно быть, со стороны я выглядел, как полный придурок. Просто здесь все так необычно, инструменты сами играют… И я решил, что, может, они живые.
– Нет, все гораздо проще. Попробуй прислушаться к своему инструменту, почувствуй его, сроднись с ним. И тогда, может, услышишь, что он тебе говорит. Меня, кстати, Миа зовут.
– Миа – это тоже сокращение от имени? Можно, я попробую угадать? Марина?
– Нет.
– Мария?
– Ладно, перестань. Все равно не угадаешь. Раньше меня звали Маргарита Игоревна Антипова. Гобс поначалу предлагал разные варианты, более длинные, но мне они не понравились, а Миа мне самой пришло в голову. Я вспомнила, что именно так подписывала раньше письма. Всегда сокращала до инициалов. Мне казалось, в этом есть какая-то уверенность и скромность одновременно.
– Я бы не догадался, – ответил Монг.
– Вот видишь, не нужно усложнять то, что и так сложно.
И с арфой твоей нужно попроще, – сказала она. – Ты знаешь, когда я была маленькой, я очень любила дождь. Никто не любил, а я любила. Нравился он мне потому, что после дождя всегда лужи. А прыгать через лужи – самое большое удовольствие. Когда дождя долго не было, можно было прыгать через что-то другое: через ямки, кочки, да что угодно. Но в этом не было никакого смысла. У ямы дно всегда видно, и ты понимаешь, что она неглубокая. Упади ты в яму, выбраться из нее труда не составит. Летом мы жили в деревне, где вода, попадая в лужу, смешивается с песком, землей и дорожной грязью и становится мутной и непрозрачной. Сквозь такую воду дна не разглядеть. Вот я и представляла, что в этой луже живет чудовище, которое меня обязательно съест, если я не перепрыгну ее.
Ноги у меня длинные, и с маленькими лужами я справлялась легко. Но стоило мне оказаться перед лужей побольше, меня начинали одолевать сомнения, смогу ли я ее перепрыгнуть. И как только эти сомнения меня побеждали, ноги у меня становились как будто ватные и, стоило мне оттолкнуться от земли, подкашивались. Гравитация меня притягивала с двойной силой. И в результате, я приземлялась прямо в воду, не долетев каких-нибудь десять сантиметров до суши. Причем дело было не в ширине лужи. Дело было в моем сомнении, что я могу это сделать. Как только я переставала сомневаться, у меня все получалось. А сомнение возникало только перед новой лужей.
Мне кажется, что и у тебя сейчас сомнения берут верх над тобой. Для тебя эта арфа как новая большая лужа. Ты не знаешь, с какой стороны к ней подойти, чтобы перепрыгнуть. Ты не знаешь, хватит ли у тебя сил это сделать. Я когда не знала, как перепрыгнуть лужу, ходила вокруг нее и представляла свой прыжок. С разных сторон этот прыжок мог бы привести к разным результатам. И я выбирала наиболее короткий. Вот и ты походи вокруг арфы, понаблюдай, может быть, ты увидишь ту самую короткую траекторию прыжка.
– Мне кажется, что перед любым человеком время от времени возникают такие лужи, – ответил Монг. – Идешь по грязной дороге с мелкими лужами, подходишь к огромной, и видишь, что за ней чистая дорога с цветочками по краям, деревьями и прекрасными бабочками. И если я один на пути, я понимаю, что никто мне не сможет помочь, у меня нет другого выбора, как прыгать туда к бабочкам. Я не сомневаюсь в своем выборе, так как он единственно возможный. А раз так, то я не смогу промахнуться.
Но если рядом найдется кто-то, кто засомневается во мне и обязательно скажет, что у меня не получится и безопаснее было бы обойти эту лужу, а лучше вообще пойти другой дорогой, то всё, пиши пропало. В меня посадили зерно сомнения. Сложно не слушать другого, особенно если это твой близкий человек. Он говорит тебе: давай останемся здесь, здесь спокойнее, хоть и есть лужи, но я тебе помогу, если что. Зачем тебе туда, зачем тебе эти бабочки, ты ведь и сам не хочешь, я знаю. У нас тут и так неплохо. Роз нет, но зато полно ромашек. Соловьи не поют, но зато ворон сколько угодно. Что бы ты делал без меня, я ведь тебе желаю только добра. Здесь мы вместе справимся как-нибудь.
И семя сомнения прорастает в огромный куст, если его регулярно поливают к тому же. Именно поэтому я давно перестал советоваться с кем-либо перед прыжком через очередную лужу. Вот перепрыгну, тогда скажу. И с тобой бы не стал советоваться, хотя ты отличаешься от остальных.
– Ты, наверно, просто привык уже доказывать другим, что у тебя все должно получиться. И даже если рядом никого нет, ты на автомате доказываешь сам себе, что сможешь. В этом и ошибка. Доказывая себе, ты допускаешь возможность провала. Не нужно доказывать даже себе. Ты же сам сказал: вот перепрыгну, тогда скажу. Просто бери и прыгай. Просто иди и настраивай арфу. Не думай как, просто делай. Решение сложных вопросов обычно оказывается намного проще, чем предполагаешь, – сказала Миа.
– Но ты тоже пока не настроила свою скрипку, – поднял брови Монг.
– Нет, но здесь ключевое слово «пока». Нет ничего невозможного. Все упирается в силу желания и время. Времени у меня целая вечность. И у тебя, кстати, тоже.
– Целую вечность я здесь торчать не собираюсь, – ухмыльнулся Монг. – Меня Монг зовут, кстати.
– Да знаю я, – улыбнувшись, ответила Миа, – если ты не против, сегодня могу составить тебе компанию на обеде.
– С удовольствием, – Монг тоже улыбнулся, как оказалось, впервые за сегодняшний день, – я буду здесь рядом. – Он как будто побоялся, что она его потеряет.
Миа кивнула ему и принялась вслушиваться в звуки скрипки, такой непредсказуемой и своенравной. Монг опять остался один.
Он часто оставался один еще в детстве, да и во взрослой жизни тоже, перед неразрешимыми вопросами. В детстве, когда бабушка уже умерла, его проблемы никто не воспринимал всерьез: какие могут быть проблемы у ребенка. И никто не мог ответить ему на вопросы: в чем разница между «в земле» и «под землей», инопланетяне называют нас тоже инопланетянами или как-то по-другому, и почему море и небо голубого цвета, когда на самом деле вода и воздух прозрачные. Взрослые отшучивались и говорили, что меня интересует какая-то ерунда. Но разве это ерунда? Они просто не знали ответа.
Во взрослом возрасте сфера интересов Монга сместилась, и его стали интересовать другие вопросы: где кончается бесконечность? она ведь где-то должна заканчиваться, где находится наша Вселенная? очевидно, что в каком-то пространстве, а оно где? если Вселенная все время растет, как говорят ученые, значит, раньше она была меньше, значит, ее границы были ближе к центру, значит, они где-то были, что тогда за этими границами?
И Монг искал ответы сам. Находил не всегда, но искал. Иногда ему встречались люди, такие же ищущие, с таким же открытым всему новому сознанием. Но их было крайне мало, не все из них надолго задерживались в его жизни. По большей части он был один. Вокруг были семья, друзья, но чувство одиночества, непринадлежности именно к этому миру не покидало его на протяжении всей его жизни. Ему всегда казалось, что его дом где-то в другом месте. Когда-нибудь он туда обязательно попадет, а пока придется пожить здесь.
А как жить, если ты совсем один, если тебе не с кем поговорить о том, что тебе интересно, а другим – неинтересно? А разговаривать о том, что интересно другим, а тебе нет, неинтересно вдвойне, пресно, скучно. Такое чувство, что из тебя вытягивают сознание и заполняют пустоты тягучей липкой массой, которую потом сложно выковырять.
Грусть – то чувство, которое часто испытывал Монг. Грусть от банальности мира, от нежелания людей бороться с этой банальностью. Лучший друг Монга, – если, конечно, можно назвать лучшим единственного, он ведь заведомо становится таковым, – как-то предложил ему отправиться на весельной лодке в другую страну практически без денег. Целью такого путешествия было посмотреть, смогут они выжить и насладиться красотами других мест или нет. По расчетам мероприятие должно было занять один месяц. Все неотложные расходы были посчитаны, маршрут построен, отпуск на работе согласован. Но за неделю до предполагаемого путешествия Монг засомневался в его безопасности, действительной необходимости и сомнительности игры, которая явно не стоила свеч.
– А вдруг нас убьют, ограбят, посадят в тюрьму? Или мы умрем с голоду? Или утонем не доплыв? – спрашивал он у друга, грызя ногти. Так он делал всегда, когда боялся.
– Ну, у других же получилось, – убеждал друг, – почему у нас не получится? Мы можем не плыть, но через год ты об этом будешь жалеть. А когда тебя дети или внуки будут спрашивать о твоих приключениях молодости, тебе нечего будет им рассказать.
– У нас не получиться, – напирал Монг.
– Откуда ты знаешь? – не сдавался друг. – Чтобы узнать, нужно попробовать.
Друг, как мог, пытался переубедить Монга, приводя все возможные и невозможные аргументы, но корень застарелых убеждений, в который уже успело прорасти зерно сомнения, выдернуть из земли не удалось. В итоге они никуда не поплыли.
Потом друзья больше не возвращались к этой теме, хотя Монг иногда ловил во взгляде своего товарища не то укор, не то ту саму грусть от банальности мира и нежелания людей бороться с этой самой банальностью. Похоже, что и сам Монг был теперь причислен к числу таких людей.
«Надо было все-таки поплыть тогда, – подумал про себя Монг, вспомнив моменты своего давнего сомнения. – У нас бы все получилось. Получилось бы. – Монг стал бесцельно ходить вокруг арфы. – А не это ли сомнение мешает мне понять, как устроен инструмент, и настроить его? Что мне мешало тогда отправиться в путешествие? Страх. Страх, что мы утонем или умрем с голоду. Но сейчас я и так мертвый. Значит мне нечего бояться. Страх – это всего лишь помеха, которая встает на защиту того старого, что так боится потерять. Страх может быть только от неизвестности. Если исход известен, то боятся уже глупо и неразумно. Исход можно или принять, или бороться с ним, но не бояться. Сомнения возникают от неизвестности, неизвестность – от незнания. Но всем великим открытиям предшествовало незнание, а сделаны они были путем наблюдения за объектами. Нужно просто наблюдать и ждать».
Монг не торопился к арфе, а стал прислушиваться ко всему оркестру. Надо сказать, что звуки были по большей части отвратительные, как будто мычит стадо разновидных животных. Но иногда проскальзывали чистые звуки, как будто происходила кратковременная настройка и снова рассыпалась. Это было похоже на настройку каналов телевизора. Телевизор начинает искать каналы, двигаясь по частотам снизу вверх. На экране в это время серая рябь и шипение. Как только антенна улавливает частоту канала, на секунду на экране появляется четкое изображение и четкий звук. Зафиксировав эту частоту, тюнер передвигается дальше по шкале, и на экране снова появляется рябь и шипение. Примерно то же было и в настроечном зале. Только телевизор по завершении настройки начинал показывать все каналы четко, здесь же такого не происходило.
«Получается, что инструменты улавливают чистые ноты, но зафиксировать их не могут. В чем причина? – размышлял Монг. – Если они их улавливают, значит, музыканты, то есть люди, в это время играют музыку чисто, как объясняла Габорна. Значит, люди могут играть чисто. Могут, но не всегда. Почему не всегда? Не умеют? Не хотят?»
Он зашел внутрь арфы, закрыл глаза и застыл в неустанной надежде услышать хоть что-нибудь. Откуда-то издали, еле слышно нарастал звук, похожий на дребезжание каких-то металлических предметов. Когда дребезжание стало слишком громким, чтобы слушать его спокойно, Монг открыл глаза и увидел, что это дребезжит самая тонкая струна арфы. Струна была из дерева, как и все струны эоловой арфы, но звенела и дребезжала, как будто была металлической и на нее были нанизаны мелкие металлические предметы.
Монг схватил струну рукой, и на секунду дребезжание прекратилось, словно она не ожидала силового воздействия, но потом с новой силой возобновилось. Монг схватил струну обеими руками, она сопротивлялась, желая вырваться из плена его рук.
– Не нужно думать как, нужно просто настраивать, – Монг повторял про себя слова Мии, нарезая круги то в одну, то в другую сторону.
Монг совсем потерял счет времени, хотя прошло уже часа два, а может, и больше.
– Монг, – окликнула его Миа, – ты пропустил обед.
Она смотрела на него с удивлением, немного растерянно.
– Ах да, прости. Я думал, что успею, – замялся он, – хотя, по правде, я вообще забыл. Извини. Я занимался арфой.
– Можешь не объяснять, – опустила глаза Миа, – сегодня обед был не очень вкусный. Ты ничего не потерял.
Она взяла свою скрипку и принялась подкручивать колки.
Монгу стало неудобно, что обещание совсем вылетело у него из головы.
– Если прекрасная скрипачка не возражает, неудачный арфист хотел бы пригласить ее сегодня вечером к океану. Сегодня обещают небывалые волны.
– Кто обещает? Какие волны? – Миа рассмеялась. – Ну, раз волны, не могу такое пропустить. – И засмеялась еще больше.
Монг почувствовал себя прощенным. Выдохнув, так как все это время стоял, задержав дыхание, он подошел к арфе. Нет, ничего не изменилось. Звучала она так же неприятно.
Вечером на ужине Монг не решился подойти к Мие. Он подумал, что будет немного нетактично подходить к обиженной им девушке. Миа ужинала одна и пару раз посмотрела на него в ожидании того, что он подойдет. Но Монг остался верен своему убеждению.
Одна стена столовой выходила на океан. Он был спокоен, как и всегда, и ничто не предвещало волн, которые сулил Монг.
Как только Миа закончила есть, Монг буквально подлетел к ней:
– Наша договоренность в силе?
– Тебе никто не говорил, что ты странный? – спросила она. – Тебе никто не запрещал поужинать со мной. Ну конечно, если только ты не предпочитаешь одиночество в этом вопросе. Ладно, пойдем, покажешь мне свои волны.
Они вышли из столовой, поднялись на второй этаж и пошли по стеклянному коридору, выходящему одной стороной на океан. Миа молчала, ей было интересно, куда же он поведет ее дальше. Пройдя половину коридора, Монг остановился.
– А здесь есть где-нибудь выход на океан? – спросил он.
– Я так и думала, что ты сам не знаешь, куда меня пригласил, – улыбнулась она, – нет здесь выхода нигде. Вот тебе вид – любуйся.
– Что, вообще нет? А куда-нибудь из этого здания можно выйти?
– Нельзя.
– Мы тут в заточении? – погрустнел Монг.
– В заточении от чего? От земной жизни? Да. От красоты океана? Нет, – ответила Миа.
– Как это нет, когда нас отделяет стекло? – возмутился Монг.
– Стекло – это только твои убеждения, причем застарелые. Так говорит Гобс. Я тоже вижу стекло и не могу пройти к океану. А Гобс может и говорит, что и мы тоже можем. Но прежде нужно избавиться от старых убеждений.
– Каких? – не понимал Монг.
– Ну, хотя бы таких, что невозможно сделать то, что невозможно. Гобс говорит: что одному невозможно, то другому вполне по силам. Что одна и та же вещь одновременно может быть в разных состояниях, как кот Шредингера. Гобс говорит, что здесь вообще нет никакого стекла.
Они любовались океаном, прильнув к стеклу. Океан был спокоен. Морская гладь касалась скалы, на которой располагался их новый дом, где они жили, работали, проводили все свое бесконечное время, и убегала далеко в бесконечность. Линии горизонта видно не было. Скорее всего, и горизонта, как такового, не было тоже. Дом располагался лишь с одной стороны скалы, и увидеть то, что находилось с другой стороны от нее, не представлялось возможным.
Поднявшись обратно на третий этаж в настроечный зал, Монг проводил Мию к ее скрипке и пообещал в следующий раз непременно составить ей компанию на обеде.
Подойдя к арфе, он не прекращал обдумывать то, что сказала Миа у океана.
«Невозможное – возможно. Невозможное для меня – заставить арфу со мной разговаривать. Если это все-таки возможно, то арфа может мне ответить», – рассуждал он.
– Покажи мне, откуда исходит звук, покажи, я помогу тебе, – шептал Монг своей подопечной.
Она, как и прежде, ничего не ответила.
«Я должен оставить старые убеждения, – думал он. – В чем они заключаются? Как я мыслю? Я рассуждаю, что если на арфе играет ветер, то и следовать нужно за ветром. Я рассуждаю логически. Следовательно, мои убеждения ограничены логикой. А здесь логики не должно быть. Мне нужно просто наблюдать».
Монг опять принялся ходить вокруг арфы и через некоторое время заметил, что струна отбрасывает тень, длинную, размытую и нечеткую, уходящую в туман, который опоясывал весь зал вместо стен.
«Я раньше не замечал здесь теней», – подумал Монг. Он огляделся вокруг: никто из настройщиков, инструментов или предметов мебели не отбрасывал теней. Тень отбрасывала только первая струна.
«Может, так арфа мне отвечает», – подумал Монг и вылез из арфы. Он потрогал тень руками, но ничего необычного не ощутил: тень как тень. Затем встал на нее ногами, потоптался и пошел мелкими шажками, как будто измерял расстояние в футах.
Зачем он это делал, он и сам не знал, но почему-то этот процесс показался ему единственно правильным. Монг очень старательно следил за тем, чтобы идти ровно по линии тени, как делают дети, играя и представляя, что идут по узкой дорожке над пропастью. Если они встанут чуть в сторону, то свалятся в бездну. И Монг так старался ступать ровно, что смотрел только себе под ноги, не отрывая глаз от тени.