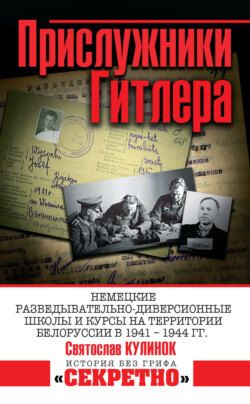Читать книгу Прислужники Гитлера. Немецкие разведывательно-диверсионные школы и курсы на территории Белоруссии в 1941–1944 гг. - Святослав Кулинок, С. В. Кулинок - Страница 6
Глава 1
Историография и источники
1.4. Источники
ОглавлениеПрежде всего укажем на общие закономерности использования документальных источников на протяжении всего послевоенного этапа:
• закрытость архивов. На протяжении всего этого периода можно говорить о том, что документы по этой теме в своем большинстве являлись засекреченными. Это касается как архивов спецслужб, так и соответствующего корпуса документов «партизанских и партийных фондов»[106]. Такая ситуация вызвана тем, что в советское время комплексное изучение этой темы было невозможно из-за прямой связи с коллаборацией. Возможность работать с рассекреченными документами появилась только в последние десятилетия, а проблемы с доступом в архивы органов госбезопасности сохраняются до настоящего времени. Отдельные направления исследований велись в ведомственных учреждениях и имели закрытый характер;
• избирательное и тенденциозное использование материалов. В научный оборот в основном вводились документы, которые показывали положительные стороны деятельности советских чекистов и партизан (статистические данные о количестве разоблаченной агентуры, отчеты по разведывательной и контрразведывательной работе, докладные записки и др.). Из разоблаченных агентов в первую очередь демонстрировались те категории, которые находились в прямой оппозиции к советской власти (бандиты, уголовники, бывшие репрессированные, эмигранты и т. д.). О том, что среди обучаемой агентуры значительное количество курсантов были обычными гражданскими людьми, у которых зачастую просто не оставалось иного выбора, не писалось;
• недостаточное введение в научный оборот источников по теме, особенно это касается «партизанских документов». На территории Белоруссии за все послевоенное время не издано ни одного сборника документов, посвященных разведывательной и контрразведывательной деятельности партизан. В начале 2000-х гг. в России было опубликовано несколько объемных сборников документов, посвященных советским органам госбезопасности, что позволило укрепить документальную составляющую новых исследований. С другой стороны, это привело к такому явлению, как «переписывание» сюжетов, которые «кочуют» из одного исследования в другое;
• недостаточное изучение, анализ и ввод в научный оборот «низовых» документов по теме, то есть источников, которые сформировались в партизанских соединениях, руководящих районных, межрайонных, областных и других центрах, а также в оперативных спецгруппах НКВД/ НКГБ. В первую очередь исследователи работали с отчетной документацией руководящих органов партизанского движения, в которой приводятся итоговые цифры и данные, но не давался анализ этих документов на предмет их достоверности. Не прослеживался путь разведданных из партизанского отряда или даже от агентурного сотрудника (нижнее звено) до штаба партизанского движения и далее (верхнее звено). Дело в том, что значительная часть разведданных, в том числе и по школам, не доходила до БШПД и отсеивалась (из-за сомнительности разведданных, незначительной оперативной ценности, невозможности перепроверить и уточнить сведения и др.). Следовательно, в итоговых отчетах, сводках и обзорах эта информация не встречалась и при ее введении в научный оборот «выпадала». В результате этого сформировалось ошибочное утверждение в исторической науке об общем количестве разведывательно-диверсионных школ на территории БССР в годы войны и количестве подготовленных в них агентов[107]. Изучение и введение в научный оборот «низовых» документов существенно дополняет, а по некоторым вопросам исправляет данные о деятельности немецких разведывательно-диверсионных учебных центров.
В большинстве сборников опубликованных документов тема деятельности немецких разведывательно-диверсионных школ отражена фрагментарно[108]. Обычно это упоминания о наиболее крупных школах (борисовских, минских и др.) и эпизоды разоблачения агентуры. Отметим научную обработку и публикацию белорусскими историками Стенограммы совещания высшего руководства Генерального округа «Белоруссия»[109], которое проходило 8—10 апреля 1943 г. Отдельно выделим сборники документов и публикации, посвященные истории органов государственной безопасности[110]. В первую очередь отметить фундаментальный многотомный сборник «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне», в который вошли более 2440 новых документов. Большинство из них снабжено археографическими комментариями. В сборнике опубликованы материалы, касающиеся истории деятельности Бобруйской, Борисовской, Витебской, Гомельской, Минской, Тростенецкой школ, шпионской организации «Русское объединение» и других учебных центров. Отдельные документы касаются вопросов использования детей и женщин в разведывательно-диверсионной работе. Именно этот сборник составляет основу большинства исследований по истории противостояния спецслужб в годы войны.
Одним из негативных последствий издания большого количества документов органов госбезопасности стал перекос в сторону мнения о решающей роли чекистов в вопросе выявления немецких школ и готовившейся агентуры (при этом мы нисколько не умаляем роль советских чекистов в этом вопросе. – Авт.). Это справедливо в отношении агентуры, которая была заслана в части Красной армии и тыл Советского Союза. Однако основная часть школ и курсов, действовавших в годы войны на территории БССР, готовила шпионов и диверсантов в первую очередь для антипартизанской работы[111]. Поэтому сложилась ситуация «недооцененности» работы партизанской контрразведки. Приведем несколько примеров.
18 января 1944 г. была подготовлена шифротелеграмма наркома госбезопасности Л. Цанавы, в которой он сообщает о деятельности в Бресте «шпионско-террористической организации» «Русское объединение», которая готовила агентуру для засылки в партизанские соединения и тыл Красной армии. Цанава поручает сориентировать партизанское командование на поимку и разоблачение этих шпионов [112](напомним, документ датирован 18 января 1944 г. – Авт.). А вот, что говорят нам «партизанские документы»: в августе 1943 г. были разоблачены два агента этой организации, попытавшиеся внедриться в один из партизанских отрядов. В ходе допросов и очных ставок были получены установочные данные на 2/3 членов «Русского объединения», установлено руководство организации. Один засланный агент был расстрелян, второй – перевербован и направлен обратно в Брест с заданием внедриться в организацию, но уже как советский шпион. Там он был разоблачен и в конце сентября 1943 г. убит на конспиративной квартире. 9 сентября 1943 г. БШПД отчитался об этой организации в разведывательной сводке БШПД № 52[113]. Таким образом, к моменту подготовки Цанавой шифротелеграммы, о деятельности «Русского объединения» было хорошо известно по «партизанской линии». Вместе с тем в некоторых исследованиях первенство в разоблачении организации присваивается Цанаве и органам госбезопасности, что формирует у читателей ошибочное представление о действительности [114].
В отношении одной из школ в Минске также можно привести несколько примеров. Так, в докладной записке НКГБ БССР в НКГБ СССР, составленной не позднее 4 февраля 1944 г., говорится о дислокации школы разведки напротив Дома Правительства[115]. Однако эта же информация использовалась в БШПД уже в октябре – ноябре 1943 г[116]. 1 июня 1944 г. в сообщении 4-го управления НКГБ № 4/8-4142 в НКГБ СССР сообщались данные о деятельности в Минске по ул. Шорной разведывательной школы противника, прибывшей из Борисова[117]. Аналогичные сведения были переданы начальнику Особого отдела группы № 13 майору С. Жукову от начальника особого отдела партизанской бригады им. Рокоссовского[118], то есть «по партизанской линии», еще 25 мая 1944 г. Аналогичные примеры можно привести и по некоторым другим школам. Ни в коем случае не преуменьшая и не ставя под сомнение масштабы работы советских чекистов, укажем на то, что роль партизан и значение их контрразведывательной деятельности объективно недооценено.
Поскольку документы партизанских формирований и их руководящих органов до настоящего времени недостаточно опубликованы и введены в научный оборот, обратимся в первую очередь именно к ним. Согласно классификации И. Д. Ковальченко, документальные источники по разведывательной и контрразведывательной деятельности партизан можно отнести к письменным, а основу комплекса материалов БШПД и подчиненных ему формирований составляют документы делопроизводства. Представляется корректным использование функциональной классификации делопроизводственных документов по данной проблеме, когда можно выделить следующие основные виды документов: организационно-распорядительные (приказы, указания и рекомендации по ведению разведки, инструкции), планово-отчетные (отчеты, разведывательные и оперативные сводки, донесения, опросные листы, разведданные и др.), судебно-следственные (протоколы допросов, следственные дела) и справочно-информационные (справки, обзоры, аналитические и докладные записки).
Видовое разнообразие источников, их объем, содержание, а также возможность привлечения иных документов (органов НКВД – НКГБ, партийных организаций и др.) позволяют говорить о высокой степени репрезентативности и богатом информативном потенциале, отражающем практически все важнейшие аспекты деятельности немецких спецслужб по организации разведывательно-диверсионных школ на территории Белоруссии.
Организационно-распорядительная документация по обозначенной проблеме представлена различного рода приказами, директивами, указаниями и распоряжениями, которые касались вопросов выявления спецшкол и разоблачения агентуры противника, использования различных групп населения в качестве шпионов, деятельности немецких спецслужб, подготовки кадров для борьбы с партизанским движением в Белоруссии и на сопредельных территориях[119]. Например, в декабре 1943 г. в указаниях, поступивших из ЦШПД, сообщалось, что «из партизанских отрядов поступают агентурные данные и показания разоблаченных агентов гестапо, что немцы усиленно вербуют и обучают в школах большое количество своей агентуры с целью засылки в наши тылы, проникновения в части Красной Армии и внедрения в партизанские отряды для ведения разведки, совершения диверсий на коммуникациях и террористических актов… Для успешного розыска вражеских разведчиков, переброшенных в наши тылы и партизанские отряды, просим дать указания командирам вверенных вам партизанских отрядов… добиваться получения на переброшенную агентуру, или внедренную в партизанские отряды подробных сведений с указанием: а) полных установочных данных; б) характеризующих данные агента и его предметы; в) район предполагаемой деятельности агента и его связи»[120].
О степени важности вопроса выявления немецких спецшкол говорит тот факт, что 10 января 1943 г. приказом начальника БШПД № 11 (86) П. Калинина партизанским соединениям ставилась задача «в Горках разгромить школу полицейских. А также истребить преподавательский состав…»[121]. Для организации более качественной работы особых отделов (далее – ОО) партизанских формирований по разоблачению вражеской агентуры разрабатывались различного рода инструкции и указания. В апреле 1943 г. оперуполномоченным ОО была разослана Инструкция о правах и обязанностях оперуполномоченного особого отдела при партизанском отряде[122], а также Инструкция об ограждении отрядов от проникновения шпионов и агентурной разведке[123]. В августе этого же года всем начальникам особых отделов партизанских соединений были отправлены указания по контрразведывательной работе, в которых рекомендовалось «заиметь в отрядах вторых гласных оперработников, исключительно занимающихся контрразведывательной работой. Для чего через командование бригады и партийные организации отрядов подберите надежных лиц, соответствующих на эту работу… Провести вербовку внутри отрядов и местных жителей надежной агентуры, направив ее на выявление агентуры противника. Подготовить надежных агентов для внедрения в органы и школы разведки противника, с задачей выявления их агентуры, сигналов и кодов…»[124]. С целью получения более полных разведывательных данных от разоблаченной агентуры противника всем секретарям РККП(б)Б и начальникам особых отделов бригад и отрядов Борисовской зоны были разосланы рекомендации по ведению допроса [125].
Таким образом, организационно-распорядительная документация регулировала и направляла деятельность партизанских структур и формирований по вопросу выявления немецких спецшкол и разоблачения агентуры противника. Важной функцией данного вида документов была консультативная, которая осуществлялась посредством издания рекомендаций и инструкций для уточнения и улучшения качества работы по отдельным направлениям.
Наиболее массовыми и информативными источниками по истории деятельности немецких разведывательно-диверсионных школ являются планово-отчетные документы партизанских формирований и их руководящих органов[126]. Среди этой группы документов, в первую очередь, необходимо отметить отчеты по разведывательной работе (далее – разведотчет. – Авт.) и отчеты 00. Обязательной частью разведотчета были представляемые данные о проделанной контрразведывательной работе (количество разоблаченного антисоветского элемента, в том числе засланной немецкой агентуры, выявленные спецшколы противника и др.). Подобные отчеты составлялись на всех уровнях: отряда[127], бригады [128], партизанских соединений области[129], чекистских спецгрупп[130] и БШПД[131].
Так, в подготовленном 22 июля 1943 г. отчете БШПД, который был направлен в ЦШПД, приводились данные о том, что только на протяжении (1942-го), – июля 1943 г. партизанами было разоблачено и расстреляно 944 немецких агента[132]. Там же указывалось, что «партизанской разведкой добыты данные о наличии на временно оккупированной территории БССР ряда школ гестапо», в том числе приводилась информация об учебных заведениях в Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Горках, Минске, Могилеве, Слуцке[133]. Во втором томе итогового «Отчета о разведывательной работе Белорусских партизан за годы Великой Отечественной войны», который был подготовлен сотрудниками БШПД, указывалось: «Борьба с немецкими шпионами, диверсантами и террористами на пути развития партизанского движения в Белоруссии являлась одной из главных задач… Уже к концу 1942 и началу 1943 годов немецкая разведка взяла курс на массовость своей агентуры, выбрасываемой против партизан. Этой же установки они придерживались до полного их изгнания с территории Белоруссии… Только одних школ, подготавливавших немецких шпионов, диверсантов и террористов на оккупированной территории БССР, партизанами было выявлено – 25»[134].
Значительный объем информации о деятельности немецких разведывательно-диверсионных школ и курсов содержится в разведывательных сводках БШПД. Прежде чем попасть в сводку, материал тщательно анализировался и перепроверялся несколькими источниками, что значительно повышает степень его достоверности[135]. На страницах разведсводок ЦШПД, БШПД и их представительств сообщалось о наличии спецшкол и курсов в Барановичах, Борисове, Бресте, Вилейке, Витебске, Глубоком, Гомеле, Копыле, Лиде, Минске, Могилеве, Молодечно, Орше, Петрикове, Полоцке, Попарное, Сенно, Слуцке, Столбцах, Шумилино[136]. Аналогичные сведения о деятельности немецких спецслужб можно встретить и в отчетных документах по линии советских органов госбезопасности, в том числе в спецсообщениях, подписанных Л. Цанавой на имя начальника ЦШПД генерал-лейтенанта П. Пономаренко[137].
Для улучшения качества контрразведывательной работы, а также систематизации и обобщения полученных данных штабами партизанского движения составлялись различного рода справки, аналитические записки и обзоры. В них, как правило, в сжатой форме содержались обобщающие результаты по какому-либо вопросу: сведения об органах германской разведки и контрразведки[138], о деятельности школ и курсов[139], категории вербуемых[140] и данные на отдельных шпионов[141], количество разоблаченных и вывезенных агентов[142] и др. Справочно-аналитическая документация предназначалась как для внутреннего пользования, так и для ориентирования партизанских формирований.
В качестве примера можно привести справку «О засланной и разоблаченной агентуре гестапо в партизанских отрядах Минской и Брестской областей БССР и о школах гестапо», которую подготовил старший помощник начальника разведотдела БШПД Н. Косой. В ней сообщалось, что «по неполным и сугубо ориентированным данным заслано в партизанские отряды и бригады агентов по Минской области – 900, из них разоблачено – 296». Далее приводились данные о деятельности немецких спецшкол в Минске, Борисове, Слуцке и Бресте, а также кратких разведывательных курсов в Семежево, Уречье, Любани и Старых Дорогах[143]. Схожими по своей сути и содержанию являются обзоры, докладные и аналитические записки. Отдельно необходимо отметить такой вид документа, как списки агентуры, которые составлялись на основании поступившей информации и рассылались в партизанские формирования в качестве ориентировок на выпущенных шпионов и полицейских[144].
Важные сведения о деятельности немецких спецшкол содержатся в опросных листах и беседах участников (в том числе командиров, комиссаров и разведчиков) партизанского движения, которые по различным причинам попадали на «большую землю», где сообщали известные им разведывательные данные. Например, командир партизанского спецотряда Г. Архипец в конце ноября 1942 г. в Москве сообщил о деятельности разведывательно-диверсионных школ для подростков в Борисове и Могилеве[145]. В ходе бесед с вышедшими из тыла были получены сведения об учебных центрах в Бобруйске[146], Борисове[147], Витебске[148], Горках[149], Минске[150], Могилеве[151], Молодечно[152], Осиповичах[153], Слуцке[154].
Наиболее информативными источниками о по данной проблеме являются протоколы допросов и следственные дела на разоблаченных агентов[155]. Являясь непосредственным и участниками событий, выявленные шпионы и диверсанты сообщали подробные сведения о работе учебных центров, в которых готовились курсанты: дислокацию, преподавательский состав, изучаемые дисциплины, установочные данные на курсантов, их задания, способ засылки. В протоколах допросов и следственных делах выявленных шпионов и захваченных сотрудников немецких спецслужб сообщаются подробные данные о деятельности немецких разведывательно-диверсионных и полицейских школ и курсов в Березино[156], Блоне[157], Бобруйске[158], Борисове[159], Витебске[160], Ганцевичах[161], Гомеле[162], Колдычеве[163], Лошнице[164], Минске[165], Могилеве[166], Молодечно[167], Осинторфе[168], Слуцке[169], Соснах[170], Тростенце[171], Холопеничах[172] и др.
Рассмотрим также еще несколько важных, на наш взгляд, групп источников. Безусловно, изучение данной темы невозможно без привлечения документов органов государственной безопасности. Чекисты вели большую работу по выявлению и разоблачению агентов, их вербовке и перевербовке, ведению радиоигр, внедрению в немецкие спецшколы. Причем эта деятельность велась как в тылу СССР и частях Красной армии, так и на оккупированных советских территориях. К сожалению, приходится констатировать, что доступ к документальным источникам архивов КГБ и МВД на сегодняшний день практически невозможен. Вместе с этим отметим, что значительный корпус документов НКВД/НКГБ имеется на хранении в Национальном архиве Республики Беларусь (фонды 4п, 1450, объединенные архивные партизанские фонды). Выделим «Разведсводки НКВД БССР об органах германской разведки, контрразведки, погранполиции, контрреволюционных формированиях, дислокации воинских частей и мероприятиях немцев на территории генерал-губернаторства против пограничного участка БССР», которые составлялись накануне начала немецкого нападения и показывают значительную активность спецслужб противника по заброске своей агентуры на советскую территорию[173].
Значительный интерес представляют спецсводки народного комиссара внутренних дел[174], отчеты, рапорты и докладные записки работников НКГБ и НКВД о положении в оккупированных районах и их работе в тылу врага, протоколы опроса лиц, вышедших из плена и окружения, отчеты о работе спецгрупп[175]. Наиболее информативным источником по данной проблеме являются спецсообщения наркома государственной безопасности Л. Цанавы на имя Первого секретаря ЦККП(б)Б П. Пономаренко, которые он регулярно посылал в 1942–1943 гг. Эти спецсобщения фактически аккумулировали в себе все разведданные от областных оперативно-чекистких спецгрупп НКГБ[176]. «Низовые» документы органов госбезопасности представлены различными запросами, докладными записками, приказами, информациями, сообщениями руководителей и сотрудников оперативно-чекистских спецгрупп НКГБ, действовавших при областных комитетах КП(б)Б, следственными делами, которые они вели, агентурными спецсообщениями и сводками[177]. Исходя из написанного выше, можно говорить о том, что при создании данного научного исследования был привлечен значительный корпус документов органов государственной безопасности, отличающихся видовым разнообразием и информативностью.
Еще один информативный корпус документов по проблеме представлен в материалах переписки БШПД с союзными, республиканскими и территориальными советскими органами госбезопасности НКВД/НКГБ, а также с органами военной контрразведки Смерш по вопросам партизанского движения[178]. Он касается вопросов уточнения участия отдельных граждан в партизанском движении, предоставления различных данных (в том числе компрометирующих) на лиц, проходящих проверку и «фильтрацию» в воинских частях и различных учреждениях. Очень часто в этой переписке встречаются сведения о разоблачении агентов немецкой разведки, сумевших влиться в части РККА, легализоваться в советских учреждениях и на предприятиях.
Необходимо сказать о таком значительном по объему массиве источников, как трофейные документы (оригинальные или переводные) немецких оккупационных и разведывательных органов, руководящих структур, воинских соединений различных уровней. Они касаются прежде всего вопросов борьбы с партизанским движением. Это различного рода указания, рекомендации и правила, которые регулировали и определяли вопросы противопартизанской борьбы[179]. В качестве примера приведем документы, связанные с деятельностью абвергруппы-315[180], абверкоманды-303[181], директивы и указания «Зондештаба-Р»[182], Служебные указания офицерам разведки и контрразведки, состоящим при командующем охранными частями группы армий «Центр» от 2 апреля 1943 г[183]. Также это документы о деятельности полицейских и антисоветских формирований и организаций[184]. Привлечение этих документов позволяет взглянуть на проблему глазами противника, оценить и проанализировать комплекс противопартизанских мероприятий, в том числе подготовку и заброску агентуры.
При работе с документами по обозначенной проблеме необходимо учитывать некоторые особенности. Во-первых, деятельность немецких разведывательно-диверсионных школ и курсов представляет собой один из самых засекреченных аспектов работы немецких спецслужб в годы Великой Отечественной войны, поэтому к документальному отражению этой деятельности следует относиться с определенной долей критичности и по возможности перепроверять и уточнять количественные данные[185].
Во-вторых, не всегда корректное определение функционального назначения школ[186] (характеристика профиля деятельности: разведывательно-диверсионная, полицейская, школа по подготовке младшего и среднего командного состава для военно-полицейских формирований и др.) и их подчиненности[187].
В-третьих, комплексное использование различных источников при изучении темы. Необходимо по возможности, соотносить различные документы (партизанских соединений, спецгрупп и структур НКВД/НКГБ, картографический материал, воспоминания и др.)[188].
106
В первую очередь имеются ввиду судебно-следственные документы на изменников, предателей, шпионов, которые содержатся в описях № № 21 и 22 фонда № 1450 (Белорусский штаб партизанского движения) Национального архива Республики Беларусь. – Авт.
107
Например, в «низовых» отчетных, справочных и следственных документах партизанских соединений и чекистских спецгрупп встречаются данные о деятельности шпионской школы (возможно в школе готовились также пропагандисты) в м. Лесное недалеко от Барановичей (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 137. Л. 58–60), краткосрочных шпионских курсов при гарнизоне в м. Блонь (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 171. Л. 144), курсов полицейских в Борисове и Витебске (НАРБ. – Ф. 1350. Оп. 1. Д. 56. Л. 88; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1308. Л. 115), школы разведчиков в д. Ельница Борисовского района (НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1190. Л. 30; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 62. Л. 84-84об.), Лапичской шпионской школы (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 100—Ю3об.), спецшколы в Осинторфе (НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1979. Л. 49–51; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 26. Л. 236-236об.; Ф. 1450. Оп. 22. Д. 113. Л. 120—123об.) и Пинске (НАРБ. – Ф. 1407. Оп. 1. Д. 92. Л. 27—27об.; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 30. Л. 277; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 281. Л. 9), курсов в Пуховичах (НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1190. Л. 15; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 66. Л. 354об.), курсов ГФП (полицейских) в Рогачеве (НАРБ. – Ф. 1350. Оп. 1. Д. 28. Л. 125-125об.; Ф. 1450. Оп. 4. Д. 259. Л. 19–20) и ряда других учебных центров. Соответственно, все указанные школы не были включены в итоговые отчеты и сводки и не учитывались при подсчетах. – Авт.
108
Например: Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). Документы и материалы в трех томах. Т. 1: Зарождение и развитие партизанского движения в первый период войны (июнь 1941 – ноябрь 1942). – 1967. – 743 с.; Т. 2. Развитие всенародного партизанского движения во второй период войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943). Кн. I. (ноябрь 1942 – июнь 1943). Минск: «Беларусь», 1973. – 680 с.; Т. II. Развитие всенародного партизанского движения во второй период войны (ноябрь 1942 – декабрь 1943). Кн. 2. (июль – декабрь 1943). Минск: Беларусь. – 814 с.; Т. 3. Всенародное партизанское движение в Белоруссии на завершающем этапе (январь – июль 1944). – Минск: Беларусь, 1982. – 792 с.; Беларусь непокоренная: Воспоминания, документы, хроника партизанского движения и подпольной борьбы 1941–1944. – Минск: БЕЛТА, 2005. – 391 с.; «Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников…». Красные партизаны Украины, 1941–1944: малоизученные страницы истории. Документы и материалы / [Авт. сост.: А. Гогун, А. Кентий]. – Киев: Украинский издательский союз, 2006. – 430 с.; Беларусь в постановлениях и распоряжениях Государственного Комитета Обороны СССР, 1941–1945 гг.: справочник/сост.: В.Д. Селеменев, В.В. Скалабан, В.Н. Шепелев. – Минск: НАРБ, 2008. – 214 с.; Милиция Беларуси, 1917–2007 /Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 350 с.; Хохлов, Д. Ю. История оккупации в архивных документах органов государственной безопасности. Лето 1941 – зима 1941/42 г. /Д. Ю. Хохлов // Военно-исторический журнал. – 2007. – № 1. – С. 32–37; Гомельщина партизанская: документы и материалы. Вып. 2. Развитие: июнь 1942 г. – август 1943 г. / сост.: В.Д. Селеменев [идр.]; редкол.: В. И. Адамушко [и др.]. – Минск: НАРБ, 2015—424 с.; Белорусский штаб партизанского движения. Сентябрь – декабрь 1942 г. Документы и материалы. Авт. сост.: В.Д. Селеменев, М.Н. Скоморощенко, И. Тумаш. – Минск: Издательство «Белорусская энциклопедия им. И. Бровки», 2017. – 464 с.
109
Стенограмма совещания высшего руководства Генерального округа «Беларуссия» (Минск, 8—10 апреля 1943 года) / авторы-сост. С. В. Жумарь, С.Е. Новиков, Р.А. Черноглазова. – Минск: МГЛУ, 2006. – 220 с.
110
Чекисты на защите столицы: Документы и материалы об участии сотрудников Московского управления госбезопасности в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой: Сборник. – М.: Моск, рабочий, 1982. – 320 с.; Червона армія в оцінках абверу // Український історичний журнал. – 1990. – № 7. – С. 114–120; Белик, И. К. Немецкая разведка является довольно сильным противником / И. К. Белик // Исторический архив. – 2000. – № 5 – С. 27–63; Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Т. 3: Крушение «Блицкрига», кн. 1: 1 января – 30 июня 1942 г. – М.: Русь, 2003. – 691 с.; Т. 4: Секреты операции «Цитадель», кн. 1: 1 января – 30 июня 1943 г. – М.: Русь, 2008. – 813 с.; Т. 4: Великий перелом, кн. 2: 1 июля – 31 декабря 1943 г. – М.: Русь, 2008—814 с.; Т. 5: Вперед на запад, кн. 1:1 января – 30 июня 1944 г. – М.: Кучково поле, 2007. – 752 с.; НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем в Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1956) / Сборник документов. – Составители: Владимирцев, Н. И., Кокурин А. И. – М.: Объединенная редакция МВД России, 2008. – 640 с.; Ямпольский В. П. «…Уничтожить Россию весной 1941 г.» Документы спецслужб СССР и Германии 1937–1945 гг. / В. П. Ямпольский. – М.: Кучково поле, 2008. – 657 с.
111
Некоторые наиболее крупные школы готовили агентурные кадры как для борьбы с партизанами, так и для заброски в советский тыл. Это школы в Бобруйске, Борисове, Вилейке, Витебске, Волковыске, Ганцевичах, Глубоком, Гомеле, Калинковичах, Лошнице, Минске, Могилеве, Пигановичах, Ставке. Из более чем 60 школ только около 15 готовили агенту, в том числе, для заброски на советскую территорию. Поэтому правомерно говорить о том, что в разоблачении немецкой агентуры на территории БССР решающую роль сыграли партизаны и помогавшие им сотрудникисоветских органов госбезопасности. – Авт.
112
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне… – Т. 5. Кн. 1. – С. 51.
113
НАРБ. – Ф. 1401. Оп. 1. Д. 203. Л. 191; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 54. Л. 116–134; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 55. Л. 125–126; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 46.
114
Например: Иоффе, Э. Г. Лаврентий Цанава: его называли «Белорусский Берия»… – С. 244.
115
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне… – Т. 5. Кн. 1. – С. 134.
116
Имеются ввиду справки, подготовленные старшим помощником начальника разведывательного отдела БШПД капитаном Н. Косым в начале ноября 1943 г. (См.: НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 48–49), а также данные разведсводки за период с 15.10 по 31.10.1943 г. (См.: НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 30. Л. 98).
117
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне… – Т. 5. Кн. 1. – С. 496.
118
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 55. Л. 192–193.
119
В первую очередь имеются ввиду документы руководящих органов партизанского движения по линии их разведотделов и руководителей ЦШПД – БШПД – представительства штабов на фронтах, а также их координация работы с органами НКВД/НКГБ. (Например: НАРБ. – Ф. 1350. Оп. 1. Д. 35. Л. 81–82; Ф. 1350. Оп. 1. Д. 29. Л. 140; Ф. 1405. Оп. 2, Д. 192. Л. 9; Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1313. Л. 23; Ф. 1450. Оп. 1. Д. 15. Л. 341; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 53. Л. 22; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 4–5, 7; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 54; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 281. Л. 13). Огранизационно-распорядительная документация по теме представлена также на «низовом» уровне, то есть сформированная в партизанских соединениях, оперативно-чекистских группах и др. (Например: НАРБ. – Ф. 1350. Оп. 1. Д. 29. Л. 125-125об.; Ф. 1399. Оп. 1. Д. 10. Л. 130–131; Ф. 1406. Оп. 1. Д. 64. Л. 2-2об.; Ф. 1407. Оп. 1. Д. 92. Л. 19; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 66. Л. 426-427об.; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1308. Л. 26; Ф. 1450. Оп. 4. Д. 220. Л. 124).
120
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 886. Л. 52.
121
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 17. Д. 5. Л. 4. Это единственный случай за 1942–1944 гг., когда решение об уничтожении школы было санкционировано напрямую через приказ начальника БШПД. – Авт.
122
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1308. Л. 26.
123
НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1183. Л. 4.
124
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 281. Л. 12–13.
125
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 66. Л. 426–428.
126
В данном случае также можно провести условное разделение документов на «нижнее звено» (агентурные сводки, разведывательные отчеты особых отделов партизанских соединений, и чекистских спецгрупп, донесения и разведданные) и «верхнее» (итоговые отчеты и разведывательные сводки БШПД и ЦШПД, планы развития партизанского движения в БССР, опросные листы и др.). – Авт.
127
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 4. Д. 254. Л. 34–35.
128
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1311. Л. 64–67.
129
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 27. Л. 5–7.
130
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 4. Д. 414. Л. 83.
131
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 36. Л. 58–59.
132
Эти данные несколько занижены. В них не включены сведения о выявленной агентуре в Белостокской и Пинских областях. Кроме того, система учета и документационного обеспечения процесса разоблачения и осуждения шпионов в 1942 г. часто велась упрощенно, либо не велась вовсе. – Авт.
133
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 53. Л. 18–19. Укажем также на то, что в г. Горки действовала не разведывательно-диверсионная школа, а полицейская – по подготовке командного состава для военно-полицейских формирований коллаборантов (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 19. Л. 68; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1301. Л. 76–79; Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). – Ф. 69. Оп. 1.Д. 848. Л. 19).
134
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 3. Д. 115. Л. 24–27. Данные этого отчета о 25 выявленных разведшколах противника составляют источниковую базу большинства исследований.
135
Например, помещенные в разведскодку БШПД № 50 от 28 августа 1943 г. сведения о том, что в Минске в бывшем здании Мединститута организована школа разведчиков СД (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 4. Л. 282), подтверждались несколькими разведдонесениями от различных источников (НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 78. Л. 177; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 30. Л. 98; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 42,48,49,128–129; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1297. Л. 7, 78об., 138; РГАСПИ. Ф. 69. Оп. 1. Д. 738. Л. 2).
136
НАРБ. – Ф. 1399. Оп. 1. Д. 10. Л. 82; Ф. 1450. Оп. 1. Д. 4. Л. 13, 89, 113,147,172,214, 219,250, 316; Ф. 1450. Оп. 1. Д. 5. Л. 123; Ф. 1450. Оп. 1. Д. 887. Л. 59; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 30. Л. 59, 77об., 83, 540; РГАСПИ. -Ф. 69. Оп. 1. Д. 848. Л. 7–8; РГАСПИ. – Ф. 69. Оп. 1. Д. 848–852.
137
НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16851-16853; Ф. 4п. Оп. 33. Д. 62–63, 151,400.
138
НАРБ. – Ф. 1440. Оп. 3. Д. 788. Л. 4–5.
139
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 14, 46, 48, 86, 117.
140
НАРБ. – Ф. 1350. Оп. 1. Д. 38. Л. 22; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 65; Ф. 1450. Оп. 4.Д. 268. Л. 40.
141
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 67; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1326. Л. 93–94; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 12. Л. 319.
142
НАРБ. – Ф. 1399. Оп. 1. Д. 9. Л. 23–27; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 392.
143
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 58. Л. 66.
144
НАРБ. – Ф. 1403. Оп. 1. Д. 450. Л. 1; Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1313. Л. 26; Ф. 1406. Оп. 1. Д. 64. Л. 4; Ф. 1406. Оп. 1. Д. 320. Л. 79-79об.; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 89. Л. 122–123.
145
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 4. Д. 138. Л. 32.
146
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1300. Л. 36; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1301. Л. 9-13.
147
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1296. Л. 10-10об.; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1298. Л. 65, 109об.
148
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 887. Л. 155–156.
149
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1301. Л. 76–79.
150
НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 78. Л. 177; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1297. Л. 78об.; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1298. Л. 7, 44–46; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1300. Л. 69.
151
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1300. Л. 151.
152
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1285. Л. 16–19; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1298. Л. ПО.
153
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1301. Л. 9-13.
154
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1301. Л. 9-13.
155
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1337; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 131,141,186, 269; Ф. 1450. Оп. 22. Д. 1–3, 15, 20, 23–25, 33, 67, 73, 95, 104.
156
НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1979. Л. 49–51; Ф. 1450. Оп. 22. Д. 114. Л. 222–225.
157
НАРБ. – Ф. 1450. Оп 21. Д. 171. Л. 144.
158
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 41-41об.; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 12. Л. 144об.
159
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 88–89, 95–96, 229-232об.; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1335. Л. 1-3об., 10–13; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 31. Л. 21–24, 51об. -52; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 38. Л. 50-50об.; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 75. Л. 22–27, 30–31, 38–39; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 150. Л. 1-60; Ф. 1450. Оп. 21.Д. 214. Л. 1—2об.
160
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 854а. Л. 5об. -7, 19.
161
НАРБ. – Ф. 1400. Оп. 1. Д. 52. Л. 5об. -8; Ф. 1405. Оп. 1. Д. 401. Л. 160- 160об.; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 541–542.
162
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 270–275, 286–297; Ф. 1450. Оп. 2.Д. 1294. Л. 27-3106.
163
НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 401. Л. 160- 160об.
164
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 22. Д. 114. Л. 298–301.
165
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 55. Л. 49–51; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 47. Л. 174–180.
166
НАРБ. – Ф. 1350. Оп. 1. Д. 56. Л. 9-11об.
167
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 173. Л. 1, 5–6.
168
НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1979. Л. 49–51.
169
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 17–20; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 12. Л. 233об. -234, 333–338; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 284. Л. 91–92.
170
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 12. Л. 220об. -221; Ф. 1450. Оп. 22. Д. 116. Л. 135–137.
171
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 60. Л. 130–135.
172
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 942. Л. 187- 187об.
173
НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 16851, 16852, 16853, 18372.
174
НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 22.
175
НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 62, 63; Ф. 1440. Оп. 3. Д. 786–788; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 108; Ф. 1450. Оп. 4. Д. 241, 411.
176
НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 151, 400.
177
НАРБ. – Ф.4п. Оп. 33а. Д. 63. Л. 109,111; Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 388. Л. 9-11; Ф. 1350. Оп. 1.Д.35.Л. 15об.,24; Ф. 1350. Оп. 1.Д.56.Л. 13; Ф. 1399. Оп. 1. Д. 8. Л. 18; Ф. 1406. Оп. 1. Д. 64. Л. 5-5об.; Ф. 1407. Оп. 1. Д. 92. Л. 7—7об., 9; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 56-56об.; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 150; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 61. Л. 69 и др.
178
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 33–35, 94-100, 109а—111, 116–117, 124–130, 187; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1, 12, 15, 22, 85, 1067, 1079.
179
НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 83, 84; Ф. 1440. Оп. 3. Д. 791; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1342; Ф. 1450. Оп. 3. Д. 157–172, 188.
180
НАРБ. – Ф. 853. Оп. 1.Д. 1.
181
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 3. Д. 161. Л. 62, 63, 69.
182
НАРБ.-Ф. 1405. Оп. 1.Д. 268.Л. 107–109, 111.
183
НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 3. Д. 160. Л. 34–70; Ф. 1450. Оп. Па. Д. 10. Л. 243–272.
184
Например: ГАМн. – Ф. 622. Оп. 1. Д. 1, 5, 12; НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 46–48, 51 и др.
185
В первую очередь это касается количественных данных в отношении готовившихся курсантов, а также их половозрастных и национальных характеристик. В документах очень часто можно встретить достаточно размытое определение их количества. Например: «число обучающихся и выпущенных не установлено», «общее количество агентов не установлено» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 53. Л. 18–19); «в этой школе обучаются русские мужчины и женщины от 30 до 50 человек» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 57. Л. 41—41об.); «в школе занимаются небольшими группами и группы находятся в строгой изоляции одна от одной» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1311. Л. 64об. – 66об.); «в Минске состоялся выпуск около четырехсот человек школы шпионов, которые разосланы в отряды» (НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1979. Л. 36; Ф. 1405. Оп. 1. Д. 1313. Л. 25); «в Минске выпущено около 500 шпионов по национальности немцы, хорошо владеющие русским языком, белорусы и евреи» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 62. Л. 104); «в Минске есть гестаповская школа, примерно 20-ти дневная, которая существует и сейчас. Где она размещается, я не знаю. Из нее выходит много воспитанников, которые направляются в разные места. Посылаются даже целыми группами. Больше всего бывает женщин. Попадаются и мужчины, которые являются местными жителями и были раньше раскулачены или репрессированы сами, или их родственники» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1298. Л. 44–46).
Есть примеры, когда количество агентов различается не в пределах «десятков-сотен», а еще более значительно. Например, в отношении спецшколы в Бресте есть данные о том, что «в отряды было послано около 2000человек» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1286. Л. 6–7); «в г. Минске создана школа шпионажа и диверсий, через которую пропускают евреев с целью посылки их в СССР для диверсионной и шпионской работы, для чего в Минске привезли 13 тысяч евреев из разных оккупационных мест, в том числе и Германии» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1297. Л. 138).
Иногда даже курсанты школы не могут сообщить подробные сведения о ее деятельности: «Рассказать какие факультеты выпускаются со школы Печей не могу, потому что это невозможно. В блоке «У» находятся девушки, прибывшие из Германии, Литвы, Латвии и Эстонии для предложенной работы» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1335. Л. 10–13).
186
Например, достаточно часто можно встретить ошибочное определение профиля деятельности школы как «разведывательно-диверсионная» или «школа гестапо», а на самом деле школа готовила командный состав для военно-полицейских коллаборационных формирований. Например, Горецкая школа в некоторых документах и отечественной историографии определяется как «школа гестапо» (Например: Иоффе, Э. Г. Абвер, полиция безопасности и СД, тайная полевая полиция… – С. 219–220; НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 151. Л. 266; Ф. 1350. Оп. 1. Д. 28. Л. 78об.), а на самом деле школа готовила кадры командного состава (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1301. Л. 76–79; Ф. 1350. Оп. 1. Д. 38. Л. 22; Ф. 1450. Оп. 1. Д. 19. Л. 68).
Аналогичная ситуация в отношении Новогрудской школы. В историографии она обозначена как «казачья» (Иоффе, Э. Г. Абвер, полиция безопасности и СД, тайная полевая полиция… – С. 128–129; Чуев, С. Г. Спецслужбы Третьего Рейха. Книга 1… – С. 212). В тоже время в обнаруженных архивных документах нет никакого упоминания о том, что в Новогрудке коготовилась «казачья» агентура. Школа обозначена как шпионская и среди обучаемого контингента доминировала польскоязычная молодежь (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 53). Вероятнее всего, школа подчинялась отделению СД в Новогрудке, которое, в свою очередь, находилось в подчинении внешнего отдела полиции безопасности и СД в Барановичах. Исследователь А. Соловьев указывает на то, что школа в Новогрудке подчинялась абверу (Соловьев, А. К. Они действовали под разными псевдонимами… – С. 89).
187
В данном случае имеется ввиду определение немецкого секретного органа, который курировал деятельность учебного заведения. Большинство школ в архивных документах именуется «школа гестапо» (НАРБ. – Ф. 1405. Оп. 1. Д. 139. Л. 1; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 26. Л. 130; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 53. Л. 18–19; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 56. Л. 86; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 2. Л. 35—35об.; Ф. 1450. Оп. 21. Д. 281. Л. 9; Ф. 1450. Оп. 4. Д. 254. Л. 34об.). Поскольку на территории Беларуси органы гестапо не действовали (сотрудники этого ведомства могли служить в различных оккупационных структурах – Авт.), то использование этого определения является не совсем корректным. Это своего рода условное и адаптированное (унифицированное) понятие, которое использовали партизаны и чекистские спецгруппы для характеристики разведывательно-диверсионных школ. Более подробно об этом написано в соответствующем разделе монографии. – Авт.
Укажем на то, что имели место случаи, когда даже в одном документе подчиненность школы была определена по-разному. Например, в апреле 1943 г. партизанским отрядом бригады Воронова была разоблачена Елизавета Чистякова – немецкий агент. В документах указывалось, что она была завербована Витебской фельдкомендатурой, а на задание была послана – жандармерией (НАРБ. – Ф. 4п. Оп. 33а. Д. 400. Л. 6–8). Очевидно, что такое утверждение некорректно. Вероятнее всего имеется ввиду только один из немецких оккупационных органов, а его неточное название – ошибка, или, как в случае со «школой гестапо» – просто отождествление и унифицирование.
Аналогичный пример можно привести в отношении разведывательно-диверсионных курсов в Борисове. В следственных документах встречаем характеристику как «школа шпионов, которая работала по Стеклозаводской улице, там, где находится жандармерия», а также «школу шпионажа, которая работала в г. Борисове при ГФП по Стеклозаводской улице» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 75. Л. 22—22об., 25—25об.).
188
Приведем несколько примеров. Например, данные о том, что разведывательно-диверсионная школа в Слуцке располагается в здании бывшего педагогического техникума (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 21. Д. 89. Л. 66) подтверждаются картографическим материалом – легендой и планом г. Слуцка (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 1. Д. 16. Л. 46–48). Долгое время автор не мог найти подтверждение информации, указанной в разведывательной сводке БШПД № 30 от 25.12.1942 г. о деятельности детской спецшколы в Шумилино. Позже эта информация подтвердилась в воспоминаниях участницы партизанской борьбы Елены Петровой (Закржевский, Г. В. Шумилино немцы организовали детскую школу, готовившую диверсантов. Кто сейчас помнит об этом? / Г. Закржевский // Советская Белоруссия от 15 июля 2003 г. – С. 4). Похожая ситуация касается школы в Борисове. В архивных документах можно встретить сведения из беседы с Витей Пашкевичем о том, что «школа гестапо размещается в Ст. Борисове. Начальник школы Ритман, немец. Срок обучения 3 месяца, всего обучающихся до 150 человек, большинство бывшие комсомольцы (дети)» (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1298. Л. 65). Впоследствии эти показания были озвучены им в документальной повести (См.: Пашкевич, В. Над рекой Березой). Сведения о деятельности немецкой шпионской школы в Барановичах проходит в документах, как по линии органов госбезопасности (НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 4. Д. 241. Л. 42), так и по линии партизанских соединений (НАРБ. – Ф. 1399. Оп. 1. Д. 10. Л. 82; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 60. Л. 673–674; Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1311. Л. 64об. -66об.).