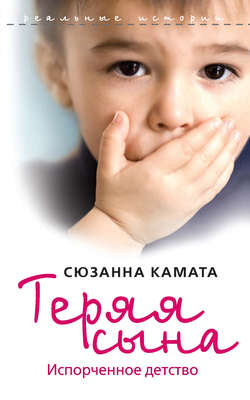Читать книгу Теряя сына. Испорченное детство - Сюзанна Камата - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1989
ОглавлениеЯ приехала в Японию потому, что один человек разбил мне сердце. Долгое время я мечтала об Африке. Полки в моей комнате ломились от книг о саванне, о женщинах, летающих на самолетах над стадами слонов, о Карен Бликсен, выращивающей кофе на своей плантации, о незамужних учительницах, влюбляющихся в белых охотников. Я думала, что буду фотографировать для «Нэшнл джиогрэфик» или, может быть, открою галерею африканского искусства. Или стану писательницей, как Карен Бликсен. Я записалась в Корпус мира и должна была отправиться в Камерун. Но Филипп уехал в Африку раньше меня. Точнее, в Дакар, столицу Сенегала. Он запланировал это еще до того, как мы познакомились. А затем мы расстались, и я знала, что если поеду в Африку, то никогда не перестану надеяться. Никогда не перестану думать о нем, ждать случайной встречи, вроде той, когда я однажды столкнулась в гардеробе Лувра с давно позабытой соседкой по комнате. Мой взгляд будет цепляться за каждую пару ног в хаки, следить за каждой фигурой, хотя бы отдаленно похожей на него, впиваться в каждое лицо в надежде, что это окажется он. Поэтому, когда брат рассказал мне о возможности поехать в Японию на стажировку для художников, я почувствовала, что это мой шанс сжечь мосты.
Как только я узнала, что еду в Японию, я начала учить язык. Купила пару учебников в университетском книжном магазине, повесила объявление (на которое вскоре откликнулся Юндзи Симада) и задалась целью учить по одному иероглифу в день. Но сначала я неделю разбиралась с двумя фонетическими алфавитами – хираганой для японских слов и катаканой для заимствованных.
– Чтобы забыть о мужчине, необязательно ехать в Японию, – сказала мама, когда я рассказала ей о своих планах. – Кроме того, может быть, он к тебе еще вернется. После Африки.
Странно было слышать такие слова от женщины, которая бросила мужа потому, что он ее не заслуживал, да и вообще не слишком-то ценила мужчин.
Но с другой стороны, Филипп ей очень нравился. Когда мы еще только начали встречаться, он пришел к ней на обед в честь Дня благодарения. Братьев тогда не было – они уехали к отцу и его новой жене. Они заранее сняли дом на побережье и взяли напрокат лодку для глубоководной рыбалки. Такой вид отдыха не вызывал у меня абсолютно никакого энтузиазма. Кроме того, я не собиралась бросать маму и ее двадцатипятифунтовую индейку.
Филипп принес цветы («Фрезии! Мои любимые!»), бутылку божоле и альбом Нины Симон. Я как-то сказала ему, что маме нравится Нина Симон.
В тот вечер, когда он уже уехал домой, мы выпили с мамой еще пару бокалов, и она сказала:
– Не каждый парень всего через месяц захочет познакомиться с матерью своей девушки.
Я кивнула, потягивая вино.
– А еще он захотел пойти на свадьбу Кэти.
С Кэти Макгроу мы были знакомы сто лет, и я должна была быть подружкой невесты. Филиппу пришлось бы почти всю свадьбу просидеть одному.
– Ну, похоже, у него серьезные намерения. – Она похлопала меня по колену и встала, собираясь идти спать.
Я была ей признательна за то, что, несмотря на отца и его нескончаемые измены, она все-таки не старалась заставить меня разочароваться в любви. Она не мешала мне искать свою дорогу к счастью, и это было очень мудро с ее стороны. По крайней мере, так мне тогда казалось.
К тому времени, когда, попрощавшись с мамой, я садилась на самолет в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте, я уже и не вспоминала про дорогу к счастью. Я хотела раствориться в чужом языке. После многих часов зубрежки я была уверена, что, прибыв в аэропорт Нарита, смогу заказать миску лапши. И может быть, объяснить таксисту, что мне нужно в отель «Кейо-плаза» в Синдзюку, где я забронировала номер.
Я затолкала свои книжки на верхнюю полку и заказала бокал вина.
Скоро я окажусь там, где меня никто не знает, и смогу начать все с начала. Без Филиппа.
На вопрос о цели моего визита я ответила, что иду по стопам Блондель Мэлоун, художницы, жившей всего в нескольких кварталах от дома, где я выросла, – но на сотню лет раньше.
Когда мне было двенадцать, я взяла в библиотеке ее биографию и так и не вернула ее. Меня завораживала жизнь Блондель и ее утерянные картины. Автор биографии иногда скатывался на снисходительный тон, но мне казалось, что в эти моменты он был неправ. Я считала, что Блондель стала жертвой времени – она родилась женщиной, когда власть находилась в руках мужчин, и выбрала импрессионизм, когда все сходили с ума от фовизма. Я была убеждена, что она была великой, но неоцененной и забытой художницей, как Фрида Кало. Непонятой, и признанной лишь много лет спустя. Но куда пропали ее картины? Мне нравилось воображать, что когда-нибудь я разгадаю эту тайну. А если не смогу отыскать их, то просто напишу заново.
В Токио я дотащила багаж до тротуара и поймала такси. Желтый автомобиль остановился передо мной, задняя дверь открылась будто по волшебству. Шофер, маленький человечек в белых перчатках, с неожиданной легкостью поднял три моих больших чемодана и затолкал их в багажник. Я села в машину и откинула голову на чистую салфетку. Коробка с такими салфетками лежала на полке под задним окном.
– Ну, – сказал шофер, сев за руль. – Куда едем?
Я ответила ему по-японски.
Он хмыкнул – одновременно с уважением и презрением – и выехал на проезжую часть.
Мне тогда не очень хотелось разговаривать, и я надеялась, что он окажется не из тех водителей, что любят поболтать с пассажирами. Он оказался не из тех. Останавливаясь на светофорах, он, слегка нахмурившись, смотрел на меня в зеркало заднего обзора, а в остальное время, казалось, был полностью поглощен бейсбольным матчем, который передавали по радио.
Город за окном был чистым. Белые стены зданий, не запачканные граффити. Улицы без мусора. На них – чисто вымытые автомобили последних моделей. Ни одной битой машины.
В такси пахло гелем для волос и табаком. К приборной панели был прикреплен освежитель воздуха. Я постаралась запомнить эти запахи. Так же, как силуэты зданий (не до небес, как в Нью-Йорке, – ведь здесь случаются землетрясения), щиты с рекламой кока-колы и напитка под названием «покари свэт». И Фудзияму, вырисовывающуюся вдалеке на фоне неба.
Манеры обслуживающего персонала в отеле были безупречными. Портье поклонился, прежде чем проводить меня к лифту. Бой, складывавший мои чемоданы на тележку, улыбаясь, отказался от чаевых.
Кровать была застелена белоснежными хрустящими простынями, а на столе было приготовлено все, что нужно для заваривания чая. На тарелке разложено рисовое печенье, завернутое в бумагу с рисунком как на ткани для кимоно.
Усталость грозила свалить с ног, но я не обращала на нее внимания. Мне хотелось смотреть, слушать, обонять, пробовать на вкус, что-нибудь делать. Я заварила чай и надкусила печенье. Оно оказалось соленым. Включила телевизор, начинались новости. Прежде чем заговорить, дикторы одновременно поклонились. Мой первый день в Японии. Моя новая жизнь.
* * *
Следующим утром, за чашкой супа мисо, который мне принесли прямо в номер, я открыла путеводитель и стала думать, чем бы заняться днем. Решила, что начну с похода в Токийский национальный музей в парке Уэно, затем загляну в зоопарк и посмотрю на панду (я никогда еще их не видела). Потом доеду на метро до Синдзюку и пообедаю в одном из баров, специализирующихся на лапше. Я о них много слышала. Там все едят стоя. К этому времени я, наверно, буду как выжатый лимон от толпы, неоновых вывесок и уличных видеоэкранов, поэтому во второй половине дня схожу в храм. Там должно быть спокойно.
В зоопарке Уэно я сразу пошла к Линг-Лингу. Там толпились дети в школьной форме. Они прижимались носом к стеклу и кричали: «Панда-сан! Панда-сан!» Один мальчик постучал по стеклу кулаком, и молодая женщина сделала ему замечание. Наверное, это была учительница.
Поверх желтых кепок и шапочек я увидела Линг-Линга, свернувшегося в углу. На бетонном полу валялись мятые бамбуковые побеги. Линг-Линг был один-одинешенек. Помнит ли он Китай, свою мать, других панд?
Рядом сверкнула вспышка фотоаппарата, и я отвернулась.
В храме мне пришлось плестись в хвосте туристической группы, состоявшей из десятка женщин лет шестидесяти, разряженных кто во что горазд, и нескольких понурых мужчин. Растянувшись по узкой, выложенной камнем тропе, женщины громко смеялись и хлопали друг дружку по плечу. Слева, на возвышении, группа старшеклассников выстраивалась, чтобы сфотографироваться на память.
Глупо было думать, что здесь спокойно и тихо. Это ведь достопримечательность, сюда приходят толпы туристов. Для медитации лучше подошел бы какой-нибудь монастырь в горах. И я стала разглядывать людей, которые попадались мне навстречу, пытаясь угадать, кто из них из города, а кто приезжий. Я не ожидала увидеть иностранцев – но в конце концов увидела.
Мужчина. Рост и фигура – в точности как у Филиппа. Кажется, я когда-то видела на нем эти штаны цвета хаки и футболку с надписью «Хард-рок-кафе». Солнце било прямо в глаза, лица было не разглядеть. Я подняла воротник куртки, втянула голову, как черепаха. Я хотела, чтобы он меня заметил, и в то же время смертельно боялась этого.
Он приближался. Под руку с ним шла молодая японка. Он соврал, подумала я. Он не поехал в Африку. Он здесь, в Японии. Съеденная за обедом лапша полезла обратно. Меня затошнило так сильно, что пришлось сесть прямо на тропу.
– Вам нехорошо? – Он вдруг оказался прямо передо мной. В голосе слышалось беспокойство. Я подняла голову. Это не Филипп. Совершенно другой человек.
Он помог мне встать. Как я могла их спутать? Волосы у него были темнее, чем у Филиппа. И он был гораздо старше, лет на десять. Японка смотрела на меня широко открытыми глазами.
– Мне так стыдно, – сказала я, смахивая со штанов прилипший листок. – Просто вдруг голова закружилась. Наверно, это из-за разницы часовых поясов.
– Вы не беременны? – спросила японка.
Мужчина нахмурился, но я только рассмеялась:
– Нет, что вы! Исключено.
– Может быть, выпьете с нами кофе или еще чего-нибудь? – сказал мужчина. – Мне кажется, вам стоит некоторое время спокойно посидеть.
Они отвели меня в маленькую чайную. Японка заказала нам кофе, хотя я могла сделать это и сама. Мужчина, похоже, по-японски не говорил.
– Сколько вы уже здесь? – спросила я.
– Три года. – Он отвел глаза. – Знаю-знаю. Мне следовало бы выучить японский, но здесь так легко обойтись без него. Везде продаются газеты и журналы на английском, телевидение на двух языках. И очень много иностранцев.
– Х-м-м. – Я добавила сливок в кофе. – И везде так?
Он пожал плечами.
– Я как-то ездил в Токусиму – это на Сикоку. Катался на велосипеде. Там никто не говорит по-английски. Пока там был, не видел ни одного американца.
Вернувшись в отель, я достала из чемодана карту и железнодорожное расписание. Утром поеду в Токусиму.
* * *
Я села на поезд, потом пересела на другой, до Токусимы, затем сделала еще одну пересадку и ехала, пока не добралась до южного побережья. Сошла в маленьком городке, пахнущем рыбой и водорослями, и спросила дорогу до ближайшей гостиницы.
В Токио на меня никто не обращал внимания, а здесь, когда я вошла, сидящая за конторкой пожилая женщина уронила ручку.
– Сумимасэн, сумимасэн… – забормотала она.
– Нет, это вы меня извините, – сказала я по-японски. – У вас есть свободные комнаты?
Она рассмеялась и приложила ладонь к груди:
– О, вы говорите по-японски! Какое облегчение.
Я тоже рассмеялась и последовала за ней в свою комнату.
Она сказала мне, что никогда до этого не сдавала номер человеку из другой страны.
– Значит, у вас тут мало иностранных туристов?
– Да-да!
Я удовлетворенно кивнула. Именно такое место я и искала.
– Здесь у нас только Эрик, – сказала она.
Я застыла.
– Эрик? А кто он? Американец?
– Да, американец. Очень красивый.
Она рассказала, что он живет здесь уже несколько лет, а до этого работал моделью в Токио; что он преподает английскую разговорную речь в частной школе «Хэппи инглиш», на втором этаже местной якитории.
– Хотите, я вас познакомлю?
– Нет, спасибо. – Я рассудила, что если задержусь в этом городке, то и так скоро с ним встречусь.
Через пару дней я узнала адрес агентства недвижимости и к концу недели сняла маленькую квартиру, меблировав ее тремя подушками и столиком.
А потом я бродила по городу. Нашла крохотную булочную, где пекли хлеб с шоколадом, и почту, откуда можно послать конфеты из сладкого картофеля в любую часть Японии. Через три дня набрела на кафе, где подавали превосходный ямайский кофе сорта «блю маунтин», и на книжный магазин, где можно было купить «Джапан таймс».
В первый раз я увидела Эрика ранним утром. Я проворочалась без сна всю ночь и, едва рассвело, взяла альбом для рисования, термос с кофе, онигири (рисовые шарики, завернутые в сушеные водоросли), и спустилась на пляж. Каждый день я надеялась, что увижу играющих дельфинов или китов, но пока видела только волны, монотонно бьющие о берег, и серфингистов.
Сама я даже не пробовала кататься, хотя меня всю жизнь окружали серфингисты. Братья, например. В шестнадцать они уже были опытными наездниками лазурных волн, а мне нравился другой цвет – бархатный темно-синий цвет вечернего океана; цвет, мягко сочетающийся со звездами и бурбоном; цвет, туманной завесой накрывающий вечеринки в стиле «Великого Гэтсби»; цвет, уместный на картине, где поздним вечером по какому-нибудь северному озеру скользит лодка. Может быть, в этой лодке сидит мальчишка, отплывший подальше, чтобы покурить украденных у отца сигарет (как будто мать не заметит, чем пахнет его куртка); или влюбленная девушка, наблюдающая за лебедем, который ныряет за водорослями, растущими на каменистом дне озера, – как у Вирджинии Вульф; или любовники, исследующие тела друг друга на старых шероховатых досках – вернувшись домой, они обнаружат не одну занозу… Но лучше всего просто пустая лодка. Ее забыли привязать, и теперь она плывет сама по себе. Тут есть целая история. Невидимые персонажи. Кто не привязал лодку? Чья она? Что будет делать владелец, когда обнаружит пропажу? Такую историю я могу нарисовать.
В то утро на пляже я тоже искала историю. И вдруг увидела фигуру, скользящую по волне. Мощный торс был освещен встающим солнцем. Мужчина был так похож на Нептуна, что я даже удивилась, что у него в руках не оказалось трезубца.
Волна спала. Он спрыгнул с доски, взял ее под мышку и вышел на берег.
Меня он не видел. Встряхнул головой, словно вымокший пес, и стал стаскивать темно-синий гидрокостюм. Я испугалась, что он прямо тут разденется догола.
– Эй! – закричала я. – Доброе утро!
Он застыл, голый до пояса.
– Ой! Привет. – Он подошел ко мне. – Ты, наверно, Джил. – Глаза него были такого ярко-голубого цвета, что, казалось, светились. – Молодая американка, которая путешествует одна, выглядит как Энди Макдауэлл и любит рисовать.
– Энди Макдауэлл? Ха!
Я предложила ему кофе. У меня не было второй чашки, поэтому нам пришлось пить из крышки для термоса. Незадолго до этого я узнала, что в Японии из одной посуды пьют жених и невеста во время свадебной церемонии. Не знаю, почему я об этом подумала. Я уже знала, что Эрик был местным плейбоем, и, хотя на меня произвели большое впечатление его крепкие плечи, рельефный пресс и белозубая улыбка, я все же считала, что с ним не стоит связываться. Некоторые европейцы и американцы живут в Японии только потому, что их обожают японки.
Японские женщины считают, что американцы похожи на героев голливудских романтических фильмов. Они привыкли к мужчинам, от которых не дождешься ласкового слова, которые не уступают женщинам дорогу и понятия не имеют, что им можно дарить цветы. Я слышала, в Валентинов день японки дарят мужчинам шоколадные конфеты, а мужчины не дарят в ответ ничего. Неудивительно, что европейцы и американцы кажутся японкам прекрасными принцами.
Словно в подтверждение моего предположения, на берегу появилась стройная молодая женщина с черными волосами до пояса. Гидрокостюм красиво облегал ее мальчишескую фигуру. Под мышкой у нее была доска для буги-серфинга.
Эрик помахал ей:
– Акэми! Я тут!
– Утреннее свидание?
Он пожал плечами:
– Я работаю днем и вечером. Она работает весь день.
Наверно, они собирались заняться сексом на пляже, а я им помешала. Мне вспомнился пляж на другой стороне планеты – я сидела, зарыв руки в песок, а Филипп говорил, что больше не любит меня.
– Ну, я пойду, – сказала я.
– Кстати, а что ты рисуешь?
Мне не хотелось показывать ему свой рисунок с серфингистом. Мало ли что он может подумать.
– Ничего. Так, ерунда. – Я захлопнула альбом и закрыла термос крышкой. Встала и отряхнулась от песка.
На краю пляжа я оглянулась. Эрик и Акэми целовались, всем телом прижимаясь друг к другу. Я посмотрела немного, а потом отвернулась.
* * *
Недели через две, тоже утром, я снова встретила Эрика на пляже.
Он сидел на песке и играл на банджо. Мелодия была похожа на ту, которую играли Дрю и мальчишка в фильме «Избавление». Завидев меня, он стал играть быстрее. Доиграв, повернулся ко мне и спокойно сказал:
– Доброе утро. Я только что думал о тебе.
Я села рядом.
– Правда?
– Да. Я знаю одну хозяйку бара, она сейчас ищет девушку, не японку. Она хорошая женщина, заботится о своих работниках. Я подумал, вдруг это тебя заинтересует.
– Это что, хостес-клуб? – Я слышала о заведениях, где женщинам платят за то, что они наливают напитки и разговаривают с клиентами.
– У нее работают две филиппинки, но ей хочется заполучить хотя бы одну американку. Это хорошее место – никаких якудза. И тебе не придется наряжаться не пойми во что, типа матросского костюма.
Я молчала, глядя, как накатывают и спадают волны.
– Это легкий заработок, – продолжал Эрик. – Можно получать по сотне баксов за ночь. Наличными, без налогов.
Я решила подумать над его предложением. Вообще-то деньги у меня еще были, но в последнее время мне стало как-то скучно и немного одиноко. Можно поработать несколько недель. Может, там будет интересно. Заодно японский подучу.
– А что это ты так расписываешь этот бар? – спросила я. – У тебя там доля, что ли?
Эрик пожал плечами.
– Просто хочу помочь вам обеим.
– Ну ладно, – сказала я. – Познакомь меня с ней. Я подумаю.
Мы договорились встретиться на следующий день возле «Ча-ча-клуба».
Я подумала, не надеть ли что-нибудь легкомысленное и не подвести ли глаза. Мне казалось, мама Морита ожидает от новой хостес некоторой свободы в одежде и поведении. Но потом все же решила пойти на встречу в том, что я обычно ношу, – в джинсах и рубашке, которая мне слегка велика. Ничего, сойдет. В конце концов, не так уж мне нужна эта работа.
Увидев Эрика, я поняла, что поступила правильно: он тоже был не при параде, в футболке и серферских шортах. Он ждал меня прямо перед входом, под вывеской клуба. Дверь выглядела не очень-то респектабельно, краска на ней выцвела и облезла. Клуб был втиснут между булочной и книжным магазином, в котором торговали в основном мангой – толстыми комиксами, чрезвычайно популярными в Японии. Окон в «Ча-ча-клубе» не было – только облупившаяся белая дверь с тяжелым латунным кольцом.
– Ну, ты готова? – спросил Эрик.
Я кивнула.
Он толкнул дверь, и мы вошли. Даже в полумраке было видно, что это заведение не первого сорта. Кресла с потертой, выцветшей обивкой, на стене загибавшийся по углам плакат с обнаженной женщиной. Мама Морита, с кроваво-красной помадой на губах и белыми, вытравленными перекисью волосами, оказалась самым ярким пятном в помещении. Она вышла из-за барной стойки и протянула мне руку.
– Здравствуйте, – сказала она. – Приятно познакомиться.
Я заметила, что Эрик ей подмигнул. Наверно, это он учил ее английскому.
Мама Морита кивнула в сторону низкого дивана, и мы сели.
– Виски? – предложила она.
На мой взгляд, для крепких напитков было рановато. В поезде я видела, как некоторые пассажиры открывали банки с саке в восемь утра, но сама я стараюсь ни капли в рот не брать, пока солнце не зайдет.
– Стакан воды, если можно.
Дальше собеседование проходило на японском – вероятно, мама Морита истощила свои познания в английском. Она не стала спрашивать, где я работала раньше и зачем мне нужна эта работа. Я думала, она попросит меня что-нибудь спеть, ведь хостес часто приглашают петь в караоке. Их работа – заботиться о том, чтобы клиенту не было скучно. Придется как-то выкручиваться.
Мама Морита спрашивала то же, что и все остальные люди, с которыми я разговаривала в Японии. Что я здесь делаю? Почему приехала в этот забытый богом приморский городок, а не выбрала какой-нибудь большой город, сияющий огнями? Как это мать отпустила меня так далеко? Она, наверно, сильно скучает?
Мама Морита сказала, что у нее тоже есть дочь. Она учится в колледже, но иногда помогает ей в клубе. Мама Морита так и не вышла замуж за ее отца, но он был так добр, что дал девочке свою фамилию и оставил маме Морите это заведение. Я подумала, что, скорее всего, он все же женился на ком-нибудь и завел других детей. Интересно, как они относятся к этой женщине, одетой в белый шелковый брючный костюм и обвешанной украшениями? Знают ли о ней вообще?
– Итак, – сказал Эрик, когда мой стакан был наполнен водой в третий раз и разговор сошел на нет. – Когда ты хочешь начать?
Я удивилась. Я думала, мама Морита позвонит мне через пару дней или пришлет ответ с Эриком.
Я посмотрела на полки, заставленные бутылками «Джонни Уокера» и «Джека Дэниэлса». В зеркале позади барной стойки я увидела свое отражение. Я выглядела бледной и измученной.
– Сегодня вечером? – сказала я.
Мама Морита кивнула.
– Сегодня вечером, – повторила она. – В восемь часов.
Она протянула мне руку, и мы попрощались. Эрик зачерпнул последнюю горсть арахиса из стеклянной вазочки. Мама Морита проводила нас до дверей и в последний момент что-то шепнула Эрику.
– Что она сказала? – спросила я, когда мы вышли на улицу и нас ослепило солнце.
– Просила передать тебе, чтобы ты надела платье.
* * *
Вот какие воспоминания остались у меня от первого рабочего вечера: запах помады, сигаретный дым, выедающий глаза, платье, запачканное блевотиной (мама Морита сказала, что такое случается, хоть и не часто), и жалкие вопли какого-то клиента, который время от времени дорывался до караоке. Мне жали новые туфли, шелковая юбка прилипала к колготкам. Стараясь быть на высоте, я пила чересчур много мидзувари, но потом мама Морита отвела меня в сторону и рассказала о ведерке под столом – оно было предназначено для того, чтобы незаметно избавляться от выпивки.
На следующий день я проснулась от бьющего в окно света. Весь мой макияж остался на подушке, во рту стоял противный вкус. Я вернулась домой в три часа ночи и отключилась, даже не почистив зубы. Юбка и блузка, пропахшие табаком, валялись рядом с кроватью.
У меня не было сил встать, и я опять почти уснула, но тут зазвонил телефон. Пришлось взять трубку, хотя бы только для того, чтобы прекратился этот звон, который отдавался в голове резкой болью.
Это был Эрик.
– Ну?
– Что «ну»?
– Как прошло?
Я рассказала ему то, что смогла вспомнить. Сказала, что еще не совсем освоилась, но считаю, что стоит попробовать еще раз. Я знала, что он звонит по просьбе мамы Мориты. Узнав, что хотел – что я продолжу работать в «Ча-ча-клубе», – он оставил меня в покое, и я проспала почти весь день.
Потом стало получше. Мне понравились другие женщины, которые там работали. Их простое, без иллюзий, отношение к жизни казалось мне гораздо более честным, чем бесконечное притворство, в котором погряз весь остальной мир. Иногда было даже забавно флиртовать с мужчинами, проводившими вечера у нас в клубе. Многие из них были женаты. Работа была нетрудной. Пьяные мужчины смеются даже над самыми глупыми шутками.
Как-то мы сидели все вместе и пили холодный ячменный чай. Клуб был еще закрыт, мы готовились к рабочему вечеру. Мама Морита посмотрела на меня и сказала:
– Эрик говорит, ты художница.
Я кивнула:
– Да, я пишу картины.
– Нарисуй картину для той стены, – сказала она, показывая на плакат с обнаженной женщиной.
Было бы, конечно, неплохо никогда больше не видеть этой голой красотки, но я понятия не имела, что, по мнению мамы Мориты, может заменить ее.
– Вы хотите, чтобы я нарисовала что-нибудь эротическое? – спросила я.
– Нет-нет! – Мама Морита замахала руками. – Нарисуй что понравится. Я заплачу.
Вот он, мой первый в жизни заказ.
* * *
Выходя на улицу, я всегда брала с собой фотоаппарат и альбом для рисования. Меня завораживали фигуры на домах японцев, на самом углу крыши. Они были похожи на что-то среднее между рыбой и демоном. Наверно, эти существа защищали дом от зла. Меня привлекали закрытые ворота. Они намекали на невидимый сад и скрытую от посторонних глаз жизнь. Я много фотографировала школьников – девочек в матросках, мальчиков в чем-то вроде мундиров и в ярких головных уборах, – дети начинали позировать, едва завидев фотоаппарат.
Но я просто не представляла, что нарисовать для мамы Мориты.
А потом случился тайфун. Эрик предупредил меня по телефону.
– Запирай и баррикадируй окна, – сказал он. – Сюда идет номер семь.
– «Номер семь»?
– Ага. В Японии они под номерами. Здесь им имен не дают.
Я решила, что сама дам имя надвигающемуся шторму: тайфун «Франческа». По телевизору передавали – если я правильно поняла, – что она мечется вокруг Кюсю и пожалует в наш городок на следующее утро.
Это был мой первый тайфун, и я не знала, чего ждать. Я слышала рассказы о легендарном тайфуне, который бушевал здесь тридцать лет назад. Дома плавали в воде, вода уносила в море фотоальбомы, стулья, мешки с рисом. Люди тонули, потом их выбрасывало на берег с водорослями в волосах.
За месяц до этого по Каролине пронесся ураган «Хьюго». Пляжные дома с восемью спальнями срывало со свай, лодки забрасывало на пальмовые деревья. Я еще подумала, не случилось ли чего-нибудь с домом в Норт-Миртл-Бич, где тогда жил Филипп. Втайне я даже надеялась, что ураган его разрушил, и теперь мои воспоминания покоятся на дне океана.
Я хорошенько привязала посудомоечную машину, которая стояла на веранде, разрезала все картонные коробки, какие нашла, и скотчем приклеила их к окнам. Соседи тоже готовились к тайфуну: закрывали ставнями окна и раздвижные стеклянные двери.
Перед закатом небо было чистым, но поднялся ветер. Недвусмысленный намек. Когда я в последний раз перед сном вышла на улицу, он уже вовсю трепал мои волосы. Я приняла ванну, приготовила свечи и легла.
Когда я проснулась, по дому будто носился товарный поезд. Стены вздрагивали и качались. «Франческа» была как злой голодный волк, она старалась сдуть мой маленький домик. Я щелкнула выключателем, и свет, как ни странно, зажегся. Все пока работало, так что я сварила кофе и подогрела круассан. Пульс учащался каждый раз, когда запертая дверь начинала ходить ходуном.
Это продолжалось два или три часа, затем ветер утих. Дождь продолжался. Картон шлепал по окнам – скотч не устоял против «Франчески». Я вышла на улицу и сорвала картонки. Тучи двигались на восток.
Днем выглянуло солнце, и я решила выйти на прогулку. По всей улице валялись сбитые ветром ветки деревьев, черепица с крыш, а в одном месте – игрушечное пластиковое ведерко. Люди убирали дворы и мели ступени домов.
Я пошла на пляж. На берег накатывали огромные волны – последнее напоминание о яростном шторме. В воде находилось десятка полтора серфингистов.
На пляж вынесло много мусора – и плавучего, и поднятого со дна тайфуном. Чего тут только не было: пластиковые канистры, ржавые жестяные банки, разломанная мебель, части лодок. Но все равно это было величественное зрелище: злые волны, их пенные гребни, скалы, окружающие бухточку, и серфингисты.
Я увидела трех мужчин, выходящих из моря. На них были черные гидрокостюмы с яркими светящимися полосами – желтыми, розовыми и зелеными. Их мышцы рельефно выделялись под блестящим материалом. Я подумала, что они похожи на супергероев из комиксов. Они были совсем без сил, но в то же время в них чувствовался спокойный и мощный душевный подъем.
Я схватила фотоаппарат и посмотрела на них через видоискатель. Да, точно, это оно.
Вот что я нарисую для мамы Мориты. Я защелкала затвором. За то время, пока серфингисты поднимались по пляжу, я успела израсходовать всю пленку.
Когда они ушли, я села на песок и стала делать наброски. Через день-два начну писать это красками.
* * *
Мне пришло письмо с приглашением на открытие выставки в музее при префектуре. О художнике Кикудзи Ямасите я ничего не слышала, но все равно решила пойти. Мероприятие было назначено на пятницу. Я надела простое черное платье и сложные бусы, которые сама сделала, и на автобусе отправилась в Токусиму. «Лес культуры», комплекс зданий культурного назначения, находился на краю города, у подножия горы. Вдоль дороги, ведущей к музею, текла узкая речушка. На берегу сидели люди с удочками, по мелководью бродили цапли. Я подумала, что неплохо было бы все это нарисовать.
Автобус остановился перед большим фонтаном. Вода взлетала вверх футов на двенадцать.
Я была в нескольких галереях в Южной Каролине. Помню, на одной выставке на всех картинах были изображены только куры. Посетителям подавали жареных цыплят в остром соусе, от которого глаза вылезали на лоб. Люди ходили по галерее с пластиковыми мисками в руках и кудахтали.
Здесь атмосфера была немного другой. Уже с порога я увидела большую группу пожилых японцев. Они непринужденно болтали друг с другом. Такую сцену нечасто встретишь в Японии. У многих из них, несмотря на седину, волосы были до плеч, а в руках они держали береты – первый признак японской богемы. Женщин было очень мало. Я заметила в зале еще одного мужчину. Он был в кожаном пиджаке. Его аккуратная бородка выглядела так же необычно, как и длинные волосы стариков.
Где-то пробили невидимые часы. Разговоры постепенно стихли. К микрофону вышел распорядитель в траурной одежде: в черном костюме и черном галстуке. Он произнес обычную вступительную речь – что-то про погоду и про то, как он рад, что мы собрались, несмотря на нашу обычную занятость. Затем немного рассказал о Кикудзи Ямасите. Моего японского хватило, чтобы понять, что он родился в префектуре Токусима и уже умер. Распорядитель представил нам женщину в сером кимоно. Это была вдова художника.
Я задумалась о том, какую роль она играла в жизни своего мужа. Была ли она его натурщицей или только подавала чай? Глубокий поклон и чинно сложенные руки свидетельствовали о ее скромности, но внешность может быть обманчивой, особенно в Японии. Может быть, она и сама пишет картины. Я представила ее в молодости, перед холстом, с распущенными волосами ниже пояса.
Она закончила свою речь, и старики потихоньку потянулись ко входу в галерею. Очень может быть, что кто-то из них учился с Ямаситой в одном классе.
Признаюсь, я плохо разбираюсь в современном японском искусстве. У меня были альбомы с гравюрами Хокусая и Утамаро, портреты гейш и виды Фудзиямы, но я никогда не видела ничего похожего на рисунки Ямаситы. В картинах, висевших на белых стенах, был и гротеск, и сюрреализм. Женщина с лицом гейши, в залитой кровью пижаме (не в кимоно!) сидит в кресле, а за ее спиной парят в воздухе обезглавленные солдаты. Куклы-бунраку смотрят на сидящую у очага престарелую чету, а над всеми ними, среди пузырей, верхом на ястребе летит маленький мальчик.
Позади меня кто-то произнес по-английски, почти без акцента:
– Ему приходилось убивать на войне. Он рисовал свое раскаяние.
Я обернулась и увидела мужчину с бородкой. Он был всего на пару дюймов выше меня. Я подумала, что его кожаный пиджак был бы мне как раз впору. Он стоял так близко, что я почувствовала запах его мыла, сигарет и мятной жевательной резинки.
– Вы говорите по-английски? – спросила я.
– Да. Я жил в Сан-Франциско, когда был студентом.
– Интересуетесь живописью?
– Как и вы. – Он протянул руку с ухоженными ногтями. – Юсукэ Ямасиро.
– Джил Паркер. Приятно познакомиться.
Он внимательно посмотрел на меня, будто хотел запомнить мое лицо. Я не привыкла, чтобы меня так разглядывали, и мне стало неловко, но я выдержала его взгляд. В том доме, где я снимала квартиру, было довольно много неженатых мужчин, но они всегда прятали глаза, когда встречались со мной на лестнице, и не отвечали на мои приветствия. А этот мужчина меня не боялся. Ну, он ведь жил в Соединенных Штатах. Наверно, даже встречался с американками.
Оставшуюся часть выставки мы обошли вместе. Я смотрела, Юсукэ комментировал. Изредка он касался ладонью моих лопаток, направляя меня в нужную сторону. Мне нравилось чувствовать его пальцы на моей спине. Я ненароком дотронулась до его руки. Потом он предложил пойти куда-нибудь выпить кофе. Я согласилась.
Когда Юсукэ спросил, как я оказалась в Японии, я ответила, что из-за Блондель Мэлоун. Мы обе выросли, рисуя сады Южной Каролины, хотя она родилась в девятнадцатом веке. Мэлоун уехала из Колумбии в поисках новых впечатлений, которые можно было бы перенести на холст, а я жила в том же районе, где когда-то жила она, и любила бродить рядом с ее бывшим домом. Я представляла ее на медленном, как улитка, пароходе, плывущем в Иокогаму, и думала, что когда-нибудь тоже буду сидеть в широкополой шляпе перед мольбертом в тени огромной Фудзиямы и рисовать все, что вижу. Как и ей, дети будут приносить мне нарциссы и цветущие ветки вишни. А мужчины будут умолять выйти за них замуж, но я всем буду отказывать во имя искусства.
– Вы и сейчас думаете так же? – спросил Юсукэ. Он сидел напротив меня, свободно закинув руку на спинку дивана. Зубы у него были ослепительно-белые.
– Да нет, пожалуй, – сказала я. – Наверно, было бы неплохо когда-нибудь выйти замуж.
Он задержал свой взгляд на мне еще на секунду, затем положил в кофе кусочек сахара и стал его размешивать.
– Хотелось бы взглянуть на ваши картины. У меня есть небольшая галерея. Возможно, я смог бы устроить вам выставку.
У меня не было столько работ, чтобы хватило на целую выставку, но пару хороших рисунков можно было выбрать. В любом случае, я не собиралась упускать такую возможность.
– Почему бы и нет? Когда?
– Завтра вечером вас устроит?
Я обещала маме Морите подменить одну из ее девушек. Будет нехорошо, если я вдруг откажусь.
– Э… завтра не получится.
– У вас свидание? – Он слегка улыбнулся. – Кем вы работаете? Преподаете английский язык?
Я бы предпочла не рассказывать ему о хостес-клубе. Я знала, как многие мужчины смотрят на женщин, работающих в ночных заведениях. Не хватало только, чтобы он подумал, что я легкого поведения. Но в то же время врать мне тоже не хотелось. Оставалось только надеяться, что пребывание в Америке прибавило его взглядам либеральности. Я рассказала ему о «Ча-ча-клубе».
Он слегка нахмурился, но, посмотрев на меня, улыбнулся.
– Тогда послезавтра?
– Отлично.
* * *
Обычно по четвергам в «Ча-ча-клубе» довольно спокойно, но в тот день у нас все столики были заняты.
Мама Морита направила Веронику – красивую филиппинку с глазами газели и мальчишескими бедрами – и меня к столику бизнесменов из международной фармацевтической компании. Галстуки они уже распустили. Было видно, мы не первая гавань, куда они заплыли в этот вечер.
Один из них все время распоряжался – наверное, это был начальник. Он потребовал бутылку «Джека Дэниэлса», которую оставил в баре, и мама Морита принесла ее на лакированном деревянном подносе. Вероника разливала напитки и зажигала сигареты. Затем он приказал принести список песен, и мама Морита подала ему книжку, хотя она лежала на столе прямо у него под носом.
Вся эта суета длилась довольно долго, и я не сразу обратила внимание на хмурого мужчину, сидевшего рядом со мной. Он не курил и почти не пил. Оставив стакан на столе, он молча смотрел, как тают в нем кубики льда.
– Арахис? – Я протянула ему блюдце, чувствуя себя виноватой. Я ведь должна была заботиться о том, чтобы ему не было скучно.
– Нет, спасибо, – ответил он по-английски. – Нет аппетита.
Его дружки к нему особо не лезли. Может, он всегда так себя ведет, и они привыкли. К тому же они были заняты – выбирали песни для караоке. Скоро начнут исполнять.
– Вам здесь не очень нравится? – спросила я.
Он не понял, что я сказала, и я, как могла, повторила свой вопрос по-японски.
– Сегодня у моей дочки день рождения, – сказал он, не отрывая взгляда от стакана.
Я удивилась, почему это так его печалит, и спросила:
– Вы хотели провести этот день с ней?
– Конечно, – сказал он. – Но это невозможно.
Было только девять часов.
– Ну, вы могли бы пойти домой прямо сейчас, – сказала я. – Ваши друзья уже так пьяны, что, скорее всего, даже не заметят вашего ухода.
Он посмотрел на своих товарищей. Щеки у них раскраснелись, глаза превратились в узкие щелочки. Один лез к Веронике, но она его успешно отталкивала. Она худая-прехудая, но сильная.
– Вы не понимаете, – сказал он. – Моя дочь живет с моей бывшей женой. Она считает, что я умер.
– Почему?
– Моя жена так ей сказала. Она захотела начать все с начала – будто меня вообще не было в ее жизни.
Я попыталась сообразить, как такое возможно, но без особого успеха – я уже тоже опрокинула пару порций виски.
– Разве у вас нет права на посещение? Вы же можете видеться с ней – в выходные или во время каникул?
Он хмыкнул.
– Да-да, я видел голливудские фильмы. Это вам не Америка, где люди разводятся и остаются лучшими друзьями. В Японии нет такого понятия, как совместная опека. У нас разводятся, а потом матери настраивают детей против отцов, которые изо всех сил старались поставить их на ноги.
– Простите, – тихо сказала я. – Может, вам стоит выпить?
Он достал из внутреннего кармана пиджака фотографию – слегка замусоленную, с загнутыми уголками. Но лицо девочки было хорошо видно. Большие глаза, торчащие хвостики на голове, щербатая улыбка из-за выпавшего переднего зуба.
– Красивая, – сказала я, хотя на самом деле ничего особенного в ней не было. Обычный ребенок.
Он угрюмо кивнул, положил фотографию обратно в карман, затем встал и ушел из клуба. Послушался моего совета.
Один из его дружков заливался про свидание в отеле у реки. Остальные отхлопывали ритм. На ушедшего они не обратили никакого внимания.
Видимо, я не очень хорошая хостес, раз не могу сделать так, чтобы посетителю было хорошо в клубе. Но с другой стороны, у него свои проблемы. Я посидела немного, размышляя о своих профессиональных качествах, затем тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли, и стала хлопать вместе со всеми. Налила виски, зажгла сигарету, смахнула руку с колена.
Уголком глаза я заметила, как открылась дверь. В клуб вошел какой-то мужчина. Он сделал несколько нерешительных шагов – это явно был не завсегдатай. Я обернулась и покраснела.
Возле барной стойки стоял Юсукэ и разговаривал с мамой Моритой. Он выглядел великолепно в шелковом клетчатом пиджаке и брюках цвета хаки. Приятное разнообразие по сравнению с темно-синим полиэстером, который окружал меня каждый вечер. В его присутствии «Ча-ча-клуб» выглядел еще более жалким, чем обычно.
Мама Морита кивнула и указала в мою сторону.
Она наверняка рада, что я привела нового посетителя. Я смутилась, но все же была немного горда собой.
Сидеть было негде. Мама Морита принесла пару стульев и поставила их так, чтобы нам достался угол чужого столика.
– Ну, – сказала я, – ты все-таки меня нашел.
– Неплохое место, – сказал он, оглядывая клуб.
Я не поняла, серьезно он говорит или иронизирует.
– Это я нарисовала, – сказала я, указав на серфингистов на стене. Надо было его опередить, пока он не начал разносить картину в пух и прах.
Он внимательно изучил рисунок: три фигуры на фоне прибоя, безлицые, словно японские призраки.
– Неплохо, – сказал Юсукэ. – Как случилось, что твоя работа висит в этом клубе?
Я рассказала, как получила этот заказ. Мама Морита заплатила мне пятьдесят тысяч иен. Ровно столько я отдавала в месяц за квартиру. И еще она намекнула, что, может быть, закажет еще одну картину. Подарок на день рождения дочери. Что-нибудь, что можно повесить в гостиной.
– Ты могла бы получить больше, – сказал он. – По крайней мере вдвое.
Может, и так. Это ведь был период, когда люди могли выложить целое состояние (пусть и небольшое) за картину Ван Гога или Моне. Искусство тогда было на подъеме, а у людей были свободные деньги. Я каждый вечер видела, как они летели на ветер, вернее, лились от заката до рассвета вместе с импортной выпивкой.
– Послушай, тебе ведь не обязательно тут работать, – сказал он. – Если ты можешь так писать, тебе надо уходить отсюда.
Мне тогда не пришло в голову, что у него могут быть свои причины, чтобы так говорить. Я не подумала, что ему, может быть, было бы неприятно встречаться с хостес. Мне так понравилось то, что он сказал обо мне, что я не обдумала его слова хорошенько. У меня появилось ощущение, что как художница я стою гораздо больше, чем считала до этого. Я чуть придвинулась к нему, и наши колени соприкоснулись.
Он секунду смотрел на меня, затем отодвинулся.
– Увидимся завтра, – сказал он и встал. Подошел к бару, достал бумажник и расплатился. Я расстроилась. Он не притронулся к напиткам, не притронулся ко мне. Видимо, как хостес я никуда не гожусь.