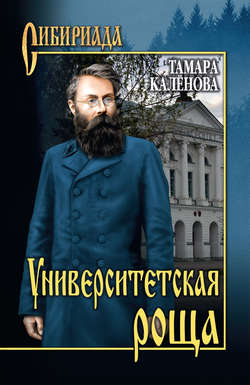Читать книгу Университетская роща - Тамара Каленова - Страница 7
Первое августа
ОглавлениеС перевозом через Томь Крылову повезло: одна-разъединственная лодка на левом берегу словно бы именно его и дожидалась.
– Припозднился, барин? – ласково спросил остроголовый старичонка, высоконький, сухонький, без бровей и ресниц, но с длинной пшеничной бородой, прикрывающей выступ горба на правой стороне груди; точь-в-точь полевой дух, младший братишка леших да водяных, о которых рассказывали успенские ребятишки.
– Это верно, припозднился, – ответил Крылов, радуясь, что с перевозом так славно уладилось. – Старицу пришлось обходить. Много времени потерял.
– Да уж так, с отселева прямой дороги нет. Курьи да петли, да протоки. Речка здеся как хошь гуляет, низина, – согласился «полевой дух», проворно выпутывая толстую веревку из чернотала. – Садись, барин, а я отпехнуся.
Он дождался, когда пассажир усядется на скамеечке, груз свой непонятный – торбочку на широких ремнях да плоскую, будто книжица, коробку – разместит в сухом месте, и только потом легко, по-молодому оттолкнул плоскодонку и впрыгнул на корму. Течение подхватило вертлявую лодчонку, и оба берега – высокий и низкий – зашевелились, поползли в стороны.
– Ноне перевоз на Томи не то-о-т, – заговорил доверчиво старик, усердно махая короткими лопастистыми греблами. – Раньше, бывалоче, выехают купцы в заречье гулять… Шумота, гармонии на все ряды тянут, девки, будто от щекотки, заливаются! Вечером факела позажгут, по воде плотики с кострами пущают… Красота. Антирес.
По рублю за лодку давывали. А теперь што? Сенопокосники да рыболовы. Да ваш брат, одинокие. Ну, татары на базар когда… Скучно.
Опершись локтями на ботанизирку-папку, Крылов задумчиво глядел на прозрачную воду, на приближающийся сизо-зеленый уступ Лагерного сада. Во все времена старики упрямо твердят: не то ноне, не так… И не понимают, что тоскуют не о сегодняшних переменах, но о своей молодости, когда все вокруг действительно было другим, более ярким, звучным, веселым. Странная, хрупкая, словно белый мох-ягель, пора юности… Знакомый Крылову врач-психиатр так и говорил: «Прошел, миновал благополучно юность, проживет человек и дальше. Жизнь ломает не человека, а его молодость. И если сломана молодость, загублена и сама жизнь».
Вспомнились Акинфий и девушка с бесовыми косами. Где-то они сейчас? По какому острию бредут? Ощущение трагической судьбы этих молодых людей, волею случая знакомых Крылову, нет-нет да и посещало его. Скрытая страсть одного и необыкновенная красота другой ставили в особо опасные условия их обоих. Как-то выдержат они…
– Берегись, барин, – предупредил старик, и лодка тупо уткнулась в каменистый берег.
Крылов вылез из неустойчивого суденышка, отдал полтинник. Обрадованный щедрой платой, перевозчик поклонился в пояс – борода мазнула по мокрой гальке.
– Удачливой тебе дороги, барин!
Взобравшись по тропе наверх, Крылов немного постоял на обрыве, провожая взглядом закатное солнце.
Хороши, по-своему необыкновенны подгородные места вокруг Томска! Холмы, неглубокие впадины, прозрачно-светлые речушки и крохотные озерки, разнопородный лес, неожиданные наплывы черно-зеленых, похожих на кучевые облака, кедровников, невестины хороводы белого дерева – березы, алые пятна рябиновых и калиновых зарослей – все это складывалось в картину яркую и неповторимую.
В первые дни Крылов ходил оглушенный этим великолепием и простором. Ему не хотелось возвращаться в пыльный и шумный город. Но дело, ради которого он бродил в этих живописных окрестностях, напоминало о себе разбухшей ботанизиркой да вот этой, холщовой своедельной торбочкой, набитой растениями. Собранное богатство необходимо было срочно рассортировать, привести в порядок, дабы не превратить научную коллекцию в никому не нужные пучки ломкого сена. И он торопился в город, домой.
Первые же экскурсии дали свыше трехсот видов туземной флоры, никем дотоле не описанной. Как ботаник Крылов был счастлив. Несколько видов зверобоя, горечавка полулежачая, щитовник, борщевик, сладкая трава, дикий чеснок-черемшан, заросли иван-чая, кандыка, брусники, кермека Гмелина, кровохлебки, изобилие ягодников, рябины, черемухи, хмеля… Знакомые и незнакомые виды растений будоражили воображение, хотелось сразу, немедленно собрать их в огромный букет, рассмотреть, понять, выделить полезные человеку… Световой день, который летом в Сибири длится значительно дольше, чем в Европейском Зауралье, пролетал, как единый миг.
Крылов поправил на плече увесистую торбу, подтянул потуже матерчатые завязки на походной папке и, с сожалением покидая берег Томи, зашагал между берез Лагерного сада к Симоновской улице, по которой пролегала самая короткая дорога к университету.
С заречной стороны, подгоняемая бойким ветром, наползала темная туча. Она шла низко и как бы нехотя, примериваясь, где бы опустошиться. Первые капли, крупные и редкие, пробили сатиновую рубаху Крылова, заставили убыстрить шаг. Ливень, из тех, которые как из ведра, настиг его недалеко от кирпичных сараев, за Тюремным переулком. Решив немного переждать, Крылов вошел в один из них.
Остановился у дверей. Потер глаза, привыкая к сумраку рабочего помещения.
То, что он увидел, поразило его, поначалу показалось нереальной, ненастоящей картиной. В глубине сарая медленно, в непонятном ритме и угрюмом молчании топтали глину босыми жилистыми ногами полуголые, оборванные мужчины. Здесь же, у их ног, такие же испитые горем и нуждой женщины вручную делали кирпичи. Тоже молчаливые, раньше времени состарившиеся дети таскали сырые издельица, похожие на маленькие гробики, куда-то дальше, в конец длинного приземистого строения.
Знобящий дух сырой глины. Тусклый свет из незастекленных прорезей у самой крыши. Сквозняки. Монотонная работа.
На Крылова никто внимания не обратил. Ни на секунду не оборвался трудовой ритм, и только где-то в глубине сарая возникла невнятная протяжная песня, такая же унылая, как сам труд, как лица работников.
На кресте сидит вольна пташечка,
Вольна пташечка, разсоловьюшка,
Далеко глядит, на сине море…
Мальчуган лет восьми, пронося мимо ведро с известью, хрипло бросил:
– Бойся!
Крылов посторонился. На душе сделалось стыдно, тоскливо, будто он сам лично виновен был в этой адовой картине натужного труда, в хриплом говоре ребенка-мужчины, в нищете и грязи…
Ему доводилось бывать на кирпичных заводах – с вагонетками, с лошадьми, большими печами для обжига; в Томске работало несколько подобных фабричонок, и труд на них был не из чистых. Но о существовании вот таких сараев с примитивной ручной выделкой кирпича, с такими ужасными условиями – он даже не подозревал. Вот, значит, из чего выстроен белый университетский корпус… Как не стоять ему в веках, коль скреплен он детским потом и слезами…
Не выдержав растущего в душе натяжения, мучаясь без вины виноватый, он вышагнул из сарая и, не обращая внимания на хлеставший дождь, ожесточенно меся грязь, двинулся к дому.
В университетскую ограду пришел до нитки промокший, потеряв где-то по дороге походную свою кепочку. И только здесь заметил, что картонная ботанизирка раскисла до основания, и многие растения для засушивания не годятся. Зареченская экскурсия почти вся пошла прахом.
Не заходя домой, Крылов пошел в дровяник и долго, до изнурения, рубил дрова…
…Пономарев с трудом отобрал у него топор.
– Это же форменное истязание! Разве ж так можно? Мы с Габитычем с ног сбились, стол накрыли, господин попечитель обещался быть, а вы дрова заготовляете! Как прикажете вас понимать? Фанфаронство али капрыз?
– Фанфаронство, – опомнился Крылов; в самом деле, сегодня ж первое августа, день его рождения, тридцать пять лет стукнуло… – Ты, как всегда, прав, как всегда, в точку, любезный Иван Петрович. Ладно, каюсь. Веди меня…
Небольшая квартирка в университетском флигеле сияла чистотой и светом. Расставлены по стенам полки с книгами. Топорщит шершавые листочки погибавший было ванька-мокрый, скромный домашний цветок. Шаят, горят жаром, без пламени, березовые поленца в самодельном камине. Почвикивает в клетке щегол. На столе хрустальный графинчик с можжевеловой настойкой, поздравительная депеша от Машеньки.
Крылов с благодарностью посмотрел на Ивана Петровича. Усилием воли отодвинув видение кирпичеделательного сарая, – не забыл, нет! – отодвинул. Тридцать пять лет… Эх, кабы дни ангелов приносили одну только радость…
Господин попечитель Василий Маркович Флоринский не зря имел репутацию точного и обязательного человека. Ровно в девять вечера о его появлении возвестил медный колокольчик в прихожей.
Крылов вышел встречать.
Сановный гость был не один, с супругой.
Крылов принял у Марии Леонидовны летнюю накидку, а также трость, шляпу и макинтош Василия Марковича. Плащ из непромокаемой прорезиненной ткани – изобретение шотландского химика Чарльза Макинтоша – был чудо как хорош: новенький, легкий, на белой шелковой подкладке, просторный, словно римская тога. Василий Маркович одеваться любил и не жалел, видимо, средств на модные вещи.
– Милости прошу в комнаты, – пригласил Крылов, смущаясь бог знает отчего и ругая себя за это; ну, подумаешь, зашел на чашку чая начальник с супругой, что ж теперь – в трепет входить?
Мария Леонидовна, обладавшая чутким и добрым сердцем, догадалась о смятении хозяина и ободряюще улыбнулась ему. Ее большие серые глаза засияли дружеским расположением.
– О, да вы недурно разместились! – похвалила она, оглядывая нехитрое убранство крыловского жилища. – И книг у вас изрядное количество. Ботаника, география… Гумбольдт, Ледебур, Миллер…
– Благодарю вас, Мария Леонидовна, – ответил Крылов, чувствуя, как проклятая робость постепенно проходит. – Библиотека у меня действительно, в основном по специальности подобрана. За что не раз получал упреки от моей супруги. Она любит французские романы и расследовательскую литературу, к коим я равнодушен, и порой сердится, когда я забываю их выписывать.
– Ах, я тоже обожаю всякие авантюрные книги! – подхватила госпожа Флоринская, опускаясь в кожаное кресло с высокой спинкой. – Рокамболь у Понсон дю Террайля – это необыкновенный преступник. Это вор-джентльмен, и его обаянию трудно противиться.
– Да? – иронически переспросил Василий Маркович. – Что-то я не припомню в своей библиотеке этих самых рокамболей…
– И не припомните, друг мой! – с вызовом сказала Мария Леонидовна и повертела на пальчике золоченым ключиком, пристегнутым к поясу изящной цепочкой. – Они все покоятся в моем шкапчике, – и, обращаясь к Крылову, продолжила: – Габорио и Дойл, без сомнения, прекрасные авторы. И мне, русской патриотке, жаль, что «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского уступают западным писателям в живости изложения.
– Простите, не осведомлен в этом вопросе. Не читал Крестовского, – повинился Крылов.
А Флоринский взмолился:
– Матушка, помилуй, совсем уморила ты нас с Порфирием Никитичем своими дойлами и крестовскими!
Мария Леонидовна кинула на мужа обидчивый взгляд, хотела было что-то сказать в отместку, но тут подоспел расторопный Иван Петрович с пирогом на китайском фарфоровом блюде, сделал глазами – и Крылов, подчиняясь его знаку, пригласил гостей к столу.
От пирога распространялся рыбный дух, смешанный с запахом пропеченного теста. Иван Петрович сиял, ожидая похвалы.
– А пирог недурен, – сказала Мария Леонидовна, откушав кусочек, положенный на ее тарелку. – Сами готовили?
– Так точно-с. Сам, – Иван Петрович чуть не прослезился от умиления. – Сибирский пирог-топтанник. Клади в него все, что съедобно: рыбьи пупки, печень, кишочки, молоки…
Рука госпожи Флоринской дрогнула, и лицо ее выразило растерянность.
– Нет-нет, не сомневайтесь! – поспешил ее успокоить Пономарев. – Я и кусочки стерляди положил!
– Благодарю, – ответила Мария Леонидовна. – Я, пожалуй, съем еще свекольного салату.
Несмотря на этот маленький инцидент, пирог именинника все же наполовину был съеден. Разговор мало-помалу выправился, задевая легкие, малозначительные темы: о погоде, которая вроде бы и ничего, да порой проявляет себя капризно, как вот сегодня, когда ни с того ни с сего потянуло из мокрого угла, о газетных новостях…
Тут уж Иван Петрович не преминул вставить свое слово, стараясь вновь завладеть вниманием дамы. Слово его было посвящено… автоматам, механизмам, которые подражают движению живого существа и «сходствуют с этим существом в наружных формах».
– В древности были известны многие автоматы, – с увлечением рассказывал Пономарев. – Деревянный летавший голубь Архиты Тарентского – 408 год до Рождения Христа, а также летавший металлический орел и ползающая улитка Дмитрия Фалерейского. Но самое главное – андроид Птоломея – Филадельфа. Он, как пишут древние авторы, производил огромное впечатление! В средние века появилась говорящая голова Роджера Бэкона, летающие муха и орел Региомонтануса и ходячий по комнате андроид Альберта Великого!
– Да это же целое научное исследование! – заметил с улыбкой Флоринский. – Я поражен вашей памятью, Иван Петрович!
Польщенный, Пономарев повел тему далее.
– А в 18-м веке появились новые автоматы. Флейтист и утка Вокансона. Девица-андроид, игравшая на фортепиано, мальчик, писавший с прописи несколько фраз, и андроид-рисовальщик, выполнивший несколько весьма отчетливых рисунков. Все они суть изобретения братьев-швейцарцев Петра и Генриха Дроз.
– Что ж ты из отечественной истории никого не приводишь? – упрекнул родственника Крылов. – Разве на Руси мало изобретателей?
– Совершенно точно, – согласился Иван Петрович и, наморщив лоб, извлек из своей действительно бездонной и беспорядочной памяти русское имя: – Кулибин! Мой одноименник – Иван Петрович Кулибин! У него есть зеркальный фонарь и замечательные часы…
Мария Леонидовна была в совершеннейшем восторге от небывалой осведомленности Ивана Петровича. У них завязался обособленный разговор. Пользуясь этим, Крылов и Флоринский удалились в кабинет – выкурить по трубочке «амерфортского».
Как-то незаметно, сама по себе, их беседа сошла на дела.
– Когда я вернулся из инспекторской поездки по губернии, – благожелательным тоном начал Флоринский, – то не узнал университетского места. Поломанные во время строительства деревья убраны, дорожки расчищены, работы в оранжерее идут полным ходом. Как это вам удалось за столь короткое время?
Крылов повел головой, как бы отстраняя похвалу в свой адрес, и глуховато кашлянул:
– Вот с оранжерейкой, Василий Маркович, как раз беда.
– Что такое?
– Архитектор не ставит рабочих, говорит, не время. Крышу занизил, – Крылов загорячился. – А когда время? Когда все померзнет в сарае? А он в это время подрядился купол Троицкого собора перекрывать…
– Ну что вы, успокойтесь, – нотка неудовольствия скользнула в мягком голосе Флоринского. – Померзнуть не дадим, не для того мы вас из Казани выписали. А относительно архитектора – это несправедливо. Я ведь знаю, вы с ним имели уже удовольствие схватываться. Нет, нет, он не жаловался! Из других источников знаю, – сделал протестующее движение Флоринский. – Господин Наранович человек молодой, большого опыта в подобных строительствах до сего времени не имел. Но он чрезвычайно старателен, где может, удешевляет стройку, что при наших-то средствах… – он вздохнул, давая понять, как отягощен грузом обязательств и забот. – Что касается купола собора, то это я ему позволил. Да-с. Кто ж, кроме нас, в силах здесь совершить сие богоугодное деяние?
– Я не против богоугодных деяний, – пытаясь смирить горячность, ответил Крылов. – Я против того, чтобы наносить вред делу в самом зародыше. Крышу надобно в оранжерейке поднять. Утеплить получше.
– Хорошо, мы подумаем, – пообещал попечитель, и это «мы» прозвучало не как «мы с Нарановичем», а как «мы, Флоринский». – Расскажите-ка лучше, что в Казани?
– В Казани все по-прежнему. Профессора кто наукой занимается, кто в летнее турне по Европе с семьями отправились, кто в экспедициях. Студенты на вакациях. В городе тихо. Яблоки поспевают… Кстати, Василий Маркович, я осмелюсь напомнить, что молодой и талантливый ботаник Коржинский ждет вашего решения относительно своей судьбы.
– Да, да, я знаю, – рассеянно проговорил Флоринский, погрузившись в воспоминание о своем жительстве в Казани. – Ах, яблоки, яблоки… Здесь, в Сибири, этого не видать.
– Отчего же? – не согласился Крылов. – Вот ужо отстроимся, заведем отдел плодовых культур, и с яблонями, бог даст, попробуем. Отчего не попробовать.
– Это правильно, – одобрил Флоринский. – Ботанический сад в Томске должен быть первым на всю Сибирь и непревзойденным!
Крылову не хотелось разрушать горделивое настроение дорогого гостя, но язык сам, против воли, произнес:
– Простите, Василий Маркович, уж не первый…
– Как это? – вскинулся Флоринский. – Нет, позвольте…
– Были в Сибири ботанические сады, – тихо, но упрямо продолжил Крылов. – Да не сберегли их.
– Где именно? Когда?
– В середине прошлого, восемнадцатого, столетия. В Тобольске. Помните, указ государя Петра по Тобольску? Чтобы «улицы сделать и размеривать прямы, чтоб двумя телегами возможно было разъезжаться свободно…»
– Припоминаю, – отозвался Флоринский и, скрестив на груди маленькие, как у женщины, руки, с интересом посмотрел на хозяина.
– А далее – в этом же указе – об аптекарском огороде сказано, – продолжал Крылов, не замечая, как начинает сбиваться на лекционный тон. – Первый ботанический сад, а ныне Аптекарский огород, был основан по указу Петра в 1706 году в Москве при Медико-хирургической академии. В 1713 году появился второй – в Санкт-Петербурге. Примерно в это же время лесной знатель Фокель заложил свою знаменитую лиственничную рощу близ Петербурга и проводил там опыты. В Тобольске же Аптекарский огород появился лет на пятнадцать позже фокелевских работ. Он-то и стал в Сибири первым… И еще доподлинно известно, что некий Лаксман в 1765 году создал в Барнауле небольшой садец. Потом, когда он из Барнаула съехал, его детище Петр Иванович Шангин воссоздал. По сути дела Шангин является первым ученым садовником на Алтае. В 1812–1815 годах в барнаульском ботаническом саду благополучно произрастали представители китайской и алтайской флоры…
– Да-а… Великий государь был в России Петр Алексеевич, – с чувством произнес Флоринский, пропуская мимо ушей неизвестные ему имена Лаксмана и Шангина. – Его аптекарские огороды в Петербурге и в Москве вон в какие научные гнезда возросли! Вот бы и нам, Порфирий Никитич, Москву да Петербург переплюнуть?
Крылов улыбнулся: очень уж откровенно, по-детски прозвучала жажда господина попечителя переплюнуть; он почувствовал теплое чувство к своему начальнику.
– Переплюнуть, быть может, и не удастся, Василий Маркович, а вот свое обличье приобресть возможно.
– Ну-ка, извольте, – искренно оживился попечитель. – Весьма любопытно узнать вашу точку зрения на сей предмет!
Ну, что ж, коли Василий Маркович желает знать точку зрения садовника Крылова, он не станет скрытничать, поделится заветными думами…
Много изучил Крылов стилей садово-паркового искусства. Уважал доведенную до совершенства эстетику растений у японцев.
Их вековые три культа, три всенародные поклонения – цветам, луне и снегу – считал непревзойденным в своей философии и изяществе. Для японца дерево живет само по себе, стихийно, если его не растит человек. Если же человек приложил к нему хоть малую толику своего труда – это уже искусство. Глубокая мысль лежит в основе понятия о прекрасном в японской эстетике. Здоровое, стройное дерево, например прямоствольная сосна – да, оно красиво, приятно для глаз. Но сосна, выросшая в морщинах скалы, искривленная, гнутая всеми ветрами, потерявшая часть веток в суровую зиму, испытывающая постоянно то жажду, то голод, – и выжившая-таки! – это сосна прекрасна вдвойне.
Нравится Крылову и традиционный ансамбль японского сада: крошка-пруд или нить ручейка, горка с растениями, горбатый мостик. Песок – символ безбрежного океана. Изогнутый мост – соединение природы и человека…. В тихий восторг привели его как-то стихи:
Старые деревья… Тропинки для человека нет.
Глубокие горы. Откуда-то звон колокола.
Голос ручья захлебывается на острых камнях.
А вот разделение парков на три типа: сад камней, сад воды, сад деревьев – казалось искусственным. И увлечение японских чудодеев-садовников карликовыми деревьями тоже не одобрял. Ну, что за клен – в миниатюрном горшочке, с карандашным стволиком и копеечными листочками?! Может быть, это кому и забавно… Ведь потешаются до сих пор острословы над затеей Петра Великого создать в Российском государстве породу маленьких людей. Во всех подробностях передают историческое событие, как 14 ноября 1710 года Петр I сочетал браком своего любимого карла Якова Волкова с карлицей царицы Прасковьи Федоровны, на свадьбе были все карлы Москвы и Петербурга – 72 человека. А Крылову об этом думать больно. Насилие над природой чудится.
Любопытна ему как садовнику и английская манера. Просторные чистовины с подстриженными деревьями, ровная щетина однотонной травы, одинокие деревья на оголенных холмах.
Не лишен приятности и облик французских парков: пышный, непринужденный, бьющий на декор и развлекательность.
А всего милее сердцу стиль русского естественного ландшафта… И не потому, что сам Крылов русский, нет! Он знал сколько угодно соотечественников германо-, англо– и прочих – филов. Встречались ему и немцы славянофильского направления, и французы, равнодушные ко всему французскому. Так что не в национальности дело. Точнее не в ней одной.
Для русского человека природа – это не просто пейзаж, который может веселить или прискучивать; прежде всего, это место обитания, мера труда – пашни, сенокосные луга, лес-кормилец, рыбистые реки… Но самое главное – простор, свобода, Дар божий.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до зимних первых бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле.
В сознании Крылова эти строки тютчевского творения почему-то соединились с ощущением русского приволья, простора, хотя об этом в стихах не было сказано ни слова. Он любил их повторять мысленно. Особенно – «на отдыхающее поле».
Классический русский садово-парковый ансамбль по сути своей был максимально приближен к естественной природе. Он не терпит насилия. К сожалению, об этом как-то стали забывать. За классику пошли выдаваться сады Царского Села, где мода английская вытесняла голландскую и наоборот, где стволы деревьев чистили и мыли, как спины породистых лошадей, а талант садовников употребляли прежде всего на то, чтобы потрафить, удивить, поразить…
– Помилуйте, Порфирий Никитич! – полушутя поднял руки Флоринский. – Уж вам и Царское Село не угодило? Красота, богом дарованная…
– Человеком, – поправил Крылов и замолчал, догадываясь, что где-то переоткрылся в собственных чувствах и оттого выглядит нелепо и, может быть, даже смешно.
Однако Флоринский смотрел без насмешки: вот, однако, ты каков, выписанный из Казани ученый садовник! Да такой горы свернет… Именно он, Порфирий Крылов, и нужен был Томскому университету. Они созданы друг для друга. Флоринский не ошибся…
– Я готов дружески помогать во всех ваших замыслах, – торжественно произнес Василий Маркович, чистосердечно полагая, что уж с Крыловым-то ему делить нечего и, следовательно, дружеские отношения вполне возможны меж ними. – Вы только не стесняйтесь. Буду рад.
Они осушили еще по рюмочке настойки – за здоровье именинника, а также за творческое содружество в стенах благословенного Сибирского университета – во славу отчизны и русской науки!
Лицо Флоринского раскраснелось, утратило ту невидимую маску высокого чина, которая ставила преграду на пути более тесного общения с ним; Василий Маркович сделался чрезвычайно милым и доступным. Казалось, что с ним можно было сейчас говорить обо всем.
– Я вот когда ехал на пароходе, про Обского Старика слышал, – сказал Крылов, помня, что Флоринский, биограф великого хирурга Николая Ивановича Пирогова, сам известный врач-гинеколог, автор многих научных статей по медицине, увлекается историей, археологией, этнографией и фольклором. – Слышал. Но ничего не понял. Кажется, он пользуется популярностью среди местного населения. Вам что-нибудь о нем известно?
– О да, это действительно, местная знаменитость, – оживился Флоринский. – Один из остяцких идолов. Элемент язычества. Вообще, должен вам сказать, тема эта чрезвычайно интересна для исследователя. Богатейшее и невозделанное научное поле! Остяко-самоеды – пригнетенный народец, вымирающий. Как, впрочем, и многие другие сибирские инородцы. И верование у них неразвитое. Полупервобытное. Вот, к примеру, что мне известно… Многие племена в Сибири, самоеды в том числе, поклоняются горам и деревьям. Испытывают к ним, так сказать, особое уважение и удивление. В честь какого-нибудь дерева они вполне могут салютовать, стрелять из лука.
– Недурно, – заметил Крылов. – Деревья стоят салюта!
– Да, может быть, – улыбнулся Флоринский. – Так вот, в жертву деревьям, своим идолам они несут шкурки, те стрелы, которые убили много зверей на охоте, серебряные деньги, лоскутки и прочие предметы. В Шаркальском городке мне приходилось видеть Ортиха-истухана. Это друг и помощник их верховного божества Торыма. Представляете картину: без рук, без ног, лицо серебряное, голова деревянная. Одет в суконный кафтан. Ему тоже во время приношений охотники мажут рожу мясом, жирной рыбой, приговаривая: «Ешь, наш добрый бог! И давай нам рыбу!» А есть у них некто Мастерко… Это уже в другом месте, близ села Троицкое видел я. Так этот Мастерко – обыкновенный мешок, набитый другими, меньшими мешками, и сверху туго завязанный… И все. Да-а, насколько православная вера наша истиннее, человечнее, мудрее! – Флоринский медленно, с чувством перекрестился. – Представить себе не могу, как это можно поклоняться обыкновенному мешку!
– А я, напротив, не вижу в этом ничего не обычного, – возразил Крылов. – Поклоняются же золотым истуканам, каменным…
– Возможно, – не стал возражать Флоринский. – Однако мешок, как предмет культовый, для нас пример новый, неожиданный. Впрочем, насколько я успел понять, в Сибири многое для нас, ученых, оказывается новым.
Слушать Василия Марковича интересно. О своих поездках и археологических находках он говорил с жаром, с видимым удовольствием. Похвалился тем, что передал в музей университета более четырех тысяч предметов из собственной коллекции по археологии и этнографии. Пусть останутся потомкам, послужат науке, обучению студентов… Только бы поскорей Государь позволил начать занятия… Много, ох много еще противников у Сибирского университета! Однако ж, вот он, университет! Построен. Стоит гордо. Пройдешь по нему – и в душе надежда ширится: не зря, нет, не даром жизнь прожита, что-то и после тебя останется нетленно…
Вечер удался. Задушевный разговор не прерывался. Постукивали за окном редкие капли дождя. В комнате было тепло и сухо.
Василий Маркович рассказал о своем главном творении, об университете. Крылов был первым ученым сотрудником, приехавшим на службу в его университет, вот-вот подъедет из Казани еще историк и археолог Степан Кирович Кузнецов, взятый на должность библиотекаря, но Крылов был первым, а потому Флоринский и рассказывал так подробно и горячо именно ему – все, чем сам был захвачен в настоящее время. О том, что первоначальный план березовой рощи был составлен еще Гавриилом Степановичем Батеньковым в пору его работы в Томске еще до выступления на Сенатской площади, после чего этот превосходный инженер, изобретатель и архитектор получил два пожизненных титула: узник Петропавловской крепости и декабрист. Что отцы города, купечество, выделили для будущего храма наук один из лучших городских участков. Что храм наук строился вручную. Всего один механизм и применялся в возведении университета – водоотливная железная машина, приводимая в движение… людьми. И все-таки, благодаря настойчивости Флоринского, основные работы были выполнены в прошлом, 1884 году! Построены главный корпус, здание анатомического театра, Дом общежития для студентов, каменные оранжереи (достраиваются), здание газового завода, помещение служб с баней, кучерскими, прачечной, ледниками, каретниками и конюшней. И вот, полюбуйтесь – уложен торцовый тротуар перед университетом и вся усадьба огорожена! Заканчивается установка газового освещения и система снабжения водой. Под горой, там, где будет аптекарский огород, уже заложена сеть подземных труб для сбора в особые колодцы отличной ключевой воды. Где еще в Сибири вы найдете столь высоко поставленное дело? Нигде!
Сколь тревог, волнений и докуки пришлось испытать, по каким кабинетам выхаживать, горы бумаги на статьи, прошения, записки извести. Пока дело это сдвинулось! Что Ядринцев… мальчишка, ему было 21 год, когда он ратовал за Сибирский университет. Собирался на взносы и пожертвования построить и открыть его.
Не-е-т, это государственное дело, никаким одиночкам оно не под силу, никакой «шапке по кругу». Хотя, надо отдать должное известному публицисту, он помог своими письмами наклонить и начальствующих людей, и общественное мнение в пользу Томска. Дело в том, что поначалу было принято решение строить университет в Омске: дескать, центр обширного края, в нем живет сам генерал-губернатор… Но Флоринский думал иначе. И когда полный неуспех его чаяниям, казалось, был предрешен, Василий Маркович выступил в петербургской газете «Новое время», 2 сентября 1876 года, со статьей «Пригоден ли Омск для университета?»
«Неужто в Петербурге воображают, что Омск чуть ли не столица Сибири и что кроме него нельзя найти лучшего города для университета? Открыть университет в Омске, значит похоронить его… Настоящий Омск напоминает военные поселения с казенной постройкою… Каждый смотрит на пребывание здесь, как на временный бивуак… Омск ничего не может дать университету, кроме чиновничьего характера, неудобства жизни и бедствия студентам… Человек науки в Омске цениться не будет. Другое дело в Томске. Там не университет пойдет за обществом, а общество за университетом… В Омске науку будут терпеть, в Томске лелеять, ибо это будет гордость города, цвет его и слава…»
И подпись – «Старый сибиряк».
– Так это были вы? – удивился Крылов. – А я считал, что статью, наделавшую столько резонансу, написал Потанин.
– Нет, это был я, – с гордостью подтвердил Флоринский, умалчивая о том, что в то время карьера его повисла на волоске. – Меня подкупил энтузиазм томских предпринимателей, как только речь заходила об университете в их городе. В Омске – тишина, равнодушие. В 1803 году, за год до образования Томской губернии, сын русского промышленника Павел Демидов, образованнейший человек, выпускник Геттингенского университета, обучавшийся в Швеции у Карла Линнея, пожертвовал 100 тысяч на строительство университета в Киеве и Тобольске. Если в Киеве университет открыт в 1834 году, то до азиатского дело дошло только сейчас. И не в Тобольске, а в Томске. Здесь, подобно Демидову, золотопромышленник Захарий Михайлович Цибульский пожертвовал на университет сто тысяч. Промышленники и купцы из других сибирских городов обещали финансовую помощь.
В пользу Томска высказались Барнаул, Верхнеудинск, Енисейск, Иркутск, Мариинск, Нерчинск… Правда, Красноярск не дал ответа.
Да Тюмень переметнулась «за Омск». Так вот, дорогой Порфирий Никитич, и свершилось…
Флоринский замолчал. Кабы его слова да Государю в уши… Нет до сей поры высочайшего повеления об открытии уже построенного университета. Хоть сейчас можно студентов зазывать – ан нельзя. В череде препятствий это – самое загадочное.
Крылов понимал его. Столько сил отдать великому делу, предчувствовать его завершение – и не иметь возможности сказать себе: «Вот я разрешил задачу!»
– Бог милостив, Василий Маркович, – тихо сказал он, желая его утешить. – Государь откликнется. Должно быть, опять болен…
– Все может быть, – очнулся от задумчивости Флоринский. – Будем ждать и не терять надежду. У нас с вами так много еще несделанного…
Они вернулись в гостиную, где неутомимый Пономарев развлекал Марию Леонидовну. Флоринский начал прощаться. Мария Леонидовна тотчас подхватилась:
– Действительно, время позднее. Наша дочь Ольгушка, должно быть заждалась нас. Премного благодарны за приятный вечер, Порфирий Никитич. Прошу бывать у нас. Без всяких церемоний.
Она так нежно и преданно посмотрела на мужа: правильно ли я говорю, друг мой? – что у Крылова защемило в груди. Какая прекрасная супружеская пара… Всем бы так…
Гостей проводили до главного корпуса, где была квартира попечителя. Иван Петрович, совершивший несколько большее количество «опрокидончиков» настойки, чем следовало бы, вел себя шумно, по-детски громко радовался каждой звезде на небе. Мария Леонидовна смеялась чему-то. Флоринский снисходительно улыбался и говорил о том, что Петр I нич-че-го не боялся, а боялся одних тараканов… И что он, Флоринский, боится не тараканов, а людей с эластической совестью, что ему по душе такие люди, как ученый садовник Крылов…
Крылов слушал его, Пономарева, покорно запрокидывал голову, пытаясь отыскать Медведицу; странное и непривычное состояние владело им – хотелось, как во сне, оторваться от земли и пролететь хоть немного… Но невидимый груз придавливал его к земле, и с трудом давалось движение по тихому, уснувшему парку. Может быть, это был груз тридцати пяти лет, всей его жизни.
На кресте сидит вольна пташечка,
Вольна пташечка, разсоловьюшка…