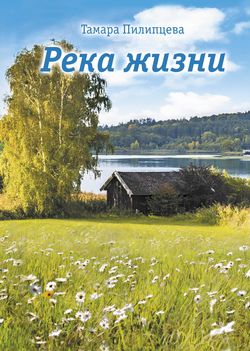Читать книгу Река жизни - Тамара Пилипцева - Страница 2
Часть I
Женщина – источник жизни
Глава вторая
ОглавлениеВесну деревня ожидала с тревогой и, одновременно, с надеждой. Надо как-то было выжить в это голодное время – запасы продовольствия, кормов подходили к концу.
Ночью Анисья прислушивалась к доносившемуся со стороны Белой шуму и треску, который то затихал, то усиливался. Налезая друг на друга, ломались льдины на реке. Звуки ледохода на Белой разносились далеко. От наползающих друг на друга льдин исходила могучая сила. А поутру и стар и млад шли к реке посмотреть на эту мощь. Увиденное так завораживало, что приходилось прилагать усилия, чтобы отвести глаза от этого наваждения. Вода уносила все плохое: мысли, слова.
Жизнь – это тоже река, с порогами и запрудами, по ней тоже нужно учиться плавать. И возвращались от реки усталые и притихшие, обновленные, как после обряда причастия. Значит, скоро она широко разольется. Радовались, что дожили до весны.
Василий сходил посмотреть на делянку с озимыми. Поля начали освобождаться от снега. Всходы на пригорке уже были ярко-зелеными, а во впадинах – темные, не просохшие от застоявшейся воды. Своим хлебушком не разбогатеешь, но жить можно. Едоков немного.
А у детей тоже забота, Василиса с Полиной трудились с самого утра. Вооружившись палками, пропускали весенние потоки. Все они неслись вниз к реке. И дети, устраняя запруды на пути воды, вместе с ручейком проделывали путь к реке. Освобождали ледяные заторы от преград, выпрямляли русло потоков. «Кораблики» из маленьких сучков деревьев цеплялись за кусочки льда, останавливались и начинали беспомощно кружиться, и тогда маленькие штурманы спешили освободить их из ледового плена. Доведя свое «судно» до Белой, девочки возвращались к устью ручья, и вновь и вновь без устали повторяли этот путь.
У стариков для разговора теперь одна тема.
– Ну как, Клим, какая весна нонче будет, затяжная аль быстрая? – спрашивает Лукьян Емельянович Левченков и хитро посматривает на своего кума.
– Быстрая, кум, дружная, теплая, – отвечает Клим Тихонович Козодоев.
– Ох, не пропустить бы сроки, – старики замолчали, всматриваясь в даль, как будто там искали подтверждение своим мыслям. Хорошо, если теплая, тогда бы все вовремя посеяли. Пора уже посмотреть озимые, как рожь перезимовала, появились ли всходы. С посевной нельзя торопиться. В холодную землю бросишь семена – не взойдут. По осени нечего будет собирать и пойдешь с котомкой по миру. Помнят, помнят старики голодные годы. Но и затягивать с посевной тоже нельзя. Вот и ходят Лукьян и Клим каждый день в поле. Не пропустить бы сроки, вся деревня с замиранием сердца на них смотрит. Землю в руках мнут, что-то шепчут, к носу приложат, вдохнут.
И вот оба старика в очередной раз, растерев по комочку земли в руках, понюхав их одновременно и одобрительно кивнув друг другу, зашагали в сторону деревни. Можно начинать сеять.
Назавтра все ринулись в поле. Василий запряг поутру кобылу, пристегнул соху и поехал на свою полосу. Трудное это дело – сохой пахать. Того и гляди, что она из земли выскочит, а опять ее в борозду вправить силы нужны. Особенно трудно, когда до конца поля дойдешь и ее надо заносить, кишки от натуги вылезают. Хорошо, если лошадь умная, в этот момент остановится. Скрип, лязг, окрики разносятся по всей округе. И вот уже на свежую пашню слетаются стаи грачей. А высоко-высоко в небе парит жаворонок. Песня у него звонкая. Похожа на тонкий ручеек, падающий с небес. Пахарь услышит пение, и усталость у него уходит.
В такое утро и маленькой Василисе не спится: смотрит, как мать печь растапливает. В печку поленья положила, чередуя вдоль-поперек, а потом лучину в середину. Василиса внимательно смотрит – загорится лучина сразу или погаснет. Огонь вначале был робкий, того и гляди погаснет, но наконец загорелся, и вот уже пламя захватило полено, которое поперек лежало.
Управившись с хозяйством, собрав еду в узелок, Анисья и Василиса отправились отцу помогать. И у маленькой Василисы свои обязанности имеются. Овес сеять. Наберет целое лукошко и идет, как царевна-лягушка в сказке. Машет рукой из стороны в сторону, и золотой дождь из горсти льется. Только не лебеди поплывут по озеру, а хлеб насущный взойдет. Уродится хлебушко, и голода не будет. А после овса на очереди лен, горох, ячмень.
Василиса смекалистая. Смотрит, как матушка делает, и все впитывает. Работа для крестьянского дитяти – естественное состояние, как дышать, как ходить. В пять лет уже не ребенок. Это уже помощник. Мальчики постигали многочисленные мужские крестьянские ремесла. Девочки – женские.
За день так уставали, что к вечеру в руках и ногах «трясучка» случалась. Ночь отдохнут – и опять в поле. Потому что весенний день год кормит.
Отсеяться надо быстро. Поэтому с утра до вечера все в поле. Остановятся, чтобы коня покормить да сами чего-нибудь перекусить, и опять за работу. В такие дни даже нерадивый хозяин лень свою оставляет на печке. Ему тоже приятно видеть плоды своего труда. Земля была главной ценностью для крестьянина. Кормился он с нее. Любовь к ней с детства прививалась.
Пасха в этом году поздняя. Весна была в полном разгаре. Снег давно растаял. Белая очистилась ото льда. Даже почки на деревьях зазеленели.
К Светлому Христову Воскресению деревня стала готовиться заранее. Это же самый большой православный праздник. Это праздник из праздников и торжество из торжеств. Потому что именно своим воскресением из мертвых, после распятия и гибели, Христос совершил небывалое: он победил смерть. Бабы в это время на улицах не показывались, чистоту в избах наводили перед праздником. Анисья стол, лавки, пол в избе скребла обломком косы до белизны. Икону убрала новым рушником с пестрыми петухами – зимой вышила крестиком специально к этому дню. Медный самовар до блеска начистила. Он достался им от родителей Василия, поэтому им особенно дорожили. В праздник самовар занимал на столе центральное место. С понедельника наступил строгий пост. Ничего, кроме хлеба, не ела Анисья. Страстная неделя. В чистый четверг уборку в избе завершила.
В ожидании праздника в доме установилось праздничное настроение. Василий и Василиса знали, что мамка обязательно сделает пирог. А вот какая будет начинка? Анисья никогда своих секретов не открывала: то ли рубленые яйца с луком, то ли сушеные грибы.
В четверг Анисья с дочерью красили яйца. А в Великую субботу они вместе с другими односельчанками, одевшись понаряднее, пошли в церковь на освящение пасхи, кулича и яиц. Церковь находилась в соседнем селе Поречье, что ниже по течению Белой, в трех верстах от Луговской. Идут мать и дочь – и душа у них поет. Дорога бежит вдоль Белой. Вот вышли за деревню, поднялись на пригорок, и вот церковь, как на ладони. Расположилась на самом высоком месте, на берегу реки. Вся белая, в зелени утопает. Люди шли к ней и в радости и в горе. Глаз отвести нельзя, а ноги сами летят, едва касаясь дороги. Умели на Руси строить церкви: отовсюду их было видно вокруг верст на пять. От вида куполов дух захватывает. В ясные погожие дни они видны были всей округе, принося радость и покой. Разговоры женщин стихли, а улыбки не сходили с лиц до самого храма.
Внутри церкви, вдоль стен, длинными рядами расположились иконы, с темными ликами, потемневшие от времени. Когда служба началась, маленькой Василисе казалось, что лики святых посветлели. И в церкви с маленькими окошками, которые едва пропускали свет, стало светло.
Анисья и Василиса стояли, тесно прижавшись друг к другу. В церкви и даже за ее пределами были расставлены принесенные для освящения пасхи, куличи, яйца.
Когда по воздуху поплыл колокольный звон, все замерли, а затем учащенно забилось сердце Василисы. Каждый удар то поднимал ее к самому небу, то опускал до самой земли. Молодой звонарь с упоением дергал веревки, и каждый присутствующий думал, что только он понимает те ноты и трели, которые он выписывал.
В воскресенье Василий ждал возвращения жены и дочери от заутрени. Есть хотелось, но терпел. Похристосовался с ними, когда вернулись, и терпеливо ожидал, пока жена развязала рушник и поставила содержимое на середину стола. Василий достал бутылку водки, настоянной на меду. В такой день грех не выпить. Вся семья в радостно-приподнятом настроении села за стол, уставленный скромными пасхальными яствами. Все съели по куску кулича. Василий для дочери выбрал самое остроносое малиновое яйцо. Его Анисья в отваре свеклы держала. Себе взял желтое, а голубое досталось жене. Знает, что это ее любимый цвет. А затем стали биться пасхальными яйцами.
– Давай, давай, смелей, – видя нерешительность дочери, подбадривал отец.
Расколотила Василиса яйца и отца, и матери. А ее яйцо целехоньким осталось. И зажав его в руке, побежала к Левченковым похвастаться. Яйцо-то оказалось непобедимым!
Затем Анисья завязала в платок кулич, несколько яиц и пошла к соседям. Весь день по деревне раздавалось: «Христос воскресе» и «Воистину воскресе». Радостью светились лица крестьян, ненадолго отодвинулись их заботы. В праздники народ добрее становится. Обращаясь друг к другу, величают по имени-отчеству, приглашают в избу, наливают и угощают.
Но праздники быстро проходят, и наступают будни с непрекращающимися проблемами. И взгляды сумрачные, беспокойные.
На пустыре появилась молодая крапива.
– Василиса, нарви крапивы, а я щи к обеду приготовлю, – просит Анисья.
– А крапивное пюре с куриным яичком сделаешь? – девочка заглядывает в лицо матери.
– Угу, – кивает та головой.
Девочка побежала на пустырь. Чтобы не обжечься стрекательными волосками, концом подола сарафана аккуратно отламывает верхние побеги. Крапивы надо побольше нарвать: часть матушка на солнышке посушит, а зимой ее будет в щи и хлеб добавлять.
Старики по весне лыко заготавливали и плели лапти. За год их изнашивалась целая прорва, на месяц две-три пары не всегда хватало. Плели многие, но самые красивые и прочные получались у Клима Тихоновича Козодоева. Он подбивал их дерматином. Носились эти лапти долго, а неподшитые мало служили, быстро изнашивались. Особенно быстро расползались лапти из-за грязи осенью и весной. Ногам в них холодно. Но если навернуть онучи, совсем другое дело. Красиво, и ноге тепло и уютно. Дед Клим плел и пел частушки про лапти. «Эх, лапти мои, лапти драные, вы не дорого даны, с бела лыка содраны». Увидев, что Марья Семеновна Шандыбина, жена Прохора, мимо идет, он тут же ее приветствует: «Ой, Семеновна, что наделала, из худых лаптей галоши сделала!».
Дети любили вокруг него собираться. Вначале стеснялись, хихикали, а потом притопывать начинали. Дед Клим все делал от души: и лапти плел, и частушки пел. Он и сказки мастер был сказывать. Каждый день мог новую рассказать. Повеселив детвору, пускался в философские рассуждения. «Каждому человеку, и не только человеку, а каждому земному тварю своя судьба определена, и не дано никому ее обойти, – обводит взглядом благодарных слушателей, и, помолчав немного, полюбовавшись сплетенным лаптем, продолжает. – Люди тоже дюже бывают похожи, кто на зверушек, а кто на птиц, а кто и на насекомых разных. Вот на кого я похож?». Дети молчат, они понимают, что у деда Клима есть ответ на этот вопрос. «Правильно, на волка, – и кивает радостно головой. – А вот ты, Фролка, – поворачивается к Фролу Монахову, внимательно на него смотрит, – на кого похож?». Мальчик краснеет, начинает шумно посапывать: как бы не осмеял его дед Клим перед друзьями. «На молодого петушка», – выносит свой вердикт Клим Тихонович. Затем медленно поднимает глаза и следит взглядом за полетом ястреба. «Вот стервятник, так и смотрит, кого схватить, заклевать, ну точно, как барский управляющий Силантий. Правда, похож?» – он подмигивает своим слушателям и заразительно смеется вместе с ними.
Помещики Луговские внедряли капиталистическую систему хозяйствования: покупали сельскохозяйственные машины, имели собственный рабочий скот, инвентарь, а с рабочей силой проблем не было, нанимали задешево.
На поле господ заработала молотилка для обмолота хлеба. Была она громадных размеров, с избу деревенскую с трубой. Грохот стоял по всей округе. Облака пыли окутывали работающих людей, а сбоку машины стекала золотистая пшеница. Крестьяне скошенные и связанные вручную снопы подвозили на лошадях. Солнце пекло, пот застилал глаза, грохот утомлял, но работали быстро. Замолкал шум молотилки только в сумерки. Расходились по домам молча, от усталости с трудом передвигая ноги. В такие дни с наступлением темноты деревня вымирала. Ночи летние короткие, и все быстрее старались лечь спать. На рассвете опять вставать…
Следом за господами и крестьяне стали готовиться к уборке. Лукьян Емельянович и Клим Тихонович взяли в руки по колоску ржи, стали разминать, зернышки легко отделились от плевы. Сошлись во мнении: «Можно убирать». На следующий день женщины с серпами потянулись к своим полоскам. Серпом сжинали хлеб, связывали снопы, и тут же снопы устанавливали в суслоны. Пусть дозревает да просушивается. Уберут рожь, а потом за ячмень, овес примутся. Долго еще женской спине страдать. Много чего в жизни крестьян происходило, но не было только одного: скуки. Некогда было скучать.
Анисья положила серп у ног, с трудом разогнулась. С удовлетворением посмотрела на снопы, прислоненные друг к другу колосьями вверх. Чем не шалаш? Василиса с Полиной уже заползали на четвереньках под хлебный кров. Рожь уродилась знатная. Снопы в человеческий рост, любо-дорого поглядеть. За ржаными снопами пойдут ячменные и овсяные. Но тревога из сердца не уходит. Надо успеть все убрать до дождя. Вот тогда можно считать, что с хлебом семья будет.
А за матерями идут дети и каждый опавший колосок в корзинки убирают, ничего не должно пропасть. Пригодилась Василисе корзинка дедушки Прохора, старается девочка не отстать от детей постарше.
Чтобы каравай из этих зернышек испечь, нужно отвезти снопы хлеба на гумно, просушить, обмолотить цепами, отделить солому от зерна, зерно провеять на ветру. И только тогда прочищенное зерно отвезут в амбар. Одна часть хранится на семена будущего урожая, другую часть увезут на мельницу – размолоть и получить муку.
Тяжелая пора – уборка зерновых. За день Василий и Анисья так уставали, что не помнили, как до полатей доходили. Засыпали сразу, будто в пропасть проваливались. А назавтра опять со всей деревней в поле. И пахали, и косили, и убирали, и рожали в поле, и детей растили здесь же.
Это вечная крестьянская забота, как прокормить семью. Эта рана точила хозяина, главу семьи, всю жизнь, из года в год, днем и ночью, летом и особенно зимой. Хватит ли до следующего урожая, как не умереть с голоду, не пойти по миру? Ничего ценнее хлеба не было. И никогда не угасала надежда на лучшую жизнь, что завтра будет лучше, легче, сытнее.
Маленькой Василисой овладевал восторг, когда она проходила мимо льняной полосы. Непонятно девочке, как из крохотного темного семечка поднимаются всходы, которые напоминали ей маленькие пушистые елочки. Лен тепло любит. Вон как мама переживала, когда в мае ночные холода наступили, и серебристый иней на них лег. Но они выстояли и радовали глаз светло-зелеными стебельками. Но больше всего нравилось девочке цветение льна. Как будто синь небес опрокинулась на поле!.. Но нахлынувшие мысли стерли улыбку с ее лица. Вспомнила, как прошлым летом теребила с матерью лен, как по рукам тек темно-зеленый сок, а ладошки были все в занозах; как потом в бане отмывала руки, и боль еще несколько дней давала о себе знать.
А вот молотить ей очень понравилось. Ей дали колотушку, и она била по верхушкам снопов, и мать ее нахваливала. Обмолоченные снопы расстилали рядами тонким слоем. Получилась серая дорожка, длинная-предлинная. Василисе казалось, что если побежать по ней, то можно добежать до неба. Но нельзя, испортить можно, и тогда матушка не сошьет новый сарафан, а тятенька будет ходить в заплатанной рубашке.
Еще Анисья спину не разогнула от уборки зерновых, а уже на огороде поспели овощи: картофель, лук, чеснок, морковь, свекла, капуста, репа, брюква. Лук убрала быстро, а за ним очередь картофеля. Это второй хлеб. Картошку забуртовали на огороде. Выбрали самую хорошую, без повреждений, без гнили. Аккуратненько края подровняли, обложили соломой, прикопали слоем земли. Лопатами похлопали. Теперь картофель до весны сохранится, будет что посадить на новый урожай. По весне, когда хлеба оставалось мало, в него подмешивали картофель и мякину. Хотя такой хлеб получался жесткий и невкусный, это было лучше, чем голодать.
Дети успевали и родителям помочь, и в костре запечь картофель. Ели его неочищенным, прямо с черной корочкой, обжигая руки.
Теплая осень всегда в радость людям. Бабье лето – это подарок природы крестьянину. Если что не успел сделать трудяга-человек, вот тебе еще несколько солнечных дней. Пока не зарядили дожди, нужно завершить полевые работы, заготовить дров к зиме. Да и просто погреться на солнце, посидеть на завалинке. Анисья работала на огороде, когда услышала курлыканье журавлей. Разогнулась и взглядом стала искать косяк в небе. Василиса подошла к матери и тоже запрокинула голову. Василий вышел из сарая и стал смотреть на улетающих в теплые края журавлей. Какая притягательность в этом скрыта! Каждый год улетают журавли, они летят теми же путями, какими летали их предки, они издают одни и те же звуки, назвать их криком, наверное, неправильно. Скорее, это пение журавлей, но песня их грустная. А другой она и быть не может, ведь они улетают из родных мест. Птицы с грустью смотрят с высоты на землю. И люди смотрели на них в небе. До весны уносят они песни своих родных полей, лугов, лесов. На чужбине им не поется. Переждут холода – и быстрее домой. Весной они снова возвратятся и будут петь звонкие веселые песни. И расскажут жителям Луговской и многих других деревень о своих странствиях, о тех теплых краях, где они перезимовали, о своей тоске по родине, а главное – известят о том, что пришла весна. И когда высоко-высоко в поднебесье раздастся знакомый крик, вновь головы всех, кто его услышит, поднимутся вверх. И улыбки расползутся по лицам. И потеплеет у всех на душе. Как улетели треугольным клином, так и возвратятся. Вот так из поколения в поколение передают журавли память о дороге.
Но сейчас Василий, Анисья, Василиса возле своей избы, Прохор Шандыбин на другом конце деревни, а Марфа возле реки стояли, подняв головы, и смотрели до тех пор, пока журавли не скрылись из виду. Проводили стаи птиц в теплые края. Но что это за загадка такая, ну почему, почему так задевает души всех людей, от мала до велика, эти ежегодные прощания и встречи?..
А еще деревенская осень – это запах капустных листьев. Рубили хрустящие листья и квасили капусту. Не было семьи, кто бы этого не делал. Впереди зима. А она, как известно, все съест. Деревянные бочки еще летом приготовили: вымыли с крапивой и речным песком, кипятком ошпарили да просушили.
Приходит время, когда осень начинает брать верх над летом. Рябины еще стоят в зеленом наряде, но одна-две ветки покраснели, и это примета осени. Уже потерял свою яркость березовый лист, и березоньки призадумались: то ли побороться за наряд, то ли начать сбрасывать листья и приготовиться заранее к зимней спячке. А вот осина одна из первых сдается, листья уже побагровели. Да и потрепали изрядно ее ветра и дожди.
Василиса росла общительной, любила играть со сверстниками. Но и взрослых нравилось ей слушать. В мире взрослых больше интересного. Однако и в одиночестве любила помечтать. Маленький человек устроен так же, как и взрослый: наряду с тягой к общению он стремится к уединению. Выполнив домашнюю работу, Василиса бежала в какое-нибудь любимое ею местечко. У каждого ребенка оно свое, куда он прибегает, когда ему хорошо и когда плохо. У нее было несколько таких мест, что-то вроде потайных комнат, только без стен и крыши. Одно из них в углу сада, где росли мамины васильки. Передалась ей любовь к василькам. Она отнесла туда старый отцовский армяк, садилась на него и, прислонившись спиной к старой яблоне, мечтала.
А другое – недалеко от дома, в овраге, в глухом месте, где не проходили дорожки. Когда только Василиса родилась, Василий посадил там березку. Она хорошо прижилась. Ее так и называли: Василисина береза. Береза росла вместе с ней. И с годами рядом с ней раскинулись заросли ракиты, черемухи, ирги, кроны их сомкнулись, а внутри кустов образовалось пространство. В жаркий день туда любили залезать куры, прячась от полуденного зноя. Вот такое местечко и облюбовала себе Василиса. Разровняла землю, выдернула траву, из земли сделала полочки для посуды, развесила на кустах яркие тряпочки. В общем, как могла, украсила свое жилище. Наносила черепков от битой посуды. Тятя, по ее просьбе, сделал ей скамеечку, и «дом» преобразился, приобрел вполне жилой вид, не лишенный таинства. Подражая взрослым, принимала в доме гостью: подружку Полину. Угощала ее пирогами из глины, они вели беседы, ну точь-в-точь, как их мамы. И обязательно брала в свой дом любимую тряпичную куклу. Проголодавшись, кто-нибудь бежал в избу и возвращался с двумя ломтями хлеба. Девочки сидели на скамейке, грызли ржаные корочки, мечтательными взглядами обводя свое убежище.
Даже Фролка Монахов заглянул по-соседски в «дом» Василисы. Любопытно ему стало, почему девчонки так часто ныряют в заросли кустарников. У него и его друзей возле реки в зарослях ракитника и ежевики, обтянутых хмелем, тоже были потаенные места. Там можно было спрятаться от всех, притихнуть и помечтать. А еще, притаившись, можно через щели ветвей подглядеть за купающимися девчонками. А если убежище подходило к реке, то и посидеть, свесив ноги в теплую речную водицу.
На берегу Белой только дети, разомлевшие на солнышке, греются. Благодать! Река поблескивает. А в нее развесистая ива с поклоном наклонилась. Заглядывает в светлые воды реки. Любуется собой. И вправду красивая, есть на что посмотреть. Многочисленные тропинки вьются к ее берегам, разделенные зарослями кустарников. Босоногая Василиса с подружкой Полиной бегут по тропинке к речке. Светлые волосики заплетены в косички, в одной синяя ленточка, в другой – красная. Хотя не ленточки это вовсе, а полоски ткани. Но все равно красиво.
Мир ребенка отличается от мира взрослых. Это мир настоящего. Еще нет груза прожитых лет. Дети не тревожатся за будущее, ведь рядом с ними родители. Они с улыбкой встречают происходящие с ними события, а если и расстраиваются, то ненадолго. Ребенок более открыт, доверчив и поэтому более счастлив. Он умеет искренне радоваться пустякам.
Василиса все смотрит на дорогу, ожидает возвращения отца с ярмарки. Василий с отцом Полины, кумом Мироном, рано утром уехали в уездный город Белогорск. Поехали продавать рожь и льняное масло. Хороший урожай в этом году уродился. Можно деньгами разжиться да инвентарь прикупить. Василиса с Полиной уже и за деревню несколько раз сбегали, все смотрели, не едут ли их тятьки. А потом заигрались в своем «доме» в кустах и забыли про все. Услышали фырканье коня и помчались во весь дух к избе, только пятки сверкали.
А Василий уже покупки раскладывал и рассказывал. За пять пудов ржи приобрел кое-какой инвентарь, около шести аршин ситца и черные кожаные ботинки на высокой шнуровке – жене. У Анисьи даже дух захватило. Прижала ботинки к груди, глаза закрыла от радости, сразу из бабы в девку превратилась. Василий даже крякнул от удовольствия: не ожидал от жены такого бурного, искреннего проявления чувств. Василисе – ленты красные. И стал на стол высыпать сушки, выложил сахара большую головку.
Сам сапоги с ног снимает и посматривает на жену и дочь. А у самого в душе радость плескается. Ему сапоги от отца достались. Надевал их только по праздникам да в поездки. Еще послужат.
А Анисья все не может ботиночки из рук выпустить. Такие в грязь не наденешь, да и на каждый день жалко. А вот по праздникам или в церковь сходить… Это можно. Но в церковь не в них, конечно, пойти, а в лаптях, а перед церковью переобуться и перед алтарем в них постоять. Так надолго хватит. Еще и дочери достанутся. Анисье приятно, что у нее такие ботинки, как у Софьи Андреевны, ну, не совсем такие, но похожие. Да еще приятно, что муж купил, да как раз по ноге, с размером угадал. Это же надо, сам додумался купить, она бы никогда не попросила и сама не купила. Деньги и на хозяйство можно потратить.
В любой деревне всегда свой чудак найдется. Есть такая категория населения земного шара. Луговская не исключение. Мало того, что с такими людьми вечно что-то случается, так это становится достоянием всего околотка. Да они и сами любят подогреть интерес к себе. И неважно, сколько лет ему – коль это есть в человеке, то на всю жизнь. Народ над ними потешался, да и сами они давали для этого повод. И слыли чудаками и неудачниками.
Петуховых в деревне несколько семей было. Но примечательной была семья Петухова Кузьмы. Кузьма никого не боялся и никого не признавал. Это он так сам говорил. Но в действительности он многих боялся, только виду не показывал. Хорохорился, как говорили в деревне. Но кого он по-настоящему побаивался, так это свою жену Матрену. Когда Кузьма напивался (а это случалось не так уж и редко), она и поколотить его могла.
Работать он был небольшой охотник. Свое хозяйство в запустении держал. Матрена была и за мужика и за бабу, да еще и рожать успевала. А Кузьма охотнее в сторожа нанимался, чем с плугом и косой горбатиться. На этом поприще с ним всяческие забавные истории происходили, которые становились достоянием всей деревни.
Однажды ребята с гулянки шли и увидели, как сторож, охранявший сад господ Луговских, храпака такого давал, что не могли они не свернуть на этот зов. Кузьма возле шалаша на соломе расположился – ночи еще были теплыми – и вот рулады выводит. У сторожа был соломенный шалаш с таким маленьким лазом, что в него можно было влезть только на четвереньках и лучше пятиться, как рак, а то можно внутри и не развернуться. Поэтому в теплые ночи он предпочитал спать рядом с шалашом. Озорники нарвали яблок и обложили ими сторожа, а ногу привязали к столбу шалаша и начали яблоню трясти. Кузьма спросонья как рванул: и шалаш повалил, и сам распластался. Долго еще с поцарапанным лицом ходил…
Но и у него хватало соображения, чтобы всю деревню провести. Где-то в июле по деревне прошел слух, что в этом году возле Ярыгинских болот уродилась отменная малина. Бабы засобирались за полезной ягодой. Но на следующий день от дома к дому слух пошел, что Кузьма Петухов из лесу вернулся в разорванной одежде и с перекошенным от страха лицом. И всем охотно так рассказывал, что ходить к болотам в этом году не надо, потому что там завелся медведь, а может, и леший, он от пережитого ужаса не очень и разглядел. Еле ноги унес. Как чумовой, мол, улепетывал в сторону деревни, только пятки сверкали. Петр Петрович на своей новенькой бричке ни за что бы не догнал. А в доказательство показывал порванную одежду и царапины на лице. А сам свои плутовские глаза прячет.
Мужики заподозрили неладное и решили выведать, в чем дело, то есть «язык развязать». Сколько самогону на него извели, а все без толку. А Кузьма стал куда-то пропадать, ходил веселым и на народ свысока посматривал. Видно было, что распирает его от переизбытка чувств. Скоро секрет открылся. Поехал Матвей, сын Козодоева Клима, на базар в соседний уездный город Дубровицы и увидел Кузьму, продающего малину. Чудак, а скумекал, как конкурентов устранить! Долго бабы дарили ему косые взгляды. Только с тех пор ни с медведями, ни с нечистой силой в малиннике Ярыгинских болот никто не встречался.
Из Белогорска Василий приехал поздно. Анисья миску со щами поставила, ложки мужу и дочери подала: «Ешьте-ешьте, а то на голодный желудок цыгане приснятся». Василий шутку не поддержал, молча ужинал. Анисья видела, что глубокие складки пролегли на его лбу. Что-то его мучило. Но с вопросами не лезла. Сам расскажет.
– Слышь, мать, из уезда многие крестьяне уезжают за Урал. Большие наделы земли там дают безземельным, – старался говорить весело, а глаза прятал. Ничего не ответила Анисья, только руки, как две плети, повисли вдоль тела.
Во все времена в поисках лучшей доли снимались люди с обжитых мест, захватив в дорогу самое необходимое. Двигались туда, где, по их разумению, земли больше, а значит, жизнь сытнее. Мужик верил в существование земного рая и отправлялся на его поиски. Неистребимо желание человека дышать вольным воздухом и есть вдоволь. Часто тернистым оказывался этот путь. Но как-то приспосабливались. Не всегда им были там рады, но люди как-то договаривались с аборигенами и начинали осваивать землю, строить жилище. Проходили годы, и они становились частью местного населения, одни легко, а другие с трудом вливались в новую для них жизнь, трепетно оберегая свои обычаи, веру.
Ночь проворочалась Анисья. Василий спал в «полголовы», все взвешивал «за» и «против». Не по собственной воле пришла в голову мысль о переезде. Само государство притеснениями, поборами, бедностью подталкивало крестьянина к переселению. А на новых землях обещано много земли, а значит, жизнь сытая. А с другой стороны – хорошо там, где нас нет. Хоть и в нищете жили, но все-таки все свое, а уехать в далекие неизведанные края – это не к куму в соседнюю слободу съездить. А вдруг будет еще хуже? На что обреку жену и дочь? Василисе уже двенадцать годков минуло. Как слеп человек перед судьбой… На дороге судьбы тоже есть перекрестки. Не пропустить бы свой, а то свернешь не туда – и вся жизнь наперекосяк пойдет.
Завтракали молча. Глаз не поднимали. Но когда встретились глазами, ответ жена прочитала во взгляде мужа. И на душе стало легче.
– Пойду по хозяйству похлопочу.
На пороге обернулся. Обвел глазами свою избенку. Бросились в глаза занавески. Отбеленный холст так искусно вышит руками жены, что кто бы ни вошел в избу, останавливал взгляд на них. Да в избе, кроме сколоченных Василием стола, лавок и полатей, не было ничего примечательного, но все это было такое родное…
– Все-таки где родился, там и пригодился.
Анисья в знак согласия головой кивнула: где человек родился, там и помереть должен.
Задержал взгляд на иконе в красном углу и с улыбкой, на ходу накинув залатанный армячишко, шагнул в сени.
Никто в деревне не узнал об их переживаниях. Не любили они пустые разговоры вести. Василий скуп был на слова, да и Анисья не была болтливой. Не любила и о других сплетничать да худое говорить. Особенно не нравилось ей, когда преувеличивали, искажали и навешивали ярлыки тем, кто этого не заслуживал. Может быть, поэтому многие считали ее гордячкой, излишне строгой, чрезмерно справедливой. Но ценили за другие качества. Была она надежной, слов на ветер не бросала: если дала слово, то всегда сдержит. Поэтому и ее ровесники, и люди постарше всегда к ней относились с уважением. Знали: она не подведет.
Россия сотрясалась от русско-японской войны 1904–1905 годов, первой русской революции 1905-го, но эти события мало отразились на жизни одной из тысяч деревень России – деревни Луговской. Большая страна жила своей жизнью, деревня Луговская – своею, каждая отдельная семья – своею. В деревне больше обсуждаются свои, деревенские события. Все на виду. События обсуждаются разные: кто родился, кто крестился, кто женился, кто напился, кто помер. Трудно сохранить семейные тайны и происшествия. А они были трагические и забавные, печальные и радостные. И передавались они из уст в уста, из избы в избу. И истории эти в пути обрастали какими-то небылицами, перевирались.
В Луговской жизнь шла самая что ни на есть простая. Деревня вдалеке от городов, дорог. Редко какой чужак наведается. Кому-то может показаться, что такая жизнь однообразна и примитивна. А может быть, это и есть настоящая жизнь со множеством больших и маленьких событий, которые происходили в деревне так же, как в больших и малых городах страны, да и всего земного шара. Крестьянин, как и городской житель, радовался или огорчался происходящим событиям. Но крестьянин был ближе к природе, поэтому лучше ее понимал. Городской житель, попавший под весенний дождь, расстроится, а крестьянин порадуется: урожай будет хорошим. Колосились хлеба, зрели яблоки, дымили над избами трубы, дети с шумом сбегали к Белой. И все это дышало настоящей жизнью.
Вчера только было грязно, под ногами жижа хлюпала, дождь и снег боролись – кто кого, но вот она «пришла, повисла», и все преобразилось. Установилась чудесная погода с мелким морозцем. Падающий снег уже не таял. Как у хорошей хозяйки, все засверкало чистотой. Под ноги не надо глядеть, а можно природой полюбоваться. На крышах домов только вчера уродливо торчала солома, поднятая ветром, а сегодня крыши бело-серебристые.
В начале зимы сразу много снега навалило: для городского жителя морока, а крестьянин радуется: много снега – значит, хорошее одеяло для озимых, не померзнут. Городского человека скука посещает, а сельскому непонятно это чувство. У него и зимой дел полон воз.
Что за чудное видение – русская деревня зимой! Сколько написано, стихов сочинено, песен спето, сказок рассказано, где зимушка-зима главная героиня. А вот приходит она – и дух перехватывает. Дарит человеку состояние сказочности. Морозно. Деревья стоят в инее, не шелохнутся, боятся наряд свой сбросить. У елей и сосен на каждой пушистой лапе по белой подушке покоится. У берез ветки ажурные, глаз не отвести. Дубы-великаны потрескивают, поохивают. А если эту красоту подсветят лучи солнца и заискрится все вокруг, то двигаться не хочется. Остановись, мгновенье!.. Это сказано вот о таких явлениях. Дома надели белые шапочки. Но какие они разные! На доме господ Луговских аккуратная шапочка, как зонтик от солнца у Софьи Андреевны, – белая с ажуром. А вот у бабки Маланьи – набекрень, как и ее изба покосившаяся. Снег укутал деревню, а она и рада отдохнуть. Сразу как-то притихла. Ночью зимой даже собаки ленятся лаять. Но вот засветилось одно окошко, затем второе, третье… Проснулась деревня. Встали хозяева, и начинается бесконечная череда дел. Доброго вам дня!
А малышня с утра носами к окну прилипает и планы всякие выстраивает. У кого бы валенки утащить – у отца или матери, зипун чей-нибудь прихватить. Да и айда на горку. Да не забыть морковку и уголек из печки выгрести. Какая же зима без снежной бабы?
– На речку не ходите! – кричат им вслед родители. Они знают, что не зря беспокоятся. Опасное это время, морозов крепких не было. Поэтому ледок еще тоненький, к тому же снегом припорошенный. И не видно зловещих, опасных незамерзших участков. Полынья только и ждет, чтобы кто-нибудь ступил. Сразу затянет. Вода в реке не стоячая. Вот застынет речка, тогда и на льду покататься можно. А мужики наделают проруби, в них бабы полоскать белье будут, холсты отбеливать, на снегу расстилать.
Приближалось Рождество, Святки, Крещение, а значит, веселье. Парни и девки бедокурили: кому колом двери подопрут, у кого трубу зипуном заткнут. Молодежь колядовала, ходила по домам с поздравлениями, припевками, потехами. Праздник славили песнями. По улицам расхаживали ряженые: шубы наизнанку, лицо сажей вымазано. На санках катались. А по вечерам парни и девчата собирались на посиделки, пели песни, гадали и играли в святочные игры.
Малышня тоже не отставала. Ватаги сверстников ходили от дома к дому и пели незатейливые колядки с пожеланиями хозяевам крепкого здоровья, хорошего урожая. Хозяева их одаривали кто куском пирога, кто пряником, кто сахаром или конфетами.
Наступил 1914 год. Ничто не предвещало беды. Но она ворвалась в крестьянскую жизнь. В августе приехавший из уезда Луговской Петр Петрович рассказал, что началась война, в которой участвуют десятки стран. Германия объявила войну России, Великобритания – Германии, Австро-Венгрия – России, Франция – Австро-Венгрии, Япония – Германии, Россия – Турции… У мужиков от перечисления стран голова кругом пошла. Многие таких названий никогда не слышали и не подозревали об их существовании. Несколько континентов полыхали в пожаре войны. Это была первая в истории человечества война, охватившая весь земной шар. Россия объявила мобилизацию и начала стягивать войска к западным границам. Началась мобилизация мужчин всех сословий, это коснулось и мужиков Луговской. Призывали лиц мужского пола в возрасте от девятнадцати до тридцати восьми лет. Из деревни в шестьдесят дворов призвали двадцать шесть мужиков. Половина крестьянских хозяйств осталась без кормильцев. Призвали мужиков самого работоспособного возраста. Мужики ушли воевать, не понимая, зачем и для кого нужна эта война и зачем они должны это делать. Шла уборка урожая, и для крестьянина это было важнее всех войн. Они не могли и представить, как долго она будет длиться: 1554 дня, число мобилизованных превысит 70 миллионов человек и каждый десятый будет убит.
Не пощадили и семью Никитиных. Единственного кормильца забрали. В последние дни Василий старался как можно больше по хозяйству дел переделать.
– Сходил бы, Васенька, в церковь, покаялся бы, отец Святослав грехи бы отпустил. Ведь на войну идешь, – в очередной раз завела разговор жена.
– Нет, Анисьюшка, – в тон ей отвечал Василий, – не пойду и каяться не буду. Каяться надо только перед самим собой. Живу по совести и не нуждаюсь в покаянии.
Не стала Анисья перечить. Молча перекрестила, когда он спиной повернулся, чтобы шагнуть за родной порог.
По Луговской не проносились эскадроны с пташками наголо, до них не долетали выстрелы. Но когда в деревне почти половина хозяйств осталась без хозяина, то значит, осиротели эти избы. Да, Бог все дает на время – и даже жизнь. Но о плохом старались не думать, надеялись, каждая семья надеялась, что их муж или отец обязательно вернется. Мир сотрясался, а у жителей Луговской происходили свои события: у Столбовых Макара и Прасковьи родился сын Николай, Тихон Мартюшев и Степанида Монахова сыграли свадьбу, умерла Ульяна Портнова.
Тяжелое выдалось время. Туго приходилось и солдатке Анисье Никитиной без мужа. Чтобы засеять хотя бы часть надела, пошла батрачить за лошадь и инвентарь. Чтобы прокормиться, нанималась к зажиточным хозяевам. Помогали соседи да крестный Василисы, кузнец Наум Мартюшев. Да у них своих забот полон рот.
Нет, не так Анисья и Василий жизнь свою представляли. Мечтали вырастить дочь, отдать за хорошего человека, внуков нянчить, но вмешались злые силы, и все пошло наперекосяк. Как она будет без мужа, ведь в крестьянском хозяйстве мужик главная опора, на нем все держится. Как пахать, сажать, косить, молотить? Нет у них таких сил. Не пойдут ли они по миру? В голове Анисьи мысли бежали о ненадежности счастья. Блеснет, как молния, и нет его. Тяжело было на душе Анисьи, но главное сейчас – не отчаиваться, не показывать дочери, что мир для нее рухнул. Чтобы не чувствовала она себя сиротой при живой матери. Теперь лишь бы подольше на этом свете задержаться, чтобы дитя на ноги поставить. Хотя Василиса уже не дитя. Летом тринадцать лет исполнилось. Но чем дольше Василиса с матерью останется, тем легче будет. Чтобы не пришлось ей горе мыкать у чужих людей.
Жалела, что дочь неграмотная, если бы грамоту освоила, может быть, в жизни легче было бы. Но видела, что у неграмотной девочки, практически не покидавшей своей деревни, откуда-то взялись душевная гармония, доброта, сочувствие к людям, обостренное чувство справедливости и глубокое, въевшееся во все поры ее молодого организма, дружелюбие.
Приближалось Рождество. Но в этом году не было той праздничной атмосферы, которая царила при жизни отца. В этот день они дарили друг другу подарки, сделанные своими руками. Пекли пироги. Ходили в гости. Но и в других семьях поселилось уныние. Хотя вернулись после лечения в госпитале Игнат Никанорович Монахов и Федор Иванович Маркелов. Оба были ранены, но повезло: выжили.
И у Василисы зародилась надежда. В Рождество может произойти чудо. Она представляла – вот войдет отец и скажет, как ни в чем не бывало: «С Рождеством вас, жена и дочь». И неумело обнимет, смущаясь своей нежности. И потечет жизнь по-прежнему. Рождество прошло, но чуда не произошло.
Василий пропал в войну, как в воду канул. Анисья в уезд два раза съездила. «Нет сведений», – ответили. Был человек, и пропал. Ни слуху о нем, ни духу. Затерялся его след на чужбине. Не всем суждено было вернуться с этой войны. Погибли за Россию и царя-батюшку Козодоев Матвей, Никифоров Севастьян.
Отсутствие рук хозяина чувствовалось во всем. В нескольких местах стала протекать крыша. Во время дождей Анисья и Василиса подставляли корыто. Прогнили половицы в сенях. Не хватало дров. Теперь все это легло на женские плечи.
Уже очень хотелось тепла. Зима была суровая, серая, снежная и какая-то длинная-длинная. В такое время неспокойно на сердце у крестьянина.
Беспокоилась Анисья. Все чаще заглядывала в опустевшие закрома. Ржи оставалось не больше двух пудов. Дотянут или не дотянут? Осталось немного прошлогодней картошки засохшей и проросшей, но даже эти клубни радовали. Остатки ячменной муки мешали с картофелем и мякиной, пекли лепешки. Они с Василисой не бог весть какие едоки, но надо дотянуть до крапивы, щавеля, лебеды. Страшен голод, а он может наступить, когда все сусеки опустеют. Март не торопился вступить в свои права.
После холодных и голодных февраля и марта наконец наступила настоящая весна. Наступила сразу, без разминки. Снег сошел быстро, как будто и не мело всю зиму. Земля оживала. Солнце пригревало и хотелось снова и снова смотреть на него.
И в лесу потекли свои ручейки: березовый сок. Василиса и Полина пошли собирать его в рощу. Он хорошо силы восстанавливает. За день может наполниться целое ведро.
– Как ты думаешь, Василиса, деревцу больно? – Полина остановилась в раздумье. От напряжения даже вестники весны – веснушки потемнели.
– Тятя сказывал, что раны зарастают, – Василиса тяжело вздохнула при упоминании отца. – А еще он говорил, если береза дает много сока, лето будет дождливым.
– А почему у молодых березок кора темная, а у взрослых деревьев – светлая?
– У моей мамы с возрастом волосы становятся светлее. Наверное, и у берез так. Точно, как у этой березки, – Василиса погладила ствол березы.
Они шли по тропинке. Вдруг Полина резко остановилась и всплеснула руками:
– Василиса, подснежник!
Девочки наклонились и, как завороженные, смотрели на крупный бутон, похожий на висящую каплю молока.
– Что-то он напоминает, – медленно протянула Полина.
– Наверное, колокольчик, – ответила Василиса.
– И правда, – согласилась подруга.
Девочки осторожно обошли полянку, чтобы не наступить на цветки, и углубились в рощу. Каждую весну прибегали подружки сюда, и каждый раз испытывали восторг от увиденного.
– Василиса, смотри, какие разные цветки на одном стебельке!
– Так это медуница, – почти по слогам произнесла Полина. – Попробуй, какие они вкусные.
Девочки стали рвать цветы и жевать. Лепестки были сладкие, и подружки с удовольствием ими лакомились.
– Смотри, Василиса, на розовых и красных цветках пчелы больше кружат!
– Потому что они более сладкие, – со знанием дела произнесла подруга.
Вскоре появились кислые стебли щавеля. Молодой щавель девочки собирали на лугу, радуясь упругости и сочности листьев. Василиса нарвала целое лукошко. Если добавить немного картошечки, похлебка получится. Картошку экономить надо, ее совсем немного осталось. Увидела первоцвет. В деревне их называли золотыми ключиками, а кто просто калачами. Их желтые цветы-ключики среди зелени бросались в глаза. Они похожи на молодого барашка, такие же курчавые.
– А моя бабушка зовет их баранчиками, – жуя, произнесла Полина. Они срывали стебли растения и жевали его сочную мякоть.
Сладкими хрустящими трубками дягиля полакомились вдоволь. В это пору они сочные и мягкие. Девочки и домой нарвали, пусть и родители полакомятся. К сенокосу дягиль станет толстым и твердым. Но тогда он годится для другого. Мальчишки срезали нижнее колено, очищали, и дягиль превращался в «фыркалку». Ягоды из такой трубки бесшумно летели на десятки метров. Мальчишки залезали на деревья и обстреливали девчонок. Ох и визгу было.
Две подружки-хохотушки. У Василисы – пятнадцатая весна жизни, у Полины – тринадцатая. Возраст такой, что все вызывает смех. Вон идет дед Лукьян, что-то шепчет, а им смешно. Захар трубу чистил и так измазался сажей, только глаза белеют на черном лице, а девчонки смотрят и знай себе заливаются. И так они задорно это делали, что нельзя было не смеяться вместе с ними.
Все в жизни – из детства. Основа человека закладывается в нем. В детстве отпущено больше счастья. И совсем не потому, что его действительно больше, а потому, что в силу возраста в детстве все по-другому воспринимается. И оттого ребенок всегда счастливее взрослого. Но и ребенка задевают те или иные события, происходящие в стране, в семье.
Василиса прислушалась. О стенки ведра ударяют струи молока. Мать корову доила. Что-то говорит ей ласковым голосом. Кормилица! Сейчас мама подоит корову и сготовит кашу. Муки совсем немного осталось. Но еще летом Анисья собрала и насушила семян лебеды. Эти семена варили в молоке, и получалась каша. Когда Василиса была совсем маленькой, она называла кашу «ореховой» за привкус ореха. А сейчас они накрошат в миску хлеб и зальют молоком. Если молока нет, то можно и водой залить. Тюря получится. Есть-то хочется. Но хлеб с молоком все-таки вкуснее.
Страшило Анисью, что не сможет сена заготовить на зиму и придется корову продать. Прошедшим летом кум Наум помог. А дальше? У него своя семья и свое хозяйство.
Василиса взрослела. Это уже не девочка-подросток, а красивая, статная девушка. И характер со взрослением менялся. Ушли детская наивность и непосредственность. Стала сдержаннее. Человек радуется своей молодости. Потому сила особая бурлит, молодая. Как и другим девчатам и ребятам, ей хотелось петь, танцевать, а то и просто посидеть на скамейке со своими сверстниками, поговорить, пошутить.
У молодежи было любимое место. Недалеко от избы Никифоровых лежал штабель толстых бревен. Их Севастьян до войны еще привез, чтобы сыну Фролу избу построить. Но Севастьяна призвали на фронт, где он и погиб. Вот бревна-то и приглянулись жителям. Утром прибегала детвора и затевала какую-нибудь игру. Как только солнце начинало припекать, бежали на реку. Днем пожилой люд выходил косточки погреть. А после обеда и мужики присаживались – цигарку затянуть, посудачить, обсудить новости в мире, стране, деревне. Вечером молодежь заступает на вахту. После трудового дня собирались попеть, поиграть, да и позубоскалить охота. В общем, стали бревна пристанищем для всей деревни.
Девчата чинно сидят на бревнах в сарафанах и цветных кофтах, в шалях цветастых. Лузгают семечки. От них вкусно пахнет конфетами и семечками. Разговор на бревнах перескакивает с темы на тему, каждый норовит свое слово вставить. Через какое-то время приходят ребята. У холостяков голенища сапог завернуты, у тех, у кого невесты появились, – отвернуты. Молодежь с шутками, прибаутками балагурит. Один перед другим в острословии соревнуются. Слышатся взрывы хохота, поддразнивания, шутки.
Гармонист Матвей Сорокин занимает центральное место, а вокруг парни с девчатами рассаживаются. У него кудрявая голова. Так уж повелось – если гармонист, то обязательно кудрявый. Наверное, в этом есть своя загадка. На Матвее праздничный наряд: кумачовая вышитая рубаха с тканым поясом, картуз набекрень. От хромовых сапог, смазанных дегтем, дюже пахнет, но на это никто внимания не обращает. Кто-нибудь из девчат ему в картуз обязательно цветочек воткнет. Весельчак, не положено ему быть хмурой тучкой. Коль веселый инструмент в руки взял – будь добр, изволь соответствовать. Он проиграл несколько мелодий для разогрева.
Но вот Полина поворачивается к гармонисту: «Матвей, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало». Матвей на минуту задумался, а пальцы медленно перебирают клавиши, и полилась мелодия «По диким степям Забайкалья…». Полина робко запела, за ней подхватили другие. И вот уже песня полилась по улице, сливаясь со звуками летнего вечера. Те, кто не пел, слушали, прильнув к плечу друг друга. Песня за душу брала. У каждого в такие минуты свои думы. Песня обладает магической силой. Она и утешит, и сердце облегчит.
Вначале песни были медленные, раздольные, затем все быстрее и веселее. Гармонь, она такая: может заставить и плакать, и смеяться.
– Ну, девоньки, – не выдерживает бойкая Глаша Калина, – давайте споем нашу любимую.
– Давайте, – поддержала ее Варя Мартюшева, – кто поет, того беда не берет. – И подождав, когда Глаша пропоет первую строчку: «Калинка, калинка, калинка моя…», Варя подхватывает: «В саду ягода-малинка, малинка моя».
Плясали русскую, барыню, кадриль. Частушки начинал чей-нибудь задорный голос и подхватывали другие. И тогда уж кто кого перепоет. Были и такие, которые решались на озорные частушки. Вообще-то пели каждый на свой лад.
Девчата и парни часто просили Василису спеть. У нее был красивый, чистый грудной голос. Пела она спокойно и проникновенно. В песнях ведь тоже жила мечта о более легкой жизни. И когда она пела, страдающая ее душа светлела. А закончив песню, видела вокруг грустные или, наоборот, радостные лица.
И всякий прохожий, видя, как веселится, поет и танцует молодежь, как рьяно играет гармонь, останавливался и слушал напевные и веселые песни, певучие переборы гармошки, с улыбкой смотрел на молодые счастливые лица, вспоминая свою молодость.
А кто-нибудь и песни с молодыми попоет, и в горелки поиграет. За водящим на расстоянии выстраивались пары и начинали петь: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Взгляни на небо, там птицы летают». В это время водящий должен был взглянуть на небо, а последняя пара бежала вперед. Водящий должен был догнать и поймать одного из бегущих. После чего становился вместе с пойманным в первую пару, а оставшийся без пары занимал место водящего. Если водящему поймать никого не удавалось, он продолжал водить.
Игра проходила весело. Девичий визг нарушал сельскую тишину. Парни в кураже норовили облапить девчат, но чаще они не разрешали ребятам вольничать. И в ночи еще долго бисером рассыпался смех.
Но были и ворчуны. Вот Макар Столбов мимо не пройдет, чтобы не сделать замечание: «Ну чего глотки дерете!». Ну, идешь мимо – и иди себе. Это зависть в человеке играет: его время ушло, вот он и завидует. А чужому счастью не научился радоваться.
Но нередко посиделки кончались дракой. Девчата бросались разнимать ребят, ну а те в азарте (а может, и для приличия) вырывались из женских рук, хорохорились. Хотя, чего греха таить, многим хотелось остаться в этих нежных руках. Нередко после игрищ хозяина забора ожидал сюрприз: в заборе недоставало кольев. Не любили местные, когда приходили парни с других деревень да с их девчатами начинали заигрывать. Вот злость и закипала у Луговских. Тогда и доставалось кому-нибудь колом по голове.
А пока молодежь веселится, деревня живет по установленному веками режиму. Вот уже не нарушают тишину голоса бранившихся на скотину хозяек, стихли задвигаемые щеколды калиток. Кое-где еще испуганно загогочут гуси и захрюкает свинья. Но скоро только смех молодежи будет периодически разрывать ночную тишину. Но наступает время, когда и гуляки расходятся по избам, пора отходить ко сну.
Докатилось до деревеньки, что в далеком Петрограде совершена Февральская революция. Слух о том, что царь Николай Второй отрекся от престола, испугал, поверг всех в шок. Большинство просто не верили, что такое возможно. А у тех, кто поверил, возник насущный вопрос: а что с землей? А в тех семьях, в которых главные кормильцы воевали, возник и другой вопрос: вернутся ли мужики с войны? У Анисьи появилась надежда, что, наконец, закончится эта проклятая война, и Василий вернется домой. Сколько ею было пролито слез по ночам, сколько молитв прочитано…
Но Временное правительство не спешило ни с землей, ни с миром. Весна и лето прошли в повседневных хлопотах, только все из рук валилось. Никаких вестей от Василия по-прежнему не было.
Жизнь империи действительно менялась, вначале она изменилась в Петрограде, затем эти изменения докатились до городов и поселков. Но то, что делалось со страной, пока деревень особенно не касалось. Никакого облегчения революция не принесла. В деревнях жизнь текла по-старому. А по-старому – это как бы выжить, как бы дотянуть до весны. Это в городе чувствовалось приближение перемен, а деревня во все времена, пока город восставал, бурлил, пламенел, пахала, сеяла, убирала, сдавала, кормила. И так из года в год. И одна мольба небу: не высуши, не выгори, не залей, не проморозь! Как добывал крестьянин свой хлеб тяжким трудом, так и продолжал.
Грянул октябрь 1917 года с его Декретом о земле. Вокруг Наума Емельяновича собирались мужики, и он по слогам читал им газеты, привезенные уездным начальством: «Переход всех помещичьих и иных земель в распоряжение крестьянских комитетов уездных Советов… Право частной собственности на землю отменяется навсегда… Право пользования землею получают все граждане (без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи или в товариществе…». Своим трудом, своей семьей – это понятно. Большинство так и обрабатывали. А вот товарищество – это что? Почесал кузнец Наум затылок, а ответа своим односельчанам не дал. Крепко задумались мужики.
Приехал из уезда Макар Столбов и таинственным голосом сообщил, что в стране Советов самого главного комиссара Лениным кличут, и что он землю крестьянам бесплатно велел отдавать и не надо ее у богатеев выкупать, но богатые сопротивляются и на бедноту войной идут.
Не успели залечить тяжелые раны, нанесенные Первой мировой войной, как началась Гражданская война. Кто только не пытался задушить молодое советское государство: Германия, Англия, Франция, Румыния. Американцы аж с другого континента примчались, как же без них.
Трудовой народ был охвачен ненавистью к интервентам и белогвардейцам. Крестьянин знал, за что шел воевать с оружием в руках, ведь впервые в истории Советская власть принесла ему не только политическую свободу, но и землю, избавив от помещичьего гнета.
Несколько человек из деревни добровольцами уехали воевать за новую жизнь, чтобы не было богатых и бедных, чтобы хлеб был настоящим, а не из мякины и лебеды. Страна разделилась на «белых» и «красных». Шла гражданская война. Самая жестокая война из всех войн. Что может быть страшнее того, когда брат идет на брата, сын на отца!
Как будто какая-то чудовищная сила двигалась по стране и слоями снимала мужиков. Уходили из жизни самые смелые, самые деятельные, самые работящие, самые образованные.
Но большинство было тех, кто хотел спокойной жизни. Этого хотели и большинство крестьян Луговской. В стране происходили величайшие перемены. Но трудно разобраться во всем крестьянину. Вот и сжимается сердце от страха – что будет дальше, как будет? И выплывает заветная мечта родителей: только бы детям жилось лучше, легче.
А хозяева прежней жизни Луговские вначале затаились. Какое-то время в них жила надежда, что беднота пошумит-пошумит, и жизнь войдет в привычную для них колею, в прежнее русло. Не верилось им в кончину сытой и веселой жизни. Но не полупилось. Уезжали они поспешно, и затерялись их следы во времени. Одни говорили, что за границу успели убежать, другие – что растерзаны были толпой. Посудачили, но никто ничего определенного не знал. Только дом напоминал о господах. Коль уехали они в неизвестном направлении, то и платить за аренду земли теперь стало некому. Значит, можно и их поля засевать.
На первых порах крестьяне не почувствовали каких-либо изменений. И только когда в соседнее Поречье приехали люди в блестящих кожанках, наискосок от плеча к поясу перетянутых ремнем, и стали стаскивать колокол с церкви, тут всем стало ясно, что жизнь потекла по другому руслу. С началом гражданской войны было введено чрезвычайное положение. У крестьян насильственно забирали хлеб. Притихли крестьяне. Что-то не похоже это на лучшую жизнь… Каждый в своих думах. Но наступила весна, которая не спрашивает, можно приходить или еще подождать. Пришла с капелью, с журчанием воды, с ветром, которым дышишь и надышаться не можешь.
Революции революциями, а хлеб сеять надо. Крестьяне распахнули свои сараюшки, где еще с зимы ждал своего часа отремонтированный инвентарь: плуги, бороны, сбруя. Осмотрели все хозяйским глазом, походили по полям и решили, что на пригорках можно пахать, а вот низины пусть пока еще подсохнут. И закипела работа, как испокон веков было заведено, как их отцы, деды, прадеды землю засевали. Правда, на радость крестьянину, землицы прибавилось. Разделили земли Луговских, вроде честно, по жребию. Но как не везло Ипполиту Хухрикову, так и сейчас не повезло. Досталась ему лощина. Все уже засеяли, а он все с тоской посматривал на свою делянку. Не просыхала она. Вот не везет мужику! Как привязалась невезуха в детстве (рос без отца и матери), так все никак не отвяжется.
Решил Ипполит, хотя по имени его никто, кроме жены и не называл – с детства Хухрик или Хухря, – так вот, решил он свое горе утопить в стакане самогона. На клич явился Филимон Сычев по прозвищу Сыч и Гаврила Чубко по прозвищу Гусь. И вправду оба были на пернатых похожи. Филимон угрюмый, мрачный, как нахохлившаяся птица. А у Гаврилы посередине темных волос торчал пятнистый хохолок, как у гуся.
Троица эта в деревне выделялась своим колоритом. Все одного возраста, любители выпить и держались обособленно. Крестьяне их недолюбливали за лень, которая родилась раньше них. А еще не любили за то, что им бы только пить, да гулять, да дела не знать.
Во время очередного «заливания глаз самогоном», так жена Ипполита Нинка называла сборище мужа с собутыльниками, Ипполит предложил своим приятелям пойти сжечь усадьбу «поработителей» Луговских. Сыч и Гусь поддержали Хухрика, и троица, прихватив банку керосина, нетвердой походкой двинулась к усадьбе. Нинка слышала разговор приятелей и, накинув шаль, огородами бросилась в сторону усадьбы, на бегу соображая, кого ей позвать на помощь. Вбежала в избу Никитиных и что было силы закричала:
– Ратуйте! Пожар, пожар!
– Где пожар? – к Нинке подбежала Василиса.
– Ипполит со своими собутыльниками взяли керосин и пошли поджигать усадьбу. Зови мать, – скомандовала Нинка.
– Ой! – ойкнула Василиса. – А ее нет. Побежали, по пути кого-нибудь позовем. Нельзя сжигать такие хоромы!
Они побежали к усадьбе, по пути собирая народ. Хухрик со своей компанией появился через несколько минут и, судя по выражению его лица, пытался понять, что здесь делают его односельчане, вернее односельчанки, потому что толпа в основном состояла из женщин.
– Вы что это надумали? – Василиса выступила вперед.
– «Петуха» поработителям пускать будем, – Хухрик приблизил к ней смуглое, искаженное злобой лицо, и она почувствовала запах самогона.
– Да, пораб… пораб… порабтителям, – Гусь безуспешно пытался выговорить непривычное для него слово, но в конце концов махнул рукой и встал за спину своего приятеля.
– Здесь школу можно открыть. Мы неграмотные, разве вам не хочется, чтобы наши дети грамоте обучались? – Василиса говорила тихо, но твердо. – Уничтожить легко, а вот сколько времени уйдет, чтобы построить!
Хухрик с удивлением посмотрел на Василису.
– Да у тебя и детей нет, пичужка, – ухмыльнулся он, скривив губы.
– Нет, так будут, – не сдавалась Василиса.
В толпе одобрительно загудели. Нинка, воспользовавшись замешательством мужа, вырвала из его рук банку с керосином. Сыч и Гусь стали пятиться: с бабами лучше не связываться, да и хмель прошел. Поджигателями уже не хотелось становиться.
– Правильно, бабоньки, – все повернулись на голос Левченковой Пелагеи, – добро Луговских надо описать, чтобы все чин по чину, чтобы не растащили утварь, постройки, скотину.
«Какие мужики разрушители, – думала Василиса, возвращаясь домой, – революцию затеяли, войны напридумывали. Все-таки женщины не такие жестокие, более миролюбивые».
Затихла гражданская война. И слава богу! Война братоубийственная. От необычности этого явления кто-то растерялся, кто-то очерствел. Очень уж неожиданный поворот истории. Но из истории этого не вычеркнешь, да и не надо этого делать. А вот выводы делать надо, чтобы не повторялись такие кровопролития. «Грех большой на народе лежит, – думала Анисья. – сумеют ли когда-нибудь его отмолить? Не по-людски это». Так воспринимало ее сознание происходящее. Вот время пройдет, и всем станет стыдно за пролитую кровь, за то, что брат поднял руку на брата, а сын на отца. Но раны долго будут зарубцовываться. Только память человеческая вряд ли когда-нибудь сотрется. А вот братья Маркеловы свои выводы сделали. Никанор был за «красных», а его брат Пантелеймон – за «белых». Когда отсидел Пантелеймон, принял его брат Никанор, поделился куском хлеба, и стали они вместе заниматься тем, чем занимался их отец, их прадеды: пахать и сеять. В такой неразберихе немудрено было и ошибиться. А в гражданской войне не может быть победителей. Но не все прощали, были и такие, кто затаил обиду на долгие годы.
Сколько горя пережито, сколько слез пролито, сколько вражды, разорений. Мужики стали возвращаться домой. В островерхих буденовках, потрепанных шинелях, рваных ботинках с грязными обмотками. Победители над немцами, «белыми», истосковавшиеся по родному дому, семьям, земле, крестьянскому труду. Они многое повидали. Но каждый думал: «А что впереди?». Люди знали, что в жизни перемены, а в какую сторону? Слухи ползли разные.
Все понимали, что старой жизни «при царе» наступил конец, что надо жить по-новому. А как по-новому? Вот если человек заблудился в лесу, он же не сидит, сложа руки, а ищет выход. Если тонет, он же не идет камнем вниз, а барахтается, пытается спастись. Вот и из этого лабиринта люди просто обязаны найти какой-то выход. Жизнь продолжается…
В доме Луговских открыли избу-читальню. В одной из комнат разместился сельсовет. На доме помещиков развевался кумачовый флаг. Создали коммунистическую ячейку, на первых порах был только один коммунист: председатель сельского совета Федор Севастьянович Никифоров. Пришедшие с фронта Игнат Монахов и Василий Архипов подали заявление с просьбой принять их в партию большевиков.
По примеру коммунистов и молодежь создала комсомольскую ячейку. Секретарем избрали Сергея Мамонова, парень он серьезный и грамоте обучен. Его заместителем – Варю Мартюшеву: характер у нее бойкий, напористый. Варя и Василиса первыми из девушек вступили в комсомол. Без спросу батьки вступил в комсомол Яков Маркелов. Хотел его Федор Иванович отходить вожжами, да не посмел. Он на голову выше отца.
Первые комсомольцы деревни были крещеные. Но они один за другим вступали в комсомол, и в них была несгибаемая вера в лучшую жизнь. И их неграмотные родители с сомнениями, переживаниями, но не мешали своим детям. Пусть хоть дети поживут сытой и более легкой жизнью.
Как на реке собирается пена на месте закрученных водоворотов, так и страну закружил водоворот событий. Все смешалось в эти несколько непростых лет: революция, войны, продразверстка, ликбез, партия, комсомол, коммуна, единоличники. И как тяжело крестьянину было во всем этом разобраться!
Из города приехал учитель Лаврентий Николаевич Дамасский. Молодой, но очень серьезный. Молодежь на учебу записывалась охотно, а вот взрослых пришлось убеждать. И он убеждал, что учиться в любом возрасте надо, что время такое настало, что за грамотными – будущее. Самую просторную комнату в доме выделили под класс. Мужики сами мебель сколотили: столы, скамейки. Набралось человек двадцать. Вначале стеснялись, старались не смотреть друг на друга. Но Лаврентий Николаевич своею тактичностью сумел создать доброжелательную атмосферу.
В классе стояла тишина. Внимательно слушали, что говорит учитель. Комната освещалась неярким светом керосиновой лампы. Учитель молодой Советской России учил крестьян по «Азбуке» графа Толстого, которую Лев Николаевич написал для обучения детей чтению, письму и арифметике. Вот такой парадокс… А сам учитель поселился в пристройке для прислуги дома Луговских.
Днем обучались дети, а вечером взрослые. Вместе с другими Василиса старательно выводила на листке бумаги буквы. Получались раскоряченные. Пальцы, такие ловкие, когда доила корову, почему-то не слушались. Ничего, дома еще поучится. Оказывается, писать не легче, чем корову доить. Но на следующий день с нетерпением ждала вечера, чтобы снова пойти на учебу. Накинув на плечи старую вязаную шаль матери, первая прибегала в школу. Вернувшись, водила пальцем по страницам азбуки и старательно произносила буквы, собирая слоги, как бусинки на ниточку. Второй рукой подпирала щеку. От усердия, как делали дети, высовывала кончик языка, выводила закорючки букв и очень радовалась, если буква не «падала». Анисья, которая рядом пряла пряжу, вслушивалась в шепот дочери: ра-ма, ма-ма… И ею это воспринималось, как чудо: из крохотных букв образуется слово.
Но учитель не только грамоте учил, а находил время для просвещения. Рассказывал о своей стране, ее истории, о земле, светилах. Василиса с удивлением узнала, что земля существует много миллионов лет, и что звезды тоже вроде земли. Звучало много новых слов, и не всегда по смыслу она угадывала их значение. В зимнее время по воскресеньям учитель проводил воскресные чтения. Читал стихи Демьяна Бедного, Владимира Маяковского, рассказывал о поэтах и писателях дворянского происхождения, которые являются гордостью русской литературы.
Вскоре комсомольцы организовали хор и драматический кружок. Вначале на концерты и спектакли народ шел из любопытства, а затем они стали пользоваться огромным успехом.
Первая мировая и Гражданская войны породили сопутствующие им бедствия: голод 1921–1922 годов. Страна была отброшена в непреодолимую бездну. Деревня совсем обеднела, скота поубавилось: кто-то продал, кто-то пустил на еду. Начиная с февраля, запасы кормов в большинстве хозяйств закончились. Скот кормили соломой, иные хозяева запаривали, а нерадивые и так давали. Когда солома в скирдах закончилась, стали снимать ее с крыш. Коровы не хотели вставать. Тогда мужики стали их подвязывать на холстах, потому что понимали: если животное останется лежать, оно погибнет.
Да и мужиков поубавилось. Кто на германской пропал, кто на гражданской погиб. Да, лихие годы пережила Россия…
В стране царила анархия. Лекторы и агитаторы зачастили в деревню. Чтобы хоть что-то узнать о происходящем в стране, крестьяне собирались в господском доме. А из этих лекций и докладов мужику не всегда было понятно: какая разница между большевиками и коммунистами, и есть от всего происходящего выгода крестьянину или нет. И каждый агитатор убеждал сдавать хлеб, призывал к сознательности.
Крестьяне были недовольны, что у них насильственно забирают хлеб, с недоверием смотрели на гостей из уезда. Каждый их приезд не приносил никакого облегчения, а только одно требование: сдать хлеб. Составили списки жителей деревни, какое у кого хозяйство и сколько положено сдать ржи и пшеницы. Самым бедным – по пять пудов, у кого крепкое хозяйство – восемь-девять пудов. Кто не сдавал добровольно, забирали силой.
Вскоре была объявлена новая экономическая политика (НЭП), при которой был введен более умеренный продналог. У семей, в которых были хозяин и взрослые сыновья, теперь имелась возможность обрабатывать больше земли. Часть своей продукции они могли продать на рынке. Но вскоре и нэп был ликвидирован.
Разразился голод. Недовольство крестьян росло. Все, что удалось собрать после засухи, силой отбирали продовольственные вооруженные отряды. Это была новая жизнь, но как в ней выжить, не знал никто.