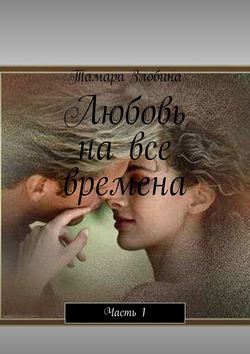Читать книгу Любовь на все времена. Часть 1 - Тамара Злобина - Страница 3
Глава 2. Кое-что о Федотовых и Фёдоровых
ОглавлениеСемья Федотовых перебралась в мансарду из полуразрушенного дома, куда их поместили в самом начале войны, когда их частный дом был разрушен при авианалёте. Хорошо в это время их не было дома, поэтому и мать, и дети остались живы, но практически в том, в чём ушли из дома.
Новому жилью, куда их поселили временно, тоже не повезло: одна половина его рухнула после очередного налёта, а вторая пошла трещинами, которые неумолимо расширялись, как жильцы не пытались их заделывать доступными средствами.
Жильцов дома, разрушающегося на глазах, начали подселять в квартиры в качестве уплотнения. Федотовых переселили последними. Так Нина Фёдорова с Сергеем и Таечкой оказались в мансарде дома 21 на улице с поэтическим названием – Весенняя.
Неуютную мансарду сложно было назвать жильём, скорее это помещение подходило для мастерской художника, появляющегося в ней только в дневное время суток. Одно было хорошо: она не грозило завалиться от вибрации почвы, когда мимо проезжали гружёные полуторки.
Комната, куда поселили семью Фёдоровых, была большая, с двумя окнами, одно из которых выходило на улицу, а другое во двор. Беспокоило то, что в мансарде не было отопления: печь развалилась, а центральное отопление не было предусмотрено.
Тут ещё, как на беду, младшая дочь Таечка простыла при переезде.
Таечку пришлось отправлять в больницу, потому что у неё оказался сильный бронхит. Девочка всё время плакала и не отпускала маму, но та никак не могла оставить работу, поэтому в больнице с сестрёнкой пришлось находиться Сергею.
Четырнадцатилетнему подростку это ужасно не нравилось, но он понимал, что мать за пропуск работы могут уволить, и им тогда не на что будет жить.
В городе у Федотовых не было родственников, а отец ушёл на войну в конце сорок первого, да и пропал: ни писем от него не было, ни похоронку они не получали, и даже пресловутого сообщения «пропал без вести» им не приходило.
Первые два года после окончания войны семья ещё ждала своего кормильца, надеясь, что глава семьи, возможно, был в плену, и теперь отбывает за это наказание где-то на севере. Но, чем дальше уходил в прошлое День Победы, тем слабее становилась надежда. И однажды Нина Фёдоровна сказала:
– Всё сынок, отец не вернётся… Его, видимо, нет на этом белом свете.
И стало немного легче. Нина Фёдоровна не вскакивала больше по ночам, не подходила к окну и не смотрела подолгу на дорогу. Жизнь брала своё.
Хотя женщине было невыносимо трудно. Дети требовали своего: нужно было накормить, одеть-обуть, уделить время, которого никогда не хватало.
На себя не оставалось уже не времени, ни средств. Два платья, старый жакет, пальтецо на рыбьем меху и потерявшая всяческий вид обувь, которую приходилось ремонтировать каждый месяц – вот всё, что было у неё. Но Нина фёдоровна никогда не жаловалась, не плакала, жалея себя – тянула свою ношу, как могла.
Военные годы были трудными, но люди понимали это и надеялись, что когда они закончатся – станет легче. Для Нины Фёдоровны и послевоенные годы проходили, как один хмурый, никак не заканчивающийся день, по которому она брела, как рабочая лошадь, таща на себе поклажу невероятной тяжести.
Семье Фёдоровых в материальном плане было немного легче: у них на четырёх членов семьи было двое рабочих рук, да и Прасковья Дмитриевна очень сильно помогала снохе. В прошлом – неплохая швея, она подзарабатывала тем, что перешивала, перелицовывала знакомым и соседям одежду, получая чаще всего за свою работу не деньгами, а продуктами. Так, что семья не голодала никогда – даже в самое трудное время.
Тяжело было в моральном отношении: прямо перед войной главу семьи, Павла Семёновича, забрали в НКВД, как врага народа. Им ещё повезло: его жена, Катерина Михайловна осталась на свободе – возможно, что-то не срослось в репрессивной машине, возможно, потому, что у неё во время ареста начались схватки, и в этот же день родилась Варенька.
Нина Фёдоровна и Катерина Михайловна были близки по возрасту и поэтому очень быстро сдружились. Судьбы их были похожи: обе уже столько лет без мужей, у обоих двое детей на руках, обе работали всю войну на износ – только сейчас напряжение военного времени стало понемногу уходить.
Но, если у Катерины ещё теплилась слабая надежда, что муж вернётся, то Нина уже ни на что не надеялась.
Нина Фёдоровна считала, что ей очень повезло с соседями: они не только поддержали с того дня, как она с детьми поселилась в мансарде, но и помогли обустроится, принесли кое-что из мебели.
На следующий же день к Федотовым наведался тот самый дядя Ваня, о котором говорила Катерина. Седовласый, пожилой мужчина – жилистый, с руками мастерового, осмотрел место, где стояла печь, что-то обмерил, прикинул, подсчитал на бумажке, даже на крышу залез, осматривая трубу, потом объявил:
– Без помощи ваших ребятишек, мадам, мне не обойтись.
– Я готов! – отозвался Сергей.
– Я тоже! – поддержала его Варя.
– Значит так, детишки-ребятишки, – сказал дядя Ваня, – в квартале от нас ещё не до конца разобрали разрушенный дом… Будем носить кирпич оттуда. Я договорился с главным.
Детишки-ребятишки во главе с печных дел мастером три дня носили кирпич от разрушенного дома. Иногда к ним присоединялся веснушчатый Виктор, который до сих пор злился на Варю из-за леща.
Наконец, дядя Ваня неспешно и основательно приступил к кладке печи.
Немногословный, серьёзный старик понравился детишкам-ребятишкам, соскучившимся по твёрдой мужской руке. Они помогали старику, как умели, иногда вызывая нарекание за свою торопливость и «безрукость». Но обижаться на него было невозможно: все его покрикивания никогда не были сердитыми или уничижительными – он больше был похож на доброго дедушку, которого ни у Сергея, ни у Вари, не было.
Печь получилась добротной и, можно даже сказать, «элегантной», как определила Прасковья Дмитриевна, вызвав тем невольную улыбку у всех.
Нина Фёдоровна пыталась отблагодарить старика, но тот категорически отказался:
– Я, что злодей какой, забирать у ребятишек кусок хлеба?!
– Но вы же столько дней потратили, – виновато оправдывалась женщина.
– Мне это было в радость, – ответил дядя Ваня. – Самой большой наградой для меня будет, если вы позволите иногда проведывать вас…
– Всегда будем рады вам, – ответила Нина Фёдоровна.
Только потом она узнала, что у дяди Вани погибла вся семья, и он «один одинёшенек» – по выражению всё той же Прасковьи Дмитриевны.
– Ему просто наша баба Паня нравится! – сообщил Александр с такой же обалденной улыбкой, как у младшей сестры.
И, получив за это от бабушки полотенцем, со смехом побежал от неё вокруг стола.
Жизнь понемногу налаживалась. Карточки были давно отменены и снабжение продуктами полностью лежало на Сергее и Варе. Они по своей молодости были легки на подъём и первыми узнавали где и что можно достать.
Сергей стал главным мужчиной в доме, потому что Нина Фёдоровна продолжала работать на двух работах, чтобы обеспечить семью, а на плечи Сергея легли домашние хлопоты и забота о младшей сестрёнке.
Очень часто с Таечкой сидела баба Паня: она забирала девочку к себе и та играла с лоскутиками, оставшимися от портняжной работы бабушки.
Так их и застал вдвоём Павел Семёнович, неожиданно появившийся на пороге собственной квартиры. Прасковья Дмитриевна, увидев измождённого мужчину, облачённого в длинный, непонятный балахон, сначала испугалась и хотела уже позвать на помощь, но мужчина сказал, внезапно охрипшим голосом:
– Мама, ты не узнаёшь меня?
У старой женщины из рук выпали ножницы, а из глаз полились слёзы. Павел бросился к матери и обнял её, опасаясь, что той станет плохо, ведь радость иногда выбивает «из седла» так же, как и горе.
– Павлуша, сынок?! – вскрикнула Прасковья Дмитриевна и обмякла в его руках.