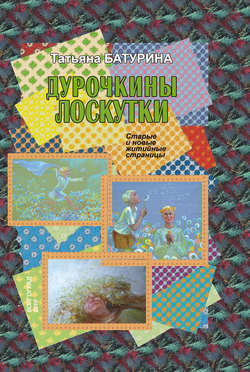Читать книгу Дурочкины лоскутки. Старые и новые житийные страницы - Татьяна Батурина - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Дурочкины лоскутки. Старые и новые житийные страницы
ОглавлениеВчерашней ветки нет, она всего лишь воспоминание природы. Но я могу легко до него дотронуться, до этого воспоминания, стоит только взять в руки фотографию и провести ладонью по упругому глянцу, когда-то сверкавшему в лучах молодости, а ныне посвечивающему благородной матовостью времени.
Отвожу от лица кружевную ветку, вытягиваю шею из-за белосиянного ствола березы навстречу черно-золотому зраку фотоаппарата и смеюсь, смеюсь, смеюсь, овеваемая ветреной листвой! Сколько можно так смеяться? А сколько душе угодно! Да, весело сияла юность…
Даже призывному кукареканью чайника не распугать моих ветвящихся воспоминаний. Сейчас, сейчас включу на кухне настольную лампу под синим абажуром да заварю-затею зеленого чаю в любимой чашке с золотистыми ободками. Чай, поди, не горчит, а горячит и веселит сердце, сторожко вопрошающее: «Помнишь, какой ты была?»…
Я была Снегурочкой у школьной елки:
Я, Снегурочка, стою,
Песню первую пою!
Я была невестой на берегу моря:
– Море, море, я люблю!
Я была юной женой, играющей в прятки первой брачной ночью:
– Неужели нельзя только целоваться?
– Нельзя, милая, нельзя…
Я была поэтессой, отказавшейся служить лукавой коммерции:
– Ведь я пишу стихи!
Боялась, как бы сердце не потерялось…
Зато в кошельке трещина.
Я была возлюбленной, в одночасье решившейся выпить яд вместе с возлюбленным – только бы не умерла, только бы осталась жить на белом свете память о нашей неповторимой любви… Но любимый тут же передумал.
Я была нянькой рыдающей, воющей, вопящей боли, после шестнадцати часов беспамятства изумившейся тому, как неотступная боль вдруг превратилась в теплого щебечущего младенца… А в родовую палату заглянула золотая осень.
Я была странницей пустыни, бредущей на мреющие далеко впереди древние, полузанесенные песком стены храма. Позади звучал голос – вроде бы мой: «И гнали ее, и побивали камнями».
Я была трудницей, влекущей на своих утлых усталых плечах горбатое знание рождения хлеба и любви.
И все это заранее отобразила юная фотография судьбы.
Еще немного – самую малость! – полюбовавшись снимком наивного смеха, я возвратила его в семейный альбом и ответила любознательному сердцу:
Неуспокоенной радости
Снова судьба моя ждет:
Все начинается с младости,
А убывает – вперед!
Подумала и добавила:
– Чего же ты хочешь, сердце мое? Я – мать.
Целый век я сердцем грешным
Трепещу и плачу,
Что пред миром пересмешным
Дурочкой маячу.
Но сияет сердцевиной
Мне любая малость,
И в судьбе-то ни единой
Тайны не осталось –
Кроме смерти.
Мама не раз говорила: «Про тебя никто, кроме базара, не знает». И добавляла ласково: «Дурочка моя…». Тайная огорчительность одинокой долей дочери – в этой прямой и одновременно простодушной фразе. Осела, застряла, примостилась в душе и – как знать? – чему-нибудь да научила.
Научить научила, да недоучила: всему миру о себе рассказываю, поверяю, пою, будто не ведаю, что молчание – золото. Да, но ведь слово – серебро! Драгоценность. Говорить благословил людей Господь.
Незаметно пришло прочтение. Раньше было чтение, теперь – прочтение. Древняя приставка «про», означающая проникновение в вещную суть, потихоньку ведет, словно поводырь, по некоему пространству, вроде и знакомому, но отчего-то таинственному, живому – коснуться страшно. Вернее, не ведет, а проводит (опять, опять «про»!) по страницам книг ли, дней ли…
Образы нутряные, древние: книга, дни, чтение, прочтение. В слове «чтение», например, скрыты (или открыты?) другие слова: старославянские «честь», «чтить», «чистить», древнеиндийские «мыслить», «познавать», «понимать», латышское «думать»…
Ну, а прочтение является, видимо, про-честью, про-мудростью, про-думой, про-мыслью, про-познанием. То есть всем тем, что дарит уму созерцающее, страдающее, связывающее все во Вселенной воедино сердце. Это оно – таинственное живое пространство, в котором «совестные книги разгибаются…» (Пс. Каф. III).
Я всегда великое знала про сердце, ведь написала же в двадцать лет для самой себя нежданные строки:
И, стало быть, я, невеличка,
Вселенная есть
И пребуду Вселенной –
Во мне она скрыта!
И эту скрытность надо развернуть в сердце и выпустить на волю.
Что же я прочитываю ныне? Обстоятельства своей жизни? Или их смысл? Пожалуй, и то, и другое, хотя до смысла надо было раньше добираться внутри обстоятельств и событий – или, точнее, одновременно с ними. А теперь уж что… Но, видимо, поздний огляд назад – смысл не простой, а сердечный, живой, родной.
Многие события судьбы напрочь забыты, словно забиты досками времени и гвоздями потерь и обретений. А вот кто молотком орудовал? Надо подумать. Неужто я сама? Да, аналогия та еще…
Пишу всю эту явную несуразицу, чтобы скрыть страх, долгие годы отдающийся в сердце верной догадкой: память у меня, как и у всяко-разного человека, долгая да глубокая, – словно ночное вселенское небо. До поры до времени в его необъятности сохраняются пылинки, крупинки и соринки свершившихся событий, примятые, чтобы не унес ветер небытия, камешками звезд.
До поры до времени – то есть до смерти, когда встану пред Судией в своей греховной срамоте, облепленная невещественным сором содеянного на земле зла. И напрасно вскрикнет и заплачет склоненная долу душа, ибо было открыто ей отроду и навеки: помни о смерти.
Случилось, в молодости я потеряла записную книжку, а там столько всего хранилось! Имена, адреса, телефоны, мысли, фразы, события… Долго книжку искала, да устала и решила: ничего и никого не было. Кто захочет – вернется, что положено – вспомнится, чему назначено быть – исполнится. Все так и шло, без догадок и оглядок – почти набело.
Страницы новой записной книжки заполнялись тоже исправно, сообразно наступившей в жизни новой полосе. И саму себя ощущала я какой-то иной – не прежней, новой. Чужой?.. Нет, это уже слишком. Чуть-чуть другой, да ведь это со всеми происходит время от времени, верно? Зато можно было не вспоминать, не мучиться, не страдать о былом. Ох, уж это былое!..
И вдруг книжка нашлась в дальнем уголочке письменного стола, заваленная грудой писем, черновиков и всяких записок, а вместе с ней возвратились подруги и друзья, ненавистники и возлюбленные, старики и подросшие младенцы.
Прошлое вернулось на крýги моя, да так повелительно, так всерьез, что настоящему пришлось потесниться: надо ведь уважать старших. Ох, и радовалась я!
Но как странно повела себя память: она мне подмигнула!
Кулема выползла из постели, поковыляла по дому, по его тихой темноте, на кухню, отвинтила кран, оставила его открытым, чтобы вода вчерашняя стекала, зажгла свет в ванной, глянула в зеркало: «Ой, это ж не кулема вовсе, это я!» – воскликнула я о себе и схватилась за зубную щетку… Потом потащилась по дому дальше, по углам и половикам его забот и покоя – к иконочкам и молитвеннику…
Сегодня к обычным болям в спине прибавилась ломота в ногах. Но я знала: надо походить, подвигаться, потянуть спину на валике, пройтись кулаками по пяткам – авось снова из дому выйду, как новенькая. И за это слава Богу! Ведь по городу уже не поковыляешь, с ним надо наперегонки бежать, хоть все равно он тебя обгонит, обойдет на каком-нибудь повороте, да так, что со всего маху кувыркнешься, когда бес ножку подставит. Это зимой. А и летом тоже лучше потихоньку продвигаться вдоль домов, рядом с прогалами живой земли, где еще не угорела от машинного чада трава и мучаются-не сдаются базарному нашествию деревья. В них – прохладная безопасность.
Родители мои (Царствие им Небесное) сейчас бы города не узнали. Мне и самой в диковину пластмассово-неживые коробки-лавки на каждом углу, а мимо заборов скорее шагать надо, чтоб не зацепила глаза да не рухнула на голову похоть житейская под видом рекламных каменных знамен. А эти бабушки нищие, по сторонам городских дорог дрожащие от мятения людского! На картонных ящиках раскладывают свои труды: носочки да варежки вязаные, да прихватки для сковородок, иная и вазочку незапамятного времени выставит, может, и купит кто. Одну вазочку – на ножке, синего стекла – я и вправду купила, потому что такая была когда-то в нашем доме, да мышка, видать, бежала, хвостиком махнула, вазочка и разбилась.
А вот стариков на улицах меньше, это потому, что мужичий век короче. И мой отец на девять лет раньше мамы умер…
Родители ушли, оставив мне самое главное: Православную землю. Не ее ли они в войну вызволяли, а потом обихаживали-обряжали для детушек? Не в ней ли, до смерти устав, упокоились?
Спаси и нас, Господи, и сохрани, чтобы было кому постоять за древнюю нашу Отчизну. Нам бы только век простоять да миг продержаться – тот миг, когда покидает душа земную юдоль на новые – вечные странствия.
Господь спросил апостола:
– Камо грядеши? – и апостол взошел на свой смертный, свой крестный, свой спасительный путь.
Куда грядем мы, люди русские? Не к Вечному ли Дому?
Удивительно: мне стали сниться воспоминания о событиях, которых в моей жизни не было. Снятся мои черновики с описанием этих небывших событий (а во снах они самые что ни есть реальные); снятся незнакомые люди, очень хорошо, оказывается, знающие меня, называют по имени, гостеприимно распахивают передо мной двери – неведомо куда. Что это? Где витаешь ты, душа моя, в каких далях плещешься, в каких юдолях мятешься?
Узнаю ли? Когда?
Что знает мир о родине моей?
Велик ему соблазн войти в питомник,
Где, ополченный колкостью ветвей,
От роду сладок матушкин крыжовник.
И так высок отцовский виноград,
Что не задеть косынкой пестрядинной!
И ныне дозволяет вертоград
Расплакаться в листве своей былинной.
Ах, поздних слез простительная прядь
Былых мечтаний, радостей, желаний!
Теперь почти единственная рать
На страже постаревших упований…
Камень был гладким, ярко-серым. Такой природный ясный серый цвет мне редко доводилось видеть, разве что в окраске сизарей. Но, скорее всего, камень таким ярким только казался: на самом деле его матовые бока парно истаивали на солнце под моими мокрыми, в кристаллистой рапе, пальцами.
Я держала в руках шестьдесят миллионов лет. Именно столько времени назад, по ученому разумению, наш поволжский край был Хвалынским морем. Теперь-то здесь и леса, и степи, и полупустыни. Море ушло, как уходит все, но оставило среди прочего этот камень из затвердевшего ила. Словно новооткрытой породе, я сразу же нашла ему имя: серый ильняк.
Удивительно, что удалось его разглядеть среди множества других камней – старых, обветренных горячим эльтонским зноем, и совсем свежих осколков илового разлома, громоздящихся повкруг озера Эльтон на каменно-упружистой глади бывшего морского дна, по которому я изнуренно-долго подбиралась к кипящей солью рапе и черной живоносно-целебной эльтонской грязи.
Впрочем, камень сам позвал меня, белесо блеснув навстречу. Как любопытная сорока, я тут же полетела на это призывное сверканье и обрела чудо.
Да, земля подарила ярко-серое диво в форме неправильной, но гладкогранной пирамидки, на одной из сторон которой известково сиял отпечаток маленькой раковины-гребешка.
Не однажды до этого я видела древние листья и цветы, уснувшие в прозрачной оранжевой смоле балтийского янтаря. Наблюдала в застывших кусочках света прерванный полет мотылька или жаркий озноб крошечной сосновой ветки. У меня даже есть янтарная низка, в самой крупной бусине которой навеки трепещет золотистая пчела.
А на непрочной поверхности серого эльтонского ильняка трепетала белая быль гребешка, ничем не защищенная от солнца и дождей. Я испугалась, что известковая раковинка вот-вот канет в нети, и увезла ее домой.
Долгие годы камень-гребешок провел среди моих средиземноморских и черноморских поющих раковин, рядом с перламутровыми домиками речных мидий и улиток. Иной раз гребешок даже казался любимой игрушкой из детства, а в прекрасный день своего шестидесятилетия я почти всерьез подумала о том, что мне не шестьдесят, а все шестьдесят миллионов. Может быть, с днем рождения меня поздравила вечность?
Не зря ведь приснилось: просто, по-крестьянски, но в богатых древнерусских традициях одетая женщина сказала мне:
– Умножение познания, – и ушла.
А кто-то через века произнес:
– Да ведь ты уже умерла.
– А я и стихи об этом написала, – ответила я кому-то, – и они уже опубликованы.
…И жить, как все живут, в мечтах и скуке,
Не поминая Божеской науки,
Считать, зевая, дни зимы и лета,
Твердя недоуменно: жизнь нелепа?..
Все так и было, так и шло до смерти.
Теперь я умерла – удостоверьте
Мою кончину, недруги и други:
Я поменяла круг тщеты на круги
Познания того, что знала с роду,
Но гордо забывала год от году,
Хвалясь высоким «избранным» уделом,
«Невиданным» в сем мире оскуделом…
Кто подстерег мою простушку-юность
И выдал за мудреную угрюмость?
Кто ум вправлял в мерцательную раму
Гордыни, наворачивая драму?
Не помню, и кого об этом спросишь,
А без стыда лица ведь не износишь,
Не высмотришь, не вымолишь ответа
На все вопросы старенького света.
И вот я умерла. Как будто просто:
Иного взора я, иного роста,
И все, о чем знавала стороною,
Я нынче вышиваю сединою.
Ах, вышивка моя! Кресты на глади…
Возможно ли такое? Но во взгляде
Художницы-судьбы укора нету:
Небось, вольна дивиться белу свету!
Прочла в Послании Коринфянам святого Апостола Павла: «Я каждый день умираю…» (1 Кор. 15. 30, 31). И ведь во всех веках люди после прихода на Землю Господа так умирали, – выбираясь из скверны, – иначе мир был бы другим: нераскаянным, непрощенным.
Всякий человек непременно падает. И не хочет, а рушится вниз на ходу-на бегу. А, падая, кланяется Небу и набирается живительной силы от Земли. Стало быть, постоянный «спотыкач» в судьбе необходим для выпрямления. А выпрямляет-то души Господь. Значит, падение есть земной поклон Богу.
Сказано еще: «Господь кого любит, того наказывает… Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12.6,11).
Накануне очередного Татьяниного дня, любимейшего в России, позвонила прилежная, судя по голосу, корреспондентка еженедельника «Телесемь» Аня и предложила поместить мое интервью с фотографией.
– А о чем говорить будем?
– Про имя Татьяна, про всякие интересные события в вашей судьбе. В общем, про Татьянин день.
– Хорошо, я приду.
Невероятно: я – и гламурный журнал, от обложки до обложки набитый историями даже не о випперсонах, а о каких-нибудь псевдовипах! Интересно, к какой категории гламуровцы попытаются подвязать меня, грешную?
Тем не менее решила отнестись к приглашению серьезно. Подготовила текст, нашла хорошую фотографию – на ней я вместе с паломниками у храма в Серпуховском монастыре. О чем написала? О бабушке Татьяне Алексеевне, в честь которой названа. О своей небесной покровительнице святой мученице Татиане. О телепрограмме «Свеча», день рождения которой – 25 января 1995 года – совпадает с Татьяниным днем.
Журнал вышел в срок, я открыла его, глянула на свою фотографию – и обомлела: голова с ноготок-копеечку, три строчки текста про сериал «Татьянин день», и все. А где монастырь, где рассказ о бабушке, о святой Татиане, о «Свече»?
Отправилась в редакцию. Наталья, редакторша выпуска, вежливо-доходчиво, как глухонемой, объяснила мне:
– Если бы вы принесли свою фотографию с Малаховым или, в крайнем случае, с Путиным, мы бы подали вас на целую страницу со всем вашим текстом. А так – 250 печатных знаков, не более. Для нас вы не представляете интереса.
– А я не для вас на свете живу, деточка, – изо всех своих Татьяниных сил я постаралась скрыть негодование и тут же поняла, что не преуспела в этом: редакторша весело глядела на меня, как на пустое место.
Да, эта молодая Наталья, видно, будет посильнее всех других Наталий, встреченных мною в жизни. Недаром в святцах это имя с греческого переводится «природная», а природа есть стихия, не управляемая никем. Кроме Бога, конечно.
А мне нравится, что я Татьяна, что это имя собирает под свое древнее крыло устроительниц, законодательниц, просветительниц. Нравится, что огромная моя родина раз в году с утра до ночи с любовью окликает и поздравляет меня с праздником. Даже то нравится, что мне, Татьяне, живется трудно, и немудрено: ведь имя начинается с буквы-креста.
В Татьянин день 1995 года я выступала на волгоградском телевидении в программе «Четвертая высота». Сохранились некоторые записи, вот они.
…Боюсь, я не совсем подходящая кандидатура для разговора о прессе как о четвертой власти. Потому что я не политик-человек и не политик-журналист. Но сама тема интересна. Не зря некоторые футурологи – и зарубежные, и отечественные – рисуют такую картину: в XXI веке власть практически полномочно находится в руках информационных структур, особенно электронных.
Мне лично это представляется опасным. Зависимость наша от современной прессы и так велика: люди всему предпочитают компьютер, «телеящик» или газету, просто жить без этого не могут. А со временем компьютеризация интеллекта будет возрастать, и что мы получим? Вопрос чисто риторический.
Жесткое энциклопедическое определение термина «политика» меня всегда впечатляло: «Политика – сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и различными социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти». Да, любая проблема в любой сфере жизни приобретает политический характер, если ее решение связано с проблемой власти. Наверное, чтобы быть политиком, нужно иметь особенное внутреннее устройство: надо уметь быть рядом с властью, независимо от меры талантливости.
У Владимира Соловьева в работе «Русская идея» есть такое выссказывание: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»[1]. В представлении Соловьева Русская идея заключается в восстановлении на земле верного образа Божественной Троицы (церкви, государства и общества) «в неразрывной связи с семейством Христа».[2] Но коли так, не политика, а духовность нужна нам и ныне, и присно, и во веки веков. Так и повелось издревле, но со столь же незапамятных времен Отечество всемирно испытывает давление сил зла на свою бессмертную душу, на самые основы своей священной государственности.
Государство, господарство – Господень дар. Язык хранит для нас истину, ведь главная его черта – первозданность, безусловность. Значит, владеющий языком профессионально обязан быть проповедником, проводником истины. А есть ли истина в политике?
Лучшие политики – это поэты. Аристотель писал в трактате «О государстве» о том, что поэтов надо изгонять, поскольку они главные враги государства. Еще бы: поэты проповедуют истину, призывают к любви и справедливости! Конечно, Аристотель имел в виду государство рабовладельческое, языческое. А поэт поет о Граде духовном, который строит в нас Господь наш Иисус Христос.
Из многих своих соименниц люблю актрису Татьяну Самойлову: ведь это к ней журавли в святом русском фильме «Летят журавли» все возвращаются и возвращаются, к ней – и домой, на Русь. Татьяна не просто играет женщину, но является образом встречи и этой женщины, и многих других, и моей матери с Родиной. Наверное, это ощущение родилось потому, что актриса очень похожа на мою молодую маму.
Долгие послевоенные годы страна с трепетом наблюдала, как летят журавли домой, а между тем в реальном, некиношном Русском времени наступала зима.
Родина стала похожа на растерянную журавлиную стаю. Старики-вожаки все еще вели, еще держали ее, еще призывали к возвращению домой, но обеспамятевшая в морозах стая жестоко-нетерпеливо заклевывала крылатые силы старших, пропуская в ряды впередсмотрящей рати крепнущую молодь. Наконец, старый вожак сложил могучие крылья, потом еще один, еще… Вот в битву за верховенство вступили два самых серых журавля – только перья полетели… Но победитель не знал, куда лететь, и стая осела на земле, не понимая, за что ее лишили неба.
Татьяна Самойлова потому великая актриса, что помнит: «Летят журавли»! Никакой тоски в ясном женском взоре, только счастливые слезы: летят журавли, летят! Возвращаются домой, в послевоенную нашу жизнь, еще не замученную чужебесием.
«Большое видится на расстоянии», – сказал другой великий – Сергей Есенин. То большое, что было, невозможно восполнить тем малым, что есть. Потому что и большое, и малое – наше общее, наше Русское, наше соборное. Примиримся на этом, зная теперь, через время: Великая война продолжилась Великим послевоеньем, ведь журавли улетали и возвращались.
Послевоенье – это не просто первые годы жизни после войны. Послевоенье – жизнь без войны. Послевоенье моего послевоенного поколения длилось до начала Афганской военной кампании. И все это долгое время жития нашего народа после Великой Отечественной войны, обалгиваемое ныне рассеянными по миру всяко-разными «идолищами погаными», было самым благополучным в советской истории, а Отечество – самым сильным.
В своей замечательной книге «Невидимая Хазария» другая моя соименница Татьяна Грачева пишет о том, что священная государственность сводится к одному слову – жизнь, которое заключает в себе три самых важных христианских понятия – веру, надежду, любовь – во всех их высочайших проявлениях в человеческом поведении.
Прошло время, подросли новые журавлята, в их юных крыльях затрепетала древняя тяга к полету. Вон они, журавли, летят. Видите? Возвращаются домой… Правее, правее смотрите: летят рядом с солнцем! Увидели? Ну вот и хорошо, ведь нам вместе с ними поднимать и вести стаю.
С замиранием сердца я ждала появления своей книги «Вериги любви». Раньше трепетала, нынче волновалась всерьез. И то: раньше была поэзия, а теперь года склонили к суровой прозе. Описывать реальную жизнь – не в бирюльки играть. Психоз достиг апогея, когда невидимые миру вериги, случайно защелкнувшиеся на моей шее в Переяславльском Рождественском монастыре и за годы пригревшиеся на моей душе, как родные, увидел слепец. Человек как человек, только с поющей палочкой и задумчивой собакой.
Она первая подошла ко мне, помахивая хвостом и улыбаясь, и что-то сказала на особом, с музыкальным подвывом, языке.
– Повтори, – попросила я, – не разобрала.
– Она вас пожалела, что тяжелая на вас шкура, – перевел человек.
– Шкура как шкура. То есть… что имеет в виду ваша дворняжка?
– Это она теперь дворняга, а раньше была неведомой породы, уж не знаю, какой. Напросилась ко мне в поводырки, я не отказал. Вдвоем, как вы понимаете, виднее на миру живется.
– И, стало быть, рядом с вами в дворнягу превратилась?
– Так ей захотелось. Я думаю, что ее мои страдания переменили. Сердечная собачка, ласковая. Моя лохматая стена.
«Стена» потерлась о мою правую ногу, потом зашла с левой стороны, выжидательно поглядывая.
– А вы погладьте ее, не бойтесь.
Собак я сроду не боялась. Погладила, глубоко запуская руки в рыжую шерсть.
– Давно ли вериги носите? – а ведь этот вопрос вроде и не должен был прозвучать…
Я уставилась на слепца:
– Вы что, ясновидящий?
– Можно и так сказать. Зрение – явление многообразное, одним определением не обойтись, – человек снял черные очки, и я увидела ярко-синие, с незрячей прозрачинкой, глаза.
– Как это случилось, ну… что вы… – мои слова словно стеснялись соединиться в стройную речь.
– Я глазами слеп от рождения, но вижу по-иному. Вас вот вижу с цепями на шее. Их ведь на самом деле нет? Есть ваше согласие их носить. Стало быть, я вижу это согласие.
– Цепи настоящие, святого Никиты Столпника вериги, они в храме монастырском висят, рядом с алтарем. Ну, а на мне – воспоминание о них, наверное.
– Добро, добро… Жизнь тяжела, как вериги, а – не скинуть, приходится носить. И все ведь так живут, каждая живая душа.
Мы распрощались – мужчина, женщина и собака, носители памяти о древнем содружестве в земном мире. Так вот о чем загадочные вроде стихи моего учителя Федора Григорьевича Сухова! Он тоже видел.
Глас вопиющего в пустыне,
А может, не в пустыне, нет.
Не верится, что хизнет, стынет,
Наш белый леденеет свет.
Не леденеет, свято верит
Душа душе, рука руке,
И возглаголят даже звери
На человечьем языке.
Написано в далеком 1980-м, аукнулось – ныне. Вспомнились и мои давние черновые строки непроявленного стихотворения, не перенесенного на бумагу из стихийного виталища-пространства. Ну-ка, рассмотрим словá через время:
Вся живность говорит на Божьем языке,
Иначе бы мы мира не объяли…
Эти перекликающиеся с суховскими строки я извлекла из собственного сердца тогда же, в 1980 году, в пору своего 33-летия. Строчки «улеглись» в черновую папку, но о чем они, я тогда просто-напросто не понимала. Теперь-то знаю: душа готовилась к принятию благой ноши возраста Иисуса Христа, ведь Он всех и навсегда призвал: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня…» (Мф. 11.29). Господь распечатывал замкнутые до поры до времени в моем сердце пути стяжания истины, раскрывал плотяные затворы, и я снова училась говорить.
Имя земной твари дал Адам, и этим Господь указал на владычество первочеловека над иными насельниками Эдема. И покорилась человеку всякая плоть, и стала ему служить: гнуться звериным рыком до земли, воздыматься зорким клёкотом до неба. Путь-то через горы-долы жизни и смерти лежит пред человеком немалый, неведомый, непреклонный…
Когда мне встречается бездомная собака, знаю заранее: сначала она осторожно двинется следом, потом рядом потянется, робко заглядывая в мое лицо и повиливая хвостом. А когда поймет, что нравится, побежит, счастливо лыбясь, впереди новоявленной хозяйки. Своим нежным трепетным сердцем собака чует временность своего обретения, но все равно готова любить и служить. Ведь так повелел Бог.
А может быть, собака и не подозревает о существовании времени? Что если земная жизнь для нее вечность, в которой непременно надо быть рядом с человеком?
Через много лет я открыла «Псалтырь в Святоотеческом изъяснении», изданную на Святой Горе Афон, и прочла: «Глас Господень – это благодать Святого Духа. Глас Господень творит чудеса в чувственных стихиях: в морях и реках, в воздухе и в облаках… Всякая тварь едва не вопиет, возвещая о Своем Создателе. В пророческом смысле – это предсказание Гласа с Неба на Иордане, который возгремел над водами многими, Своему свидетельствуя Сыну»…
Вскоре после выхода книги о веригах любви я получила первый отзыв – длинное письмо из Суровикино от старого станичника Алексея Алексеевича Лободина. О многом это письмо: о детстве и войне, о городе и деревне, о стариках и детях. О минувшем, настоящем и будущем.
Между прочим, не зная о моих научных изысканиях, Лободин предлагал мне «засесть» за кандидатскую диссертацию о языке эпохи Александра Невского: «Еще поработать – и с Божьей помощью…».
И далее: «Особо хотелось бы коснуться темы о Сталине. Вы пишете: «Всю жизнь ищу ответ на очень важный для меня вопрос: почему плакали мои родные, когда умер Сталин?». А у меня к Вам вопрос: Вы читаете то, о чем пишете? Вы же сами отвечаете, и совершенно правильно отвечаете! И я считаю так же, как и Вы: в эпоху Сталина народ знал, что находится под надежной защитой, что Сталин защищает страну, а значит, народ. Вот поэтому все и плакали, ведь никто из простых смертных не ведал, что будет после. Назовите хоть одного человека, кто плакал бы о Хрущеве или Ельцине (кроме родных). В период ельцинской «свободы» вспомнили древнюю фразу: «Надо собирать камни». На самом деле Ельцин так их разбросал, что Путин за восемь лет своего правления собрал лишь малую толику булыжников. И неизвестно, сколько десятилетий будем их собирать…».
Длинное письмо, которое Лободин, стесняясь, называет «умномыслием» (кавычки его, авторские), успокоило и утешило: не наврала я, стало быть, не напридумывала. И впредь мне наука: не умом сочиняются книги, а сердцем. А в сердце у каждого – Бог, чего же бояться, если – с Богом?
Книгу мою Алексей Алексеевич Лободин обсудил с другими стариками на бугре, куда они с молодых своих лет собираются для бесед под хорошую чарочку. Разные старики: Лободин, например, бывший милиционер, а кто-то ветврач или, к примеру, механизатор…
Письмо имело продолжение: супруга Алексея Алексеевича – Лидия Васильевна – прислала со своим сыном поэтом Николаем Геннадьевичем Луневым посылку с припиской: «Здоровья Вам под Покровом Божией Матери и Ангела-Хранителя. Попробуйте деревенских гостинцев, все свое, домашнее: молоко, сливки, масло, вино, травы. Из сушеных яблок, груш, слив и вишен сварите взвар и насладитесь этим древним казачьим напитком».
Лидия Васильевна и позвонить не забыла – узнать, понравились ли скромные дары. Прощаясь, благословила: «Храни Вас Господь в Ваших мытарствах». Высока цена прозорливости материнской, ох, и велика… И посылка тоже была со значением: в простом бумажном пакете с православным крестом.
Спасибо, матушка Земля.
А вскоре я встретилась с добрейшими Алексеем Алексеевичем и Лидией Васильевной в их доме в Суровикино, три дня гостила в золотоосенней усадьбе, согревалась в лучах октябрьского солнца и крестьянского радушия. Ни то, ни другое не подвластны никаким потрясениям, наоборот: Божие солнце да человечье сердце держат, обогревают русскую земелечку всегда, бессрочно. Вечно.
Ну как не поговорить об этом! И говорили: за чаем на крылечке, за обедом в доме, во время прогулок за околицу к Поклонному Александро-Невскому кресту, по возращении с церковного богослужения из храма Михаила Архангела…
– Что удивительно! – восклицал Алексей Алексеевич. – Столько переживаний, мол, не так живем, то да сё… А почему? Если, конечно, закрыть глаза на то, что страну разрушали исподтишка много лет подряд и свои, и чужие супостаты, то теперь, когда злодейство состоялось и правда вышла наружу, что нам делать? Продолжать трандычить, что раньше было лучше?
– А чем мы сию минуту занимаемся?
– Тогда так: да, было лучше, потому что была дисциплина. Без неё русскому человеку не выжить. А где она сейчас, дисциплина? Народ в растерянности: куда идти, кого держаться? Или чего?
И вспомнились мне слова моего отца об этой самой дисциплине: «Никакой дисциплины жизни не будет, если подрубать ее под корень, если все на западный лад переиначивать, – для русских это не подходит! У русских всегда порядок был от совести, потому что каждый хозяин по совести дом держать должен». Отец, отец, как мало, как рассеянно я тебе внимала!.. Между тем Лидия Васильевна вздыхала и поддакивала супругу:
– Все так, все так… Но только никакой дисциплины не будет без Бога, без молитвы. Так жили встарь, так живем и мы. Иначе давно бы все сгинуло…
Правда ваша, Лидия Васильевна, да и наша тоже.
Если в Житне-Горах идет дождь, село становится совсем другим: небо, задымленное сырыми даже на погляд тучами, склоняется низконизко к окошкам, к завалинкам, к плетням, к огородам и садам. Хаты в притворном испуге прижимаются друг к дружке, ознобно-мокро сдвигают чубатые лбы, стряхивают с ресниц дыряво-соломенных карнизов серебряные небесные нитки, но дождевые струи все равно приминаются к стеклам, бело-прозрачно растекаясь по ним парным молоком домашнего тепла. Сквозь этот легкий парной туманец неясно, но все же видны и кусты малины рядом с завалинкой, и горки яблок-падунцов на садовой лавочке, и тучи, из которых кто-то хмуро смотрит на меня, а мне совсем не страшно в старых стенах дедовой хаты.
Дождь в полной своей босяцкой красе гуляет по селу, не боясь ни колдобин, ни ям: кроме пуховой пыли, на сельских дорогах нет ничегошеньки, только трава да деревья смиренно вздыхают вдоль обочин с утра до ночи, с ночи до утра. О своем молодецком загуле дождь всегда предупреждает загодя: залетает вдруг сразу во все окошки сильный и нежданный посреди зноя прохладный сквозняк, и вся хата наполняется несказанно свежим запахом, в котором аромат листвы перебивается веянием спелого вишенного клея и дорожной пыли, незакрытой копешки сена и черненной солнцем соломенной крыши, сохнущего на конопляной веревке белья и забытых на крыльце деревянных, крашенных морилкой, кукол… Но над всем царствует благорадный дух земли.
Благоуханье деревенского дождя сравнимо лишь с таинственно-нездешним благовонием церковной службы. Не потому ли, что их роднит Небо?
Идет дождь – хорошо и саду, и мне. Душе уютно знать, что там, за окошечком, густая мокрая зелень, и на ее дымчато-пуховом, с серебряной искринкой, фоне сияет в струях небесных свечечка красно-оранжевой лилии.
А потом, после дождя, такое в саду победное птичье пение! Хрупкие створки окошечка легко поддаются ладоням, растворяются, и я, ныркая прóсвернь, перелетаю через узенький подоконник – в сад, к вишням и яблоням, смородинам и малинам. Главное, чтоб началось утро с лилии за окошечком. Или с розы, или с георгины, или с астры. Здравствуй, окошечко, с дождиком и солнцем тебя, с летом и зимой!
Сад этот – дедов, и хата, крытая соломой, дедова, и в поющих деревьях или снегах село дедово, и речка внизу, под огородами, дедова, и даже небо над деревьями – дедово, потому что с детства гляжу я на сад, на речку, на небо из дедова окошечка в украинском селе Житне-Горы.
В окошечко это видно и сталинградское мое детство, и до того ладно соседствуют Украина и Россия! На всю свою жизнь, на все окрест себя гляжу из единого родного окошечка воспоминаний. Иногда рядом со мной есть кто-то, кому тоже хочется заглянуть в мое окошечко, – пожалуйста, теснюсь я, милости прошу! Каждый Божий день окропляю окошечко водой из украинской дедовой криницы, вытираю старенькое стекло чистым холстом из русского бабушкиного сундука. Рядом с окошечком на беленой стене висят фотографии в самодельных рамках из вишневых веток, украшенных соломкой, – труды отца. На другой стене – портреты сына и внучки. Я смотрю на свой дом неведомо откуда – словно изнутри, иногда не понимая: а где же я? Вглядываюсь в меловой экран стены, и на нем, трепеща, проступают мои косы, моя улыбка, мои слезы, мой взгляд навстречу мне, навстречу детству и юности, зрелости и старости.
Недавно подумала: жизнь – действие неосязаемостей, но разве можно осязать время или воспоминания? Между тем они и есть жизнь на том самом экране из холстины, из рядна ли, из цветной ли бумазеи. Надо ли поддаваться влиянию осязаемостей? Кто знает, все равно ведь то, что тебе уготовано, произойдет. Когда-то в юности я написала: «Как же узнать, что уже получилось?». И ответила самой себе: «Надо все это прожить».
У времени разная скорость. В зрелости становится непонятным и загадочным то, что молодость считала обычным. «Неужели это я? – думаю я. – Осторожная, вздрагивающая, окутанная видимыми и невидимыми тайнами, живущая сновидениями и воспоминаниями…». Где мое время? А вот оно – в настоящем. Потому что прошлое – уже воспоминание, а будущее – неосязаемая надежда.
Детская душа наблюдала, да забыла многое, чем наполнялись ее корешочки, ее серединочки и вершочки. Но самое главное, чем воспиталась (вос-питалась) моя душа на земле, она знает, и это знание – Дом.
Какое счастье, что мы с братом не ведали сиротства, что у нас были отец и мать, по-разному, но одинаково заботливо нас пестовавшие и любившие! А ведь в бекетовском переулке Апухтина, где мы жили, и в других переулках, на других улицах многие сверстники наши росли без отца или без матери, и это было горе.
Когда наступает лето, в открытые окна моей нынешней квартиры, смеясь, влетают ветреные сквозняки, в цветастых кухонных занавесках озабоченно хлопочут случайные, но от этого не менее прекрасные осы и пчелы, в стеклах посвечивает-отражается блестящая листва верного приоконного тополя, а с зеленотравного поля двора разлетаются на весь окрестный белый свет колокольчики детских голосов. Радость, радость, радость!
Много-много миновало и осталось в памяти моего многонаселенного дома хороших детских лет, называемых счастьем. Сегодня, наверное, такой же день, такой же вечер. Вот уже мамочки выкликают из окон своих деточек:
– Маша, домой!
– Коля, кино начинается!
– Роза, ужинать!
Потихоньку колокольчики стихают, и для меня наступает пора тихого сумерничанья. Привычно зажигаю любимую настольную лампу, раскидываю умом, вглядываясь в свои утренние почеркушки: ужó, душенька, потрудимся… Но что-то отвлекает от чистой бумаги, ожидающей пришествия письмен.
Колокольчики, детские колокольчики, нарастая, приближаются и вот уже звучат прямо под моим балконом, и столько в них слез, столько горя!
– Дядя, отдайте, ну, пожалуйста!
– Дядя, это мой телефон, вон он у вас в кармане!
– Я вот папе скажу, он вам задаст!
Перегибаюсь через перила балкона, вглядываюсь в быстро темнеющее дворовое пространство, по которому стремительно удаляется в уличную арку полноватый мужчина в светлой майке, на ходу громко-раскованно говоря:
– Какой телефон? На кой он мне сдался, ваш телефон?
Голос человека лет сорока… наверняка отец семейства… телефон для сына, наверное, у чужого ребенка отобрал… может, спьяну? Впрочем, этого уже не узнать: мужчина ныряет в арку и пропадает – видимо, навеки. Его уже не догнать, да и кому? Словно в подтверждение моих мыслей, с соседнего балкона доносится возмущенное:
– Вот гад! Не успею ведь, ушел!.. Ребята, эй! Гоните на остановку, за ней пост милицейский, слышите? Да быстрее, может, поймают!
Но дети-колокольчики побежали в обратную от арки сторону, тоненько-слезно дрожа голосами:
– Папка не заругается, я не виноват…
– Не бойся, у тебя отец добрый!
– Я не боюсь…
– А дядьку этого отец твой найдет?
– Не знаю… У нас ведь собаки нету, нужна собака…
Дети убегают, а я, потрясенная случившимся, долго не ухожу с балкона. Мне кажется: что-то еще должно случиться, и это «что-то» удержит исплаканное сердце от разрыва. Без этого «что-то» мне не выжить сегодня…
Звонит телефон, беру трубку с величайшей осторожностью, словно она может разбиться от первого же сказанного кем-то слова. Но Бог милует.
– Привет-привет, бабуля!
– Здравствуй, Люсенька! Как ты? У тебя ничего не случилось?
Внучка смеется:
– Баб, ты всегда так спрашиваешь! Что со мной может случиться? Звоню сказать, что сдала все экзамены, буду получать стипендию!
– Как, и психологию сдала? Ты же ее так боялась…
– Баб, мне некогда, меня Ксюша ждет, пока-пока!
– Ну, пока…
Вся в мамочку свою Риту, та тоже так: привет-привет, пока-пока… Нет чтобы по-человечески здороваться и прощаться… И тут же я устыдилась своего ворчанья, раскаялась: слава Богу, что есть кому со мной здороваться-прощаться по-родному. Не искушай Господа, баб Таня.
Душе полегчало: ведь произошло хорошее «что-то», мой семейный колокольчик прозвенел, утешил. Но вернутся ли те, другие? Зазвенят ли снова у моего балкона раненные чужой подлостью голоса? Двор у нас общий, разные люди проходят по его живому полю. Добрые и травинки не примнут, а иные приносят на своих подошвах гиблые семена повилики. Приносят горе.
Такого в моем послевоенном детстве не случалось… Каждый ребенок был святыней – свой ли, чужой, – младенцем мира. Что же происходит нынче? Ведь нет ни войны, ни послевоенного бедства, ни голода. Но множеству «беспредельных» пап и мам, народивших детей в эпоху «нового мирового порядка», чего-то не хватает. Чего?
Может быть, священного желания жить, которое передали нам вернувшиеся с войны родители-фронтовики? Великой нежности, упасенной ими среди смертельного огня? Послушания старшим? Почитания предков-праотцов? Веры?
Все меньше их, великих стариков и старух, среди нас. Колышутся по стежкам-дорожкам, реют на ветрах-сквозняках. Какая бы погода ни стояла на дворе, для стариков она единая – стылая, не земным морозцем прихваченная, а – Вселенским.
Пергаментно-морщинистые, согбенно-медлительные старые люди смиренно взглядывают вокруг, не понимая: все их хлопоты о детях и внуках давно стали заботами о самих себе… Да ведь что-то надо им делать, чем-то надо заниматься, чтобы совсем не обезручеть, не обезножеть, не зарасти заживо травой.
…Привычно провожаю взглядом через окошко малолюдной «маршрутки» знакомые с детства дома и скверы, рассеянно сопрягая зрение с каждой подробинкой городской дороги. Вот сейчас будет поворот с Рабоче-Крестьянской на Огарева, здесь всегда кто-нибудь подсаживается. Так и есть: старик в бело-кремовой чесучовой паре, в соломенной шляпе призывно поднимает руку, близоруко всматривается в приближающуюся машину и уже ступает с тротуара ей навстречу. Хорошо, что рядом со мной есть свободное место.
Но «маршрутка», чуть замедлив на повороте, вдруг делает рычащий рывок и проносится мимо. До меня случившееся доходит не сразу: ну не остановил водитель машину, такое частенько бывает. Но ярко вспыхивает внутреннее зрение, и при его резком свете я вижу растерянную празднично-светлую фигуру старика: он опирается на древне-темную трость и вглядывается изумленно почему-то в меня… Словно молит о помощи. И я бросаюсь в бой.
– Остановитесь! – кричу так, как будто мне надо переосилить сразу все: и усмешку водителя, лениво отразившуюся в зеркале кабины, и недоуменно-безразличные лица пассажиров, и ставшую вдруг нестерпимо громкой «попсу», от которой глохнет белый свет. И главное – свою усталость, свою болезнь, свою одинокость.
«Маршрутка» резко тормозит, водитель, не оборачиваясь, тихо и как-то угрозно спрашивает:
– Чего надо?
– Вернитесь, заберите человека!
– Я сам знаю, что мне делать.
– Не имеете права! Он ведь старик…
– Выметайся.
Все молчат, но я и не надеюсь на поддержку, наученно понимая житейскую справедливость этого молчания: надо ехать, а тут – баба ненормальная… ишь, умная, очки нацепила… таким на дорогом такси надо ездить… и нечего водителя расстраивать, еще опрокинет машину…
Выметаюсь из «маршрутки» – она тут же срывается с места, мчит вдаль – и остаюсь одна. Одна – потому что не знаю, найду ли старика. Наверняка его уже нет на том повороте, наверняка уехал. И все-таки возвращаюсь – сама не знаю зачем.
Издалека вижу, как старик, неуклюже согнувшись, забирается в другую «маршрутку», дверца захлопывается. Знаю: мне стоит только поднять руку, и я буду не одна, я тоже поеду.
Но номер на ветровом стекле незнакомый. Выходит, старик просто ошибся? Когда же: в первый раз или теперь? Да что это со мной? История-то пустяковая. Надо ехать.
И еду. Иной раз, забывшись, слежу из окошка за прохожими, будто выглядываю среди них кого-то очень и очень мне нужного. Ну, не старика же… Тогда кого? Догадываюсь, конечно, и от этой догадки хочется плакать. Да и внутреннее зрение иной раз подтверждает удивительное: на дорожном повороте стоит мой отец в старомодном чесучовом костюме, в соломенной шляпе, и машет мне вслед, не пытаясь задержать, остановить, окликнуть. Знает: мне очень нужно ехать, чтобы продолжить движение к Вечному Дому.
Самые важные истины открываются в этой долгой-предолгой дороге – сердечные, нечаянно-великие. С годами особенно внимательно вглядываюсь-вслушиваюсь в движение жизни, сравниваю новое время с пережитым, и от этого сравнения иной раз бывает душе радостно, а когда и досадно. Хотя умом и понимаю: нельзя жить прошлым. Но при чем ум… Самое главное, самое родное согревается в сердце, и оттого оно сладко, непреходяще болит. Поэтесса Лиза Иванникова однажды придумала прекрасную строку: «Я родину по боли узнаю». Не умом сочинила – сердцем.
У всех ведь так – сердечно, не иначе – судьба сочиняется. И у этого старика, только что вошедшего в троллейбус и оглядывающегося в поисках свободного сиденья. Но людей много, и старик стоит, держась обеими руками за придверные поручни. Ему тяжело, но что делать… надо терпеть… Наконец, на очередной остановке статно сидящая в первом ряду краса-девица выпархивает из троллейбуса, и старик усаживается на ее место, утирает лицо огромным клетчатым платком: жарко! Но все же полегче, чем нам, стоячим пассажирам, теснящимся в душной троллейбусной толчее.
Через минуту наблюдаю, как старик возвращает в карман своей древней рубашки-«ленинградки» платок, взамен достает мобильный телефон:
– Тоня, я ведь удостоверение забыл, что теперь – возвращаться? Да нет, не пенсионное! Ты что, не знаешь, оно у меня в кошельке всегда… Великое, великое забыл, ты посмотри, в столе, там оно… Нету? Значит, на тумбочке в спальне. Я, как собирался, туда положил его, наверное, да забыл… Нашла? Ну, слава Богу. Ты привезла бы мне его на наше собрание, а? Другие-то великие будут с удостоверениями… Это во Дворце культуры Ленина… Тоня, привези, сам я обернуться уже не успею…
Из троллейбуса мы выходим со стариком вместе, я некоторое время иду рядом со старым человеком, но потом опережаю его. Оглядываюсь один разочек, удостоверяюсь: великий шествует потихоньку-полегоньку, значит, опоздать не боится. Значит, у него еще есть время.
Вот как, оказывается, старики-ветераны называют себя: великими. И удостоверения у них великие. И вся их жизнь, навек соединенная с Великой Отечественной войной, великая.
Я знаю: великое множество русских людей издревле шествует по родимому Русскому времени-пространству, удерживая великую землю в своей невеликой горсти.
Родители мои родились в селе: отец – на Украине, в Житне-Гóрах, мама – на Быкóвых Хуторах под Сталинградом. А встретились на войне. Мама в молодости была настоящая красавица: черноокая, с длинными косами, величаво-стройная. Отец полюбил ее, едва увидев, и – на всю жизнь.
В моем архиве хранятся их военные билеты, в них – даты и места прохождения воинской службы, звания, должности, награды. Отец отдал армии почти десять лет: на финский фронт он ушел в 1938, вернулся с Великой Отечественной в феврале 1947 – из Болгарии, а позже Румынии, там после войны служил начальником двух отделений, эвакуационного и инфекционного, в ветеринарном лазарете. А мамина служба была короче: мобилизована в феврале 1943, когда вернулась в Сталинград из-под Белой Калитвы, и служила затем врачом на разных фронтах Великой войны. Когда же и где они встретились, мои родители? Я листаю военные билеты, сопоставляю цифры и наконец нахожу: 3-й Украинский фронт, Запорожская Краснознаменная и ордена Суворова дивизия, апрель 1945 года. Они встретились накануне Победы!
В Россию, в Сталинград, приехали только в феврале 1947-го, и вскоре, в июне, родилась я, а еще через два года – брат Витя. Когда я размышляю о своем существовании в вечности до прихода в этот мир, я пытаюсь неведомое (или забытое) достроить воображением и всегда вижу почему-то бескрайнюю снежную землю, по которой идут мужчина и женщина.
Ложились отческие рати
Во снеги смертны, аки в сны,
Но шли и шли отец и матерь,
Все шли по времени войны.
Их души прятал огнь Небесный
От преисподнего огня –
И возвышался ход сокрестный
В святом предчувствии меня.
Мне всегда было важно знать, какой она была, моя земля, явившая меня на белый свет. Какой она была до войны, во время войны, после войны? Ведь я сама выбрала место своего рождения, как и всякая душа выбирает… Почему Сталинград? Что особенного в этом земном краю?
Семья наша всегда жила на городских окраинах. Сначала в поселке Отрада, в доме у дороги: там снимали комнату. Этот дом и поныне жив, но, проезжая мимо, не плачу о нем, не горюю, ведь настоящий наш дом, свой, появился много позже. Его построил в Бекетовке отец – конечно, не без помощи мастеровых людей, но и сам он умел и стену сложить, и раму связать. Дом казался мне огромным: с двумя печами – русской и голландской, с кухней, верандой и чуланом.
Так и вижу: дым под родименькой крышей струит себе, струит – до первой звезды дотягивает, а потом, слившись с враз ставшим темным небом, становится ночью. И это не страшно: ведь ночь состоит из многих-многих дымов над бекетовскими домами. Рассказала о своей догадке отцу – он улыбнулся. Значит, я придумала правду.
На крашеных гладких полах мы с братом любили кататься на одеялах, как по льду: разбежались и – кто дальше? Между оконными рамами зимой лежала вата с елочными украшениями, а весной с подоконников внутрь комнат свисали бутылочки для сбора талой воды. Помню нашу мебель – самодельную, крашенную морилкой, только деревянный диван со спинкой и валиками да железные кровати с блестящими шариками на грядушках были фабричными.
А какая веранда открывалась взору каждого, кто входил в нашу калитку! Стены были сплошь стеклянными, лишь тонкие деревянные прожилки чудом держали на себе эту прозрачную красоту. Во дворе помещался большой дощатый сарай (о, сколько всего там было!), где хранились дрова и уголь, но главным был верстак с огромным рабочим столом. Отец постоянно что-то мастерил, весь наш дом – и крыша, и стены, и печи, и летняя кухня, и курятник, и забор – держался его руками. Детская память сохранила особенно хорошо живописные отцовские картины – про Житне-Горы! – и деревянные, темного лака, соломенно-узорчатые шкатулки и рамки.
Одна такая шкатулка до сих пор годится мне для всякой портняжьей всячины, еще с кукольной поры. Куклы обшиты были с головы до ног: мама, хотя сама шить не особо любила, меня портновскому делу обучала, приговаривая:
– На что и мать, коль неча дать!
Любовь, или привычка, к шитью (мама сказала бы «к шитву») у меня, конечно, от нее. В девушках я уже полностью обшивала себя, однажды даже пальто срукодельничала из мешочного старья и обтерханного собачьего воротника. А уже о моих юбках да платьишках мама могла не беспокоиться. Да, пороть и шить я умела сызмала.
Портняжий зуд нападал всегда нежданно-негаданно, и тогда самая большая комната в доме превращалась в швейню: на столе, на диване, на стульях, на полу – выкройки, отрезы, лоскутья, тряпки, бывшие когда-то матушкиными платьями и отцовскими рубахами, ножницы и мотки ниток… Над всем царила швейная машинка из Подола.
Однажды в этой куче-неразберихе утонула самая обычная иголка: ну не было, не было ее нигде, сколько я ни искала! Между тем уже опаздывала – пора было ехать на лекции в техникум. Вот тут-то иголка и нашлась…
Помню, я в слезах и страхе сидела на полу и от боли не соображала, что делать: одна игольная половинка сидела глубоко в ступне, другая – в толстом ворсистом половике. Может, обойдется? Может быть, иголка сама из ноги выйдет? Нагрела воду, стала парить ступню, лезвие на отцовской полочке в ванной отыскала – резать… Но это было еще страшнее, чем сломанная иголка в ноге.
И – нечего делать – я поехала в техникум. Зима выдалась холодная, меховые ботинки с модными толстыми рантами, вчера еще наилюбимейшие, сегодня казались странно чужими: в одном нога мерзла, в другом нестерпимо горела.
Продержалась я всего пару уроков и поковыляла в ближайшую поликлинику, где хамоватый, с бессмысленными прибаутками, подвыпивший хирург удалил иголку, а потом ничтоже сумняшеся выпроводил меня из кабинета, даже не побеспокоившись о том, как я буду добираться до дома…
А добиралась я сначала трамваем, потом пешком – разве можно было тогда, в шестидесятые годы, дождаться автобуса в нашу даргорскую глубинку? Дома едва смогла разуться: «горячий» ботинок был полон крови. Потом пришла с работы мама… потом приехала «скорая»… потом я оказалась в больнице… Пешком после этого не передвигалась долго.
Больше я иголок не теряла, но портняжить не бросила и с тех пор не то чтобы шью – придумываю. И воплощаю. Благо, лоскутков и лоскуточков за жизнь насобирала – море! Но о сломанной иголке никогда не забывала, ведь в кои веки и она была целой… И хотя иглой дорог не меряют, но, как говорила мама, на игле да бороне русская деревня – сиречь жизнь – стоит.
Матушка не раз иголку поминала, когда о ком-то хотела сказать поточнее: «Словно игла в щель!» – о пронырах, а еще: «Была игла, да спать легла» – про колких да вострых, наказанных жизнью. Терпеть не могла скупых: «Хоть иглой в глаза – не выщербишь», но уважала хозяйственных и строго-справедливых: «Иглой шьют, чашей пьют, а плетью бьют»…
Мама всегда разговаривала с выражениями. Нет-нет, но вдруг слетает и посейчас с моих губ мамина фраза: «Чем в таз, лучше в нас!». А это: «Без соли стол кривой», «Недосол на столе, пересол на спине», «Хлеб за брюхом не ходит», «Хлеб да вода – наша еда», «Хорош кус, да не для наших уст», «Сухая ложка – не лепешка, рот дерет», «Не до жиру, быть бы живу»… Были и другие присловья, но больше запомнились эти. Может быть, потому, что – хлебные?
Мама всю жизнь боялась голода: с рожденья жила в батрачьей семье, потом училась на нищенские гроши старшей сестры Павлины, а в хуторе Янов под Белой Калитвой, куда в 42-м году из Сталинграда ее с сестрой Тосей и племянницами угнали немцы, спасалась голодным куском в людях. А смерть от голода первого маминого ребенка? А я, едва не умершая на ее руках от голодной дизентерии?
Да, мама боялась голода. И даже в сытые уже шестидесятые-восьмидесятые годы сушила сухари. Ни один кусочек хлеба у нас не выбрасывался, а присоединялся к уже собранным в духовке. Накапливались целые мешки, мама все время их перетряхивала-пересматривала, потом относила в сарай, а отец подвешивал за потолочную балку – чтобы не сгрызли мыши. Потом эти сухари заменялись другими, но – не выбрасывались. Отец отвозил их в деревни, куда часто ездил в командировки, отдавал знакомым сельчанам: добрый был корм для домашней скотины.
Мама нас с братом жалела: «Доча, сына…».
Как мы ждали ее с работы! Выглядывали, не показалась ли из-за поворота со своей большой парусиновой сумкой. Матушка всегда заходила в шлакоблочный магазин, крюк порядочный делала, появлялась усталая, и мы с братом подхватывали сумку, вдвоем несли в кухню, водружали на стол и садились вокруг в ожидании: что в ней сегодня? Как будто не знали – что: хлеб, селедка, сахар, постное масло, маргарин, карамельки-подушечки…
А мама сбрасывала у порога обувь и падала на диван. Тревожить ее не полагалось.
– Вот немножечко полежу, – говорила, – встану, буду варить…
Летом готовили на керогазе или электроплитке, зимой – в печи. За день в доме нахолаживало, и матушка сначала затапливала «голландку» в большой комнате, а потом принималась за кухонную печку. Мы с братом любили ворошить уголья в красной пещере огня, стерегли, чтобы он не соскочил на пол. Хоть отец и набил жестяные покрытия под печными дверцами, все равно надо было следить. Я всегда выбирала «голландку», стелила перед ней одеяло, раскладывала игрушки. Огонь пел потихоньку свою древнюю домашнюю песню, с кухни уже доносился вкусный запах сваренной с луком картошки, вот-вот должен был вернуться отец… Это был наш дом.
Повернуло на холод, на грусть –
Зов зимы я люблю наизусть.
Что несет эта чистая весть –
То ли новость любви, то ли песнь?
Осенины легки и цветны,
Но в ограде цветы холодны,
И последний осенний букет
Будет долго оттаивать свет
В древних зорях домашних огней,
В теплой тверди домашних камней.
В зимних песнях морозная Русь
Будет долго оттаивать грусть…
В хорошие минуты мама что-нибудь рассказывала из прошлой своей жизни. Например, о том, как она мечтала стать химиком. Откуда в ней это было? А вот мечтала. До войны на химиков учили только в Москве, в институте Менделеева. Но денег не было даже на дорогу, и мама отнесла аттестат зрелости в Сталинградский медицинский.
Институт – не школа, в дырявых башмаках не потопаешь. Старшие сестры сложились и купили Вале туфли, а за отрезом на юбку она поехала на базар-толчок сама. Выбирать было особо не из чего, купила темно-синий бостон с наклонными рубчиками. Впрочем, ткань ей понравилась, да и торговка, отмеряя товар, громко нахваливала его, заодно показывала на свою юбку:
– И моя из бостона, видишь, как сидит? Портниху только найди хорошую!
Шить собиралась Павлина, мама, радостная, примчалась к ней, разложила ткань:
– Смотри, какая красота!
– Погоди-погоди, – опытный глаз старшей сестры заметил что-то неладное, она поднесла отрез к окну, развернула во всю ширь – на темном фоне засияли солнечные дырочки.
– Молью побитая, видишь? Ну, спекулянты проклятые!
Это было самое настоящее горе, но долго горевать – красоту сживать, и первую взрослую мамину юбку Павлина сшила из своей поношенной милицейской шинели. Мама рассказывала, что и на фронт ушла в этой юбке, потом, конечно, выбросила за ненадобностью: армия есть армия.
…Матери исполнилось двадцать два года, когда началась война. В то трагическое воскресенье 22 июня 1941 года они с мужем (первого ее супруга звали Георгий) собрались на отдых за Волгу. Мама была «в интересном положении», появления ребенка ждала через семь долгих, как казалось, месяцев.
День выдался замечательный, мама беззаботно радовалась безоблачному небу и солнцу. Наверно, тогда она была совсем другая: веселая! А уж красивая и счастливая – определенно. Я же знаю ее молчаливой, задумчивой, усталой. Мамину душу, как и всю русскую жизнь, война разделила надвое.
Уже были упакованы сумки с нехитрой едой, когда вошла соседка:
– Сейчас по радио передали: в 12 часов будет выступление Молотова.
– Ну и что? – откликнулась мама. – Потом расскажешь.
Но Георгий сказал:
– Останемся.
И они остались, чтобы услышать известие о нападении Германии на Советский Союз.
Поначалу казалось: пройдет немного времени – и немцев прогонят, поэтому мама старалась не думать о другом – противоположном – исходе событий, боясь навредить ребенку. Но 3 июля по радио выступил Сталин, и после этого сомнений уже не осталось: война будет долгой и страшной. Сталину привыкли верить… И сказал он: «Братья и сестры!», и мамина душа затрепетала от этих слов, и в слезах обняла она мужа, по-древнему прощаясь навеки…
Потом, когда Георгий ушел на фронт, когда она ждала писем, когда рожала сына, когда спустя восемь месяцев хоронила его, умершего от голода, в сталинградской воронке, она не помнила этих сталинских, утробно родных слов. Они снова явились в ее жизнь позже – на войне. В судьбе появились новые люди, стал складываться характер, и Евангельская истина о Вселенском Христианском братско-сестринском родстве просто и ясно воплотилась в мамину жизнь с той же обыденной легкостью, с какой она сменила домашнее платье на военную форму.
– Мам, а за тобой немцы гнались?
– Что им, больше делать было нечего?
– Так и не видела ни одного фашиста?
– Лучше было бы не видеть, доча…
Однажды в Румынии она, капитан медслужбы, вместе со старшиной пошла в село проверить воду: немцы часто отравляли колодцы. Ну, пришли мама со старшиной в село, в самом крайнем дворе попросили воды, а хозяйка еще и молока вынесла. Старшина на крыльце уселся, стал крутить самокрутку, а мама зашла в дом: так хотелось побыть в домашних стенах, пусть и чужих! В передней комнате увидела длинный застекленный шкаф с посудой, в углу – зингеровскую швейную машинку, круглый стол под вышитой скатертью в простенке между окнами. Подумала: «Зажиточные», – прошла дальше, в глубь дома, и в боковом окошке, куда и глянула-то ненароком, заметила нескольких немцев. Рванулась к старшине, а он – и сам навстречу: что делать? Одна винтовка на двоих… Хозяйка недолго думая показала на дверь – поняли, встали за нее, вжавшись в стену, а женщина еще и стул приставила к дверной створке, потом подхватила ребенка на руки и вышла на крыльцо.
Немцы, видно, осторожничали: в дом не вошли, только забрали яйца да кур переловили. Все время спрашивали:
– Русиш найн?
– Найн, найн, – хозяйка даже улыбалась, маме было хорошо видно ее лицо сквозь щелку в двери. И вдруг, к ужасу обеих, младенец стал тянуть ручонки к этой щелке: неразумному дитяти захотелось поиграть с тетей за дверью!
И опять спасла хозяйка: ну ругать, ну шлепать ребенка – несильно, для виду, знаками показывая немцам, мол, напрудил в пеленку – и младенец не замедлил заплакать. Немцы засмеялись и ушли. Потом мама узнала, что это была одна из немецких групп, выходивших из окружения.
Вода в колодце оказалась для питья пригодной, и целый вечер медички из санбата мылись и пили чай в том самом доме, задабривая хозяйку сахаром и сгущенкой.
Однажды в госпитале раненый капитан сказал маме:
– Врач не Бог, но пол-Бога есть…
Хорошо, что мама не забыла передать эту фразу мне.
Самой любимой в рассказах про войну была Победа. Я по слогам выучила название венгерского города, где мама закончила воевать, и все время просила:
– Мама, давай про Се-кеш-фе-хер-вар!
И она в двадцатый раз начинала с того, как решила отоспаться хотя бы одну ночь, ведь на сто верст вокруг немцев не было. Как вдруг ни свет ни заря началась стрельба, мама вскочила и спросонок сунула левую ногу в правый сапог, правую ногу – в левый, да так и выбежала из дома мадьярки Анны с табельным оружием в руках – растрепанная после сна, полуодетая. Выбежала – и глазам не поверила: стреляли в воздух, просто так!
Да нет, не просто так стреляли…
«Победа! Боже мой, она!» –
И губы долго привыкали
К словам: «Окончилась война!..».
На войне мама была контужена, и отец, жалея ее, частенько сам готовил и убирал. Он варил отменные борщи – на сале, я потом нигде таких не пробовала, даже на Украине, а уж там борщи так борщи. По воскресеньям папа раным-рано ставил тесто, и мы просыпались от ни с чем не сравнимого запаха жареных пирожков – с картошкой и капустой. Это был праздник, только без гостей. Пирожков всегда было много, хватало на целый день. Ну, и улица, конечно, кормилась, так уж было заведено.
Но в семье не всегда бывало ладно. Мама так уставала, что иной раз ей было ни до чего, а отцовские утешения только раздражали. Отец замыкался, уходил в себя и в работу. В доме все шло шиворот-навыворот, и мы с братом, как беспризорные, слонялись по улицам. Однажды, подходя к дому, я услышала громкие голоса, распахнула дверь и с порога увидела небывалое: прижавшись лицом к стене и стуча по ней руками, страшно плакал отец. Мама сидела на кухне, у печки, глядела в окно.
– Доча, – позвала она, и я бросилась к ней, боясь отца и ничего не понимая. – Папа хочет от нас уйти…
Я заревела в голос, уткнулась было в материнские колени, но мать сильно встряхнула меня, прикрикнула:
– Хоть ты замолчи! Иди проси, чтоб остался!
Из детской выглянул испуганный Витька, видно, прятался там от родительской ссоры. Я схватила его за руку, потащила к отцу, брат упирался изо всех сил, цеплялся за дверные косяки, но я была сильнее… Скоро мы с ним, плача в четыре ручья, стояли перед отцом и беспрестанно повторяли:
– Папа, не уходи, папа, не уходи!
Отец не ушел, да и куда ему было идти? Но, наверное, мать очень сильно его обидела, потому что, давая последний выход гневу, батя схватил единственный наш будильник и так грохнул им об пол, что чуть не проломил половицу, а от часов остались только винтики, стрелки и стеклышки… Этим дело и кончилось. Но еще несколько дней в доме сохранялась холодная тишина, и только утром в воскресенье я снова проснулась от знакомого вкусного духа папиных пирогов.
Пироги пирогами, а историю эту мы с братом долго не забывали. Часами, спрятавшись в сарае за верстаком, играли в куклы, «в родителей», строя всевозможные версии взрослой ссоры. Вот кукла-папа приходит домой, а кукла-мама не приготовила ужин…
– Нет, – отметала я, – папа сам умеет варить, даже лучше мамы.
Возникали новые предположения, потом еще и еще. Витя даже придумал небывалое: будто кукла-мама что-то отобрала у куклы-папы и не отдает.
– Ты ведь не отдаешь мне монету, – доказывал братик, – а она не твоя, я ее нашел!
Витя действительно нашел старую нерусскую гнутую монету у клуба Павших борцов, показал мне.
– Сто раз тебе говорила: я ее потеряла!
– Я вот маме скажу…
– Ябеда, ябеда! – и я выскочила из сарая, донельзя возмущенная: нет, больше никогда не буду играть с братом в куклы!
Спустя много лет я спросила маму:
– Почему хотел уйти отец?
Она никак не могла вспомнить.
– Ты еще нам с Виктором велела просить отца остаться!
– Доча, в семье все бывает, сама ведь знаешь…
Конечно, я уже знала, не первый год была замужем, сын Андрей вот-вот в школу пойдет.
– Мама, ты любила отца?
Мы сидели в беседке в нашем саду, сумерничали. Это очень уютное время суток – сумерки, когда природа как бы укутывает тебя в пухово-невесомое состояние умиротворенности и покоя, а душу охватывает тихая нежность ко всему и всем. Наверное, поэтому я и задала свой великий вопрос, а мама по той же причине рассказала о своей любви.
Ее первый муж Георгий, став на войне инвалидом, в Сталинград не приехал: у него появилась новая семья. Мамин ребенок умер в сталинградских окопах от голода, и мама ушла на фронт. Прошлого не существовало, настоящее сулило гибель, жить оставалось только одним – послевоенным будущим. И оно появилось в облике веселого разведчика Александра. Любовь возникла стремительно, они даже успели зарегистрировать свой брак. А потом Александр погиб во время артобстрела на маминых глазах от прямого попадания: осталась лишь воронка… Мама неосознанно искала смерти: не пряталась ни от пуль, ни от осколков, ей было все равно. Не спасала даже надежда на возвращение домой: что ее там ждет, зачем жить дальше, когда вокруг одна смерть?
Как знать, что было бы с мамой, если бы в апреле 1945 года она не встретила отца? Видно, сам Господь соединил их, коль оба остались живы и с войны вернулись вместе.
– Кого из мужей ты любила больше, мама?
– Знаешь, сама себе удивляюсь, но любила всех одинаково. А отец… Это прекрасный человек, он многое мне прощал, жалел. А как он уходил, я не помню, наверное, что-то сказала обидное… Хотя обижать его было не за что, он только для семьи и жил.
Отец мечтал вырастить сад, но первая же весна убедила его в непригодности земли: мы поселились на горьких солонцах с белым налетом и близко подступающими грунтовыми водами. До сих пор не ведаю: почему именно здесь было выбрано место для постройки дома? Может быть, потому, что недалеко находилась ветеринарная лаборатория, директором которой отец стал сразу по приезде с войны? Наверное, не сам выбирал землю, спасибо и за ту, что дали. Было ведь не до житейских разносолов… Белесый пустырь с горько-соленой травой и талыми глиняными канавами, вдалеке – пожарная каланча, еще дальше – здание горбольницы, а где-то за ней – тот самый дом на улице Кирова, где содержался после пленения в 43-м немецкий фельдмаршал Паулюс.
Да, саду здесь не расцвесть, наверное, никогда. Отец огорчался, переживал. В то время он курил, и часто через стеклянную стену веранды я наблюдала, как ходит он по темному двору, освещаемому лишь огоньком папиросы да лампочкой у калитки, а вокруг – ни деревца, ни кустика…
Как мне хотелось, чтобы хоть какая-нибудь зеленая живность в нашем дворе выросла папе на радость! Сердцем чуяла, как не хватает ее, простой радости, моему мягкохарактерному, ранимому отцу. Только став взрослой, я припомнила своим нутряным зрением, как батя, словно Добрыня-богатырь, незаметно для детей отодвигал от дома всякие житейские тяготы и заботы. Впрочем, мама была такой же. И, наверное, поэтому времена послевоенного бедства были для нас с братом просто-напросто замечательными детскими годами, обласканными родительской любовью.
Недавно пришло письмо от старейшего врача Сталинградской ветеринарной лаборатории Анны Павловны Тарабриной. Помнится, при встрече я просила ее рассказать о первых послевоенных годах работы моего отца в Сталинграде, и вот, наконец, держу в руках письмо. Несмотря на преклонный возраст, Анна Павловна сохранила прекрасный почерк, которым воспользовалась ее не менее прекрасная память.
Старая женщина повествовала о том, что работала рядом с моим батей почти тридцать лет – с того самого времени, когда в 1947 году Михаил Кондратьевич Бойко стал директором лаборатории и одновременно заведующим серологическим отделом. Лаборатория тогда размещалась в маленьком частном доме в Бекетовке, надо было строиться снову, а землю под стройку городские власти выделили на Дар-горе. «После военных лет, – писала Анна Павловна, – было очень тяжело, но Михаил Кондратьевич смог выдержать и построил лабораторию в 1955 году».
Помимо директорства, отец руководил научно-практической работой в хозяйствах области – по словам Анны Павловны, «боролся с бруцеллезом коров и овец». Благодаря лабораторным исследованиям тогда были оздоровлены животные поголовья многих колхозов и совхозов.
На места врачи выезжали большими группами, неделями находились в хозяйствах, и лишь по выходным дням отец разрешал людям отлучиться. Ну, а сам оставался работать. Вот почему мы с братом так редко видели его дома, да еще и мама по ночам дежурила в своей больнице…
Но вернусь к письму, в котором Анна Павловна не упускала деталей: «Однажды (в марте 1960 года) в Кумылженском районе наша экспедиция пересекала овражью балку с глубокой водой, и вдруг машина дернулась и остановилась. Кругом – мерзлая вода. Лично я очень испугалась, но Михаил Кондратьевич успокоил всех, не разрешил водителю покидать машину и сам вошел в воду, поднял крышку капота и долго устранял поломку. Мы очень переживали: ведь потом много километров ваш папа ехал с мокрыми ногами, и это в марте, который в нашем краю такой холодный… Михаил Кондратьевич был очень чувствительным к чужой беде. Никогда не забуду, когда он дал мне безвозмездно 100 рублей, а было это в голодном 1947 году. У меня давно закончились все деньги, дома ждали старая мать и годовалые дети… Я шла к ним, несла молоко и хлеб, а сердце не пело – плакало от счастья. Вот такой был ваш папа – можно сказать, человеческий человек. Светлая ему память…». Письмо храню – для своих.
А ведь я помню тот маленький лабораторный домик в Бекетовке, куда иной раз отец привозил меня. Конечно, где уж «бекетовцу» было сравниться со сталинской двухэтажкой-ветлабораторией, много позже затмевавшей собой все окрестные дома и домишки на Дар-горе!
Зато маленький бекетовский дом подарил незабываемое ощущение прикосновения к настоящей тайне, заключенной в блестящих пробирках и ретортах, в белых халатах и шапочках врачей, то приникающих к окулярам микроскопов, то склоняющихся над прозрачными стеклянными чашками с какими-то неведомыми мне срéдами. А во дворе была конюшня с двумя лошадками, где я однажды отведала отрубей: вкусно! А в виварии на меня настороженно глазели, не даваясь в руки, разноцветные морские свинки и пушистые кролики. Иногда свинки причудливо свистели. Я их жалела: ведь на них ставились всякие опыты. Но отец объяснил однажды, что животные приносят науке пользу, и мне пришлось смириться.
Вечерами отец подолгу сидел на кухне, писал. Лишь однажды я спросила:
– Пап, ты что, тоже уроки делаешь?
– Да нет, Таня, это отчеты.
– Что такое «отчеты»?
– Как же объяснить… Ну, вроде рассказов про то, как я езжу в командировки.
– Про это я знаю! – обрадовалась я, потому что действительно с самых малых своих лет хорошо знала: командировки – это дни и ночи без отца, а иногда и без матери, постоянно дежурившей в больнице.
Отчеты большими кипами укладывались в ящики отцовского письменного стола, а спустя годы оказалось, что это были проекты научных статей. Кое-какие наблюдения отец опубликовал в ветеринарных журналах, остальные записки исчезли, словно их и не было. Видно, становиться кабинетным ученым батя не собирался. Или не мог?
Его уже не было в живых, когда я случайно встретила бывшего врача ветлаборатории Хачатура Карапетовича Оганяна, ветеринара-ветерана. Повспоминали, повздыхали, как водится, о былом, а в ответ на мой вопрос о пропавших отцовских записках Оганян развел руками:
– Он мог стать ученым. Во всяком случае, практический материал Михаилом Кондратьевичем был собран огромнейший, богатейший, ведь батюшка ваш, директор научно-практического учреждения, сорок с лишним лет трудился и как простой врач на сельской ниве.
– Да уж помню его бесконечные командировки…
– Да, да, все мы наездились по районам, – и Оганян добродушно засмеялся. – И я записи вел – знаете, для служебного порядка, не более того. А Михаил Кондратьевич делал серьезные обобщения. Помню, он советовался со мной, как посолиднее обосновать решение проблемы, связанной с воздушной обработкой полей ядохимикатами. Наш директор был уверен, что делать этого нельзя, ведь в результате гибли не только вредители-насекомые, но и домашние, и дикие животные: яды отравляли пастбища, луга, леса, даже водоёмы…
– Представляю себе, как отцом были недовольны там, наверху!
– И вы правы, у него действительно были неприятности с начальством, но в некоторых хозяйствах от такого «ухода» полей отказались. Я как-то поинтересовался, не подумывает ли он о саратовской или московской аспирантуре, и ваш отец ответил, что, мол, жена против, двое детей не должны расти безотцовщиной…
А я и так, без этого нового для меня знания, всегда помнила, что у меня был настоящий отец – самый знающий, самый надежный. И ещё чувствовалось в нем что-то настолько доброе, чему я, маленькая, не могла дать названия, а теперь могу: жертвенность.
Мы жили, кажется, на самом краю света, но как же я любила этот бекетовский край, как тосковала после переезда на Дар-гору! В детстве – особенно, да и сейчас горячо делается сердцу, как вспомню, как увижу в памяти летнюю тропинку, мимо нашего забора бегущую к калитке. Я даже приехала однажды в юности в переулок Апухтина, подошла к чужому уже дому, заглянула в любимую дырочку от сучка в заборе: как тут теперь? По-прежнему ни деревца, одна лишь куцая трава, у собачьей пустой будки валяется тряпичная кукла с оторванной рукой, я вгляделась: надо же, моя, забытая! Наверное, нашли в сарае… Окна дома в глухих занавесках, вместо стеклянной стены веранды – кирпичная кладка, и кухня во дворе обросла кирпичом. Много перемен, если присмотреться, только куры по-прежнему бродят вокруг да около, поквохтывая.
Ах, как вольно мы здесь когда-то жили – посреди огромного бело-черного глиняного пустыря с белесой полынью! И вольно, и больно. Это необъятное поле столь сильно раскисало весной и осенью, что невозможно было добраться до асфальтовой дороги, поэтому приходилось далеко обходить, вдоль чужих заборов, цепляясь за них, аж до пожарной каланчи, а там – по новым кругам к дороге. Однажды я не захотела делать эти долгие круги, пошла напрямик и с ревом вернулась назад в одних чулках: резиновые сапоги, как свинцовые, ушли в бездонную землю, утонули… И вызволить их было некому: отец и мать были на работе.
Много позже я узнала, что же это за земли такие – Отрада и Бекетовка. Там, где нынче прямо посреди жилых дворов растет камыш, текла когда-то речка, как звали – никто не ведает. На месте нынешней Отрады на левом берегу речки были замечательные дубравы, росли березы, били родники. Ехал в ту давнюю пору, в 1762 году, через Царицын в Астрахань новый астраханский генерал-губернатор Никита Афанасьевич Бекетов. Увидел дивную красоту и молвил:
– Какое место отрадное!
А еще через десять лет, оставив государственную службу, Никита Афанасьевич обосновался в этих местах, в своем поместье, которое стали звать Отрадой. Он построил здесь большую усадьбу с настоящим дворцом, но позже все сгорело при большом пожаре. А главное – Бекетов заложил церковь, и построена она была на его средства, уже после кончины. Благодарные прихожане назвали храм Свято-Никитским во имя святого Никиты Исповедника, небесного покровителя Никиты Афанасьевича Бекетова. Брат же Бекетова, отставной майор Петр Афанасьевич, поселился на правом берегу речки, и слобода эта была именно им названа Бекетовкой. Речка за два века утекла в нети, оставив после себя непригожие пустырные земли, которые потихоньку все же заселялись, обрастали кое-какой зеленью, а вот настоящие сады не заводились.
И на нашем подворье в переулке Апухтина так и не вырос сад, зато трудами отца появился еще один дом – летняя кухня, где поселилась мамина сестра тетя Тося с дочерьми Люсей и Аллочкой. Нас стало много!
Я помню беспряничную бедность со всеми ее перелицованными платьями и стоптанными башмаками, с неизменной жареной картошкой и вываренной до крошева сушеной рыбой, с самым лучшим лакомством – ржаным хлебом, политым горчичным маслом и посыпанным сахарным песком, только Таня Могилевская всегда хвалилась белым ломтем с топленым маслом. Когда все дети со своими заветными кусками выходили на улицу, надо было успеть крикнуть:
– Сорок один, ем один! – и никто уже не мог претендовать на твой кусок, даже тот, кто кричал запоздало вслед:
– Сорок восемь, половину просим! – и каждый должен был отдать требуемую половину победителю.
И откуда взялись эти присловья? Может быть, в детских душах неосознанно трепетала общенародная память о сорок первом годе, когда началась война, и о сорок восьмом, когда закончился послевоенный голод? Как бы то ни было, нашими играми управляла улица, она всегда все знала, все умела, всему учила – надеюсь, хорошему, потому что шпана в слободе не водилась. Или мы не знали о ней?
Многие люди рассказывали подобные истории о своем детстве. Что ж тут удивительного, ведь в одной стране живем, и послевоеннье на всех одно было. А Владимир Иосифович Секирко из Хосты, в семье которого я всегда останавливаюсь по приезде на море, после ознакомления с моими житийными страницами поведал похожее о своих довоенных детских годах:
– Как будто про меня написано, хотя я на десять лет старше, и детство мое окончилось еще до войны, причем не на Волге, а на Кубани. Особенно удивительно, что вы про хлеб с подсолнечным маслом вспомнили! Мы тоже таким лакомством на улице хвалились, только хлеб сахаром не посыпали. Такая бедность в нашей станице была – не передать…
– Значит, вы из крестьян?
– Из них… Одна лишь семья в станице считалась зажиточной. Помню, у хозяйского сына был велосипед, и станичные мальчишки по очереди прокатывались один разок до околицы и обратно за полмешка травы. Так что этих «полмешков» я насобирал в детстве много. А чтобы мяч футбольный купить, все пацаны станицы огромное поле отавы выкосили за два дня. И лепехи коровьи собирали – глину месить да стены мазать, и полы были в наших избах глиняные… Было, все было, да вы и сами знаете.
Да, теперь я знаю, а в раннем детстве и думать не думала о том, что семья наша бедная. И только однажды, когда мы с братом попали в дом, показавшийся нам сказочным замком, удивилась: а почему мы живем по-другому?
Когда отец бывал в командировках, а мать сутками дежурила в больнице, в нашем доме ночевала соседка тетя Наташа. Но иногда она болела или уезжала к родне в деревню, и мама «раздавала» нас по знакомым – простым и небогатым.
Почти в каждой такой семье росли дети, и наши краткие гостевания не приходились в тягость, даже наоборот: привычно подражая взрослым, мы играли в хозяев и гостей по заведенному в Бекетовке порядку, было не до баловства. Судьба потихоньку прирастала друзьями.
Но как-то с утра пораньше мама повела меня с братом на другой конец нашей слободки, за «пожарку», в большущий каменный дом. Я не понимала, отчего она всю дорогу сердилась, то есть молчала, ведь ни в чем мы с Витькой с утра не провинились. Только открывая чужую калитку, мама сурово произнесла:
– Если тетя Света на вас пожалуется, пеняйте на себя.
Яснее сказать было нельзя.
А с крыльца уже спускалась самая красивая тетя на свете в ярко-желтом, переливающемся шелком халате с черными кружевами. Вокруг румяного лица кудрявились рыжие волосы, на длинной шее поблескивали красные бусы. А когда тетя протянула навстречу тонкую руку, я увидела, что и ногти у нее такие же красные, как бусы.
– Светлана Ивановна, вот, привела детей, – сказала мама, пожимая диковинные пальцы, – завтра только после работы заберу, к вечеру.
– Да вы не переживайте, Валентина Андреевна, – отвечала обладательница роскошного халата, – присмотрю за детками, не обижу.
Когда успокоенная мама ушла, я огляделась и увидела, что дом – и не дом вовсе, а сказочный замок с разноцветными окнами, с железной – высоким коньком – крышей, с огромной кирпичной дымовой трубой, которая, по летнему времени, неизвестно зачем возвышалась над всеми тайнами и загадками этого царского двора.
Но самой большой тайной казались цветы. Они росли везде: и вокруг деревянной кружевной беседки, и вдоль каменной дорожки, и возле сарая в глубине двора. А у нас дома не то что цветы – деревья не приживались.
Мне стало так обидно, что захотелось домой, в свой пустынный, с редкой чахлой травой, двор. Но дома ночью одним быть нельзя… надо оставаться здесь… А цветы будто мучили, и я низко склонилась над ближайшим розовым кустом, потыкала пальцем во влажную почву и тут заметила ровно выступающие из земли деревянные доски.
Светлана Ивановна, издали наблюдавшая за мной, сказала:
– А ты любопытная девочка. Знаешь, что это такое? – и повела рукой в сторону цветущего розового дива.
Я смущенно покачала головой.
– А хочешь узнать?
Я согласно кивнула и, осмелев, промямлила:
– Я про это папе расскажу, у нас во дворе цветы не растут…
Оказалось, глубоко в солено-горькую, как и во всей Бекетовке, землю были врыты большие деревянные ящики с плодородной почвой, привезенной еще отцом Светланы Ивановны с ее родины – из далекого донского хутора.
– Отец оставил мне и дом, и хозяйство, поэтому и занимаюсь цветами, а иначе зачем? – и хозяйка безнадежно махнула рукой. – Кругом ведь соль да горечь…
И так она это печально проговорила, что я своим юным умом поняла недосказанное: соль да горечь присутствовали не только в земле, но и во всей неустроенной у многих людей послевоенной жизни.
Светлана же Ивановна жила справно, берегла отцовское наследство, выращивая цветы на продажу: такая торговля во времена моего детства была еще в диковину, не то что нынче.
Я бродила по цветастому двору и радовалась: ни сегодня, ни завтра не надо идти в детсад, у нас с братом – приключение! Может, в этом замке не только цветы, но и привидения водятся?
Братик еще мало что понимал, ведь ему было всего пять лет, но, увидев обсаженный георгинами и бархотками сарай, он проворно устремился к нему: знал, что найдет там всякие гайки и чурбачки – свои любимые игрушки.
Однако Светлана Ивановна повелительно позвала:
– Дети, завтракать! – и Витька так же торопко повернул назад.
Сказка продолжалась: на столе вместо ненавидимой манной каши сияло большое блюдо творожных шариков под сметаной, узорились разноцветными слоями куски шоколадного торта, розово светились чем-то, наверное, очень вкусным высокие стаканы.
– Это клюквенный мусс, – объяснила хозяйка, – детям он очень полезен.
Дома нам никогда не говорили про полезность еды: главное, чтобы она была.
После завтрака Светлана Ивановна занялась поливом цветов. Я тоже схватилась за ведро.
– Не тяжело? – только и спросила хозяйка, на время превратившаяся из золоченой красавицы в цветастую, ладно шлепающую по земле босыми ногами.
– Не-а! – шлепая следом, я бурно радовалась тому, что цветастая похожа на всех других женщин нашей слободки.
Брат целый день пропадал в сарае: стук да стук, стук да стук. К вечеру похвастался:
– Гляди!
Я поглядела: деревянный человечек, криво сбитый из неровных тонких брусочков, с разнодлинненькими ручками и ножками, с квадратной головой, но человечек! Эта поделка была одной из первых в мастеровой жизни брата: долгие годы я наблюдала, как он учился строгать, выпиливать, сбивать, вырезать, пока не стал настоящим плотником – совсем как умелец-отец.
В обед мы угощались супом на бульоне из бараньей косточки, тающими во рту котлетками и абрикосовым компотом, а на ужин Светлана Ивановна нажарила никогда не приедающейся картошки, и мы, овеянные воспоминаниями о родном доме, улеглись «валетом» спать на широком мягком диване.
Привидения так и не появились, но время от времени тишину ночного замка охорашивал мягкий, почти шелестный, звон больших настенных часов. Я засыпала и просыпалась, засыпала и просыпалась… А потом совсем проснулась вместе с солнышком.
Вспоминаю, как Светлана Ивановна ходила с нами в парк напротив шлакоблочных домов, как покупала мороженое и газировку, как мы смотрели в «Спутнике» кино…
А вечером пришла мама, внимательно оглядела нас, спросила:
– Не баловались?
– Они у вас дýшки, – вмешалась хозяйка, – помогали мне по хозяйству, молодéчики!
Пригорюнилась, попросила:
– Приводите деток еще, мне не в тягость.
Но в чудесный замок мы больше не ходили.
Витя подарил Светлане Ивановне своего деревянного человечка, мне же дарить было нечего. Заметив мою неловкость, добрая хозяйка сорвала белую розу, протянула со словами:
– Возьми, она твоя, коль ты поила ее живой водичкой.
Живой водичкой? Тетя Света ошиблась: вода была самая обыкновенная, из скважины.
По дороге домой мама расспрашивала, чем мы занимались, что ели – особенно подробно про то, что ели. Вздохнув, невесело заключила наше восторженное повествование:
– Вот подрастёте, выучитесь, начнете работать, будете хорошо жить. А пока нам не до разносолов.
Наверное, поэтому она и сердилась, когда отводила нас в богатый дом Светланы Ивановны: маме было стыдно за нашу бедность. А может, она боялась, что про эту бедность узнают несмышленые дети?
Тетя Тося и двоюродные мои старшие сестренки были рукодельницами, и в летней кухне, и на стенах в нашем доме висели коврики из мешковины и медицинских бинтов с лоскутными рисунками, а на полах красовались связанные из лоскутов и старых чулок половики. «Пылесборники», – смеялась матушка, но пылесборники служили нам много лет, и даже когда в доме появился первый настоящий ковер, эти самодельные половики, уже поблекшие, выцветшие от стирок, потихоньку лежали-полеживали во всех комнатах.
Тетя Тося никогда ничего не выбрасывала – ни газет, ни склянок, ни коробок, ни тряпок каких-нибудь. Впрочем, все сестры мамины были такие же боязливые соберихи: и Тося, и Маня, и Пава, да и мама сроду боялась расстаться с самым малым клочком прожитого. Из старых пальтовых подкладок тетя Тося выстегивала халаты, они переливались реденьким светом старенькой спаржи, словно настоящие дорогие атласы, и поэтому назывались барскими. Своего халата я стеснялась и при людях никогда не надевала, и он до сих пор хранится на антресолях среди доброго старья, с которым так жаль распрощаться!
Раньше-то все береглось в сундуках. Самый большой стоял в общежитии на Шлакоблочной у тети Мани: ох, вот где всякого добра дополна было! Многое не запомнилось, а вот лоскуты и отрезы мануфактуры я словно до сих пор перебираю, перегнувшись через край сундука, а тетя Маня, помогая мне, ласково приговаривает:
– Вырастешь – все твое будет.
Детей у тети Мани не было, дядя Фолий умер рано, и она любила тетешкаться со мной и братом. Особенно же переживала за наше будущее, потому и хранила для меня ткани, а для Вити – разные щипцы, молотки и молоточки, сверла, гвозди, наждачную бумагу… Шить тетя Маня не умела, зато вязала такие воздушно-белосиянные салфетки и скатерти! Теперь они живут в моем доме рядом со старинными мережковыми накидками и подзорами с Украины.
Тетя же Тося, в отличие от других сестер, была заправской портнихой, она всех нас обшивала с головы до ног: косыночки, платки, халаты, платья, рубашки, даже чувяки. Они делались просто: изношенные вдрызг шерстяные носки обшивались кусками старой сапожной кожи или дерматином, вот вам и теплые домашние чуни. Но самая главная память – ватное одеяло, которое тетя Тося подарила мне на свадьбу. Нет, это не одеяло, это вся наша давняя семейная жизнь через много лет волнисто раскрылась передо мной, когда я развернула и расстелила одеяло на диване: оно было сшито из кусочков старых, но теперь таких дорогих платьев…
Валентина Андреевна, матушка-мама,
Антонина Андреевна, тетушка Тося,
И Павлина Андреевна, тетушка Пава,
И Мария Андреевна, тетушка Маня –
Вы жалельщицы, плакальщицы, мастерицы,
Вы работницы, верильщицы, сестрицы…
Вспоминаю, как к свадьбе моей тетя Тося
Подарила мне стеганое одеяло –
Лоскуток к лоскутку, каждый лучше другого.
Я его и в глаза не видала до свадьбы,
Но, раскинув, узнала мгновенно сквозь слезы:
Тетя сшила его – лоскуток к лоскуточку –
Из моих позабытых изношенных платьев,
Из которых я из году в год вырастала…
И сама я не знала, как много нарядов
Износила, хвалясь всему белому свету!
Только не было в том дорогом одеяле
Ни клочка из одежды ни мамы, ни теток:
Сроду платья они доводили до дырок,
Чтоб годились потом лишь на тряпки в хозяйстве…
Сколько пышных отрезков я им ни дарила,
Своим верным заботницам и хлопотуньям,
Они прятали их в сундуки и диваны, –
Мол, куда нам рядиться в богатые ткани,
На работу? Иль дома вертеться, на кухне?
На работу сгодится поплоше, попроще,
А и дома сам Бог повелел поукромней…
А уж позже, покрывшись простыми платками,
Вовсе на люди выйти стеснялись в обновах.
Нафталином пропахла вся мануфактура,
Сохраняясь в чудных толстопятых комодах.
«И кому берегут? – я, бывало, сердилась. –
Ведь не спички, не мыло на день самый черный –
По извечной привычке наученных жизнью…»
…Умерла тетя Маня.
Когда обмывали
И когда обряжали в холстыню льняную,
Мы нашли в сундуке с жестяными краями…
Много, много отрезов с запиской: «Для Тани».
Для меня!..
Я все ногти себе обломала
О сундук с жестяными навеки краями.
Понимающе мама и тети глядели –
На вину ли мою?
На беду, на прозренье.
Но потом пожалели и к празднику Мая
Все подарки мои воротили обратно,
Чтоб на платьях своих не носила я меты –
Той, что тяги бывает земной тяжелее.
За моими двоюродными сестрами Люсей и Аллой никто не ухаживал – может быть, потому, что они вечерами сидели дома: кроили, шили, вязали, читали. Аллочка была тоненькой, с горделиво вскинутой головкой, весной и осенью ходила в узком черном пальто и шляпке-менингитке. А когда мы увидели фильм «Карнавальная ночь», то поняли: она красавица, ведь у нее такая же талия, как у Людмилы Гурченко!
Люся была другой, но тоже красивой, как красива всякая юность. Улыбчивая и молчаливая, она всегда всех в чем-нибудь выручала. Мне помогала с уроками, за Витькой ходила в садик, бегала для нас в магазин, убирала двор. И когда моей маме подарили в больнице парфюмерный набор «Русская красавица», она передарила его Люсе.
Ах, какая была красота, эта самая «Русская красавица»! Духи, одеколон и пудра с одинаковыми цветастыми картинками: у березы стоит девушка с высоко уложенной вокруг головы косой, в старинном сарафане, с маленьким платочком в руке, а улыбка – не передать, какая ласковая!
Так вот о ком все время пели песню:
На груди ее коса,
С поволокою глаза,
Стар и мал – вся улица
Девушкой любуется!
И подпевали по вечерам Всесоюзному радио наши бекетовские улицы:
Ох, недаром славится
Русская красавица!
Девушка эта была из сказки, именно ее лицо сияло в сказочном фильме «Василиса Прекрасная», который вскоре я с замиранием сердца смотрела в клубе Павших борцов…
Люся набор поделила: себе взяла духи, Аллочке отдала одеколон, а мне досталась пудра. То-то зарозовели-зарумянились мои белесые тряпичные куклы! И сама я несколько дней красовалась перед миром, с головы до ног обсыпанная душистым чудо-порошком. Совсем недавно была у Люси в гостях, зашла в ее спальню с допотопным трюмо, с извечными пустыми пузырьками, коробками, баночками на кружевной скатерке:
– Чего не выкинешь-то? Тараканы заведутся.
– Да жалко, вдруг пригодятся.
Пригодятся… Кому они нужны, эти доисторические склянки? Хотя бы эта… Я взяла в руки овальный флакончик и замерла, не веря своим глазам: «Русская красавица»!
– Люся! Это те самые духи? Которые моя мама тебе подарила?
– А какие же еще! Конечно, те самые. И «Кремль» сохранился, видишь? И «Красная Москва»…
Я перебирала когда-то дорогие фигурные пузырьки, теперь ставшие бесценными реликвиями, откручивала блестящие крышечки, внюхивалась в пустоту за стеклом. Конечно, ароматы давно утрачены, можно сказать, в прямом смысле вымыты водой времени.
– Помнишь, как мы наливали во флаконы воду, когда духов оставалось всего ничего?
– Старались растянуть удовольствие, лишних денег ведь никогда не было… Таня, я давно хотела спросить: там действительно есть жизнь? – и Люся показала головой наверх.
– Ты же крещеная, сама знаешь…
– Но хоронить-то в землю будут. А если что не так сделают?
– Но мы же своих стариков похоронили. А так, не так… Почему не так-то? Кресты стоят на могилах, поминаем…
Я подвела Люсю к трюмо:
– Да мы еще с тобой молодые, ты глянь – ни одной сединки! Времени хватит, чтоб подготовиться…
– Ты опять про церковь…
– А про что же еще, самим-то правильно не умереть.
Алла живет под Днепропетровском в своем доме: сад, огород, куры, гуси, утки. Семья огромная: три сына, пять внуков. Всё – на Аллочкиной любви, на ее безграничном терпении построено. Хорошо, хоть со снохами повезло, такие же работящие.
Аллочку я не узнала, когда увидела лет пять назад: она совсем высохла и словно уменьшилась ростом. Заметив, как я на нее потаясь поглядываю, спросила:
– Что, сильно постарела?
Я лишь молча ее обняла.
Были у нас еще родственники по материнской линии, с которыми мы почему-то не роднились. Помню, жила (недолго совсем) в нашем бекетовском доме девушка – большая, нескладная, с рыжими косами.
Спросила недавно сестру Людмилу:
– Не знаешь, кто она?
– Нет… Может, чья-то племянница?
Помявшись, Люся добавила:
– Была какая-то в нашем роду Валентина, тетя Пава рассказывала о ней как о родственнице. Из богатых, наверное, потому что к ней после войны моя и твоя матеря ходили о чем-то просить. Ни с чем вернулись, плакали, с тех пор и не знались.
Разве найдешь их теперь, тех родственников? А хочется встретиться, сблизиться, ведь, как водится на Руси, нечаянная чёрствость родных людей с годами сердечно-простительно забывается. Но Бог встречи не посылает. Видно, случилось когда-то – давным-давно! – непрощаемое.
Дом и летняя кухня были глиняными, и летом мы с сестрами ходили собирать по окрестным дорогам «серебро и золото»: так тетя Тося называла лошадиные и коровьи лепехи – ценные добавки в глину. Глину месили сначала в сапогах, потом босиком. Обмазывали наружные стены, белили известкой. Мел шел только на внутреннюю побелку, два раза в год – на Пасху и осенью перед Покровом.
И какими же вкусными казались отбеленные стены! Я тайком слизывала мел, а когда однажды попалась, даже не была наказана. Мама только покачала головой и назавтра стала давать какие-то таблетки. (В благополучном семидесятом году меня, беременную, так же тянуло на мел, и врач назначил глюконат кальция ввиду кальциевого голодания. Стало быть, оно оттуда, из послевоенного детства). Тогда, в те самые послевоенные годы, все жили просто, и откуда мне было знать, что – бедно?
Ничего нет в судьбе, только мать и отец
Там, в окрестностях дома и детства:
Беззащитность калитки… земли изразец…
Святость послевоенного бедства…
Впрочем, не бедства, а – братства. Вместе, улицей, строились. И праздники справляли всей улицей у кого-нибудь во дворе, а если где и в будни пекли пироги, хозяйки обязательно разносили по соседям румяные ломти, тут главное было оказаться дома.
Весной, в марте, ладили жаворонков. Ах, как мама любила возиться с вешним тестом! Тетя Тося тоже вносила в наш дом большой противень, накрытый полотенцем, и мы с братом кричали:
– Жаворонки прилетели!
Пекли в нашей большой печи: и мама, и тетя, и сестры, и я – все колготились на кухне. Мама по-особому затейливо убирала «своих» птичек: на крылышках сахарные метинки перышек, а изюмные глазки обложены крупяными бровками. Ох, и вкусно потом хрустели! А тетины жаворонки были с длинными хвостиками – веером.
Выходили смотреть на небо: может, жаворонки мимо пролетят? Во дворе вовсю чирикали воробьи, на подловке ухали голуби, полаивал на цепи Бобик, повизгивал от беспричинной собачьей радости. Вот уж воистину, всякое дыхание да хвалит Господа: скоро Пасха!
Может, и пролетали мимо, над нашей крышей, жаворонки, но, наверное, рано утром, когда я еще спала, и все равно однажды на улице похвалилась:
– А я жаворонков видела!
– Во сне, что ли? – спросила Катька Барсукова, сама соня порядочная.
Показав друг другу языки, мы мирно разошлись.
Весной мама всегда прибаливала, лежала часами на диване. Говорила: давление. Но в жаворонковый день ничего у нее не болело, она была веселой и неутомимой. Знала ли, предчувствовала ли моя дорогая матушка, что уйдет в вечность 22 марта 1999 года – в день прилета жаворонков? Впрямую, конечно, не знала, но Господь каждому дает ведание жизни и смерти, посылает промыслительные знаки, надо только уметь их понимать. Я думаю, мама неспроста любила жаворонков, этих маленьких вестников весны. Они ведь прилетают к нам в день памяти Сорокá Севастийских мучеников, а матушка умирала именно в этот день в муках, после операции, значит, принята на небо мученицей. Дай, Бог, чтобы крошечные крылышки певчих весенних птиц помогли маминой душе взлететь над землей, оторваться от житейской тяги.
Иногда прожитые мгновения возвращаются сами собой. Видно, взрослая жизнь, жалеючи меня за душевную натруженность, через воспоминания дает силы для продолжения бытия.
Кто-то оставил на подоконнике лестничной площадки старую-престарую глиняную копилку-кошку с покорябанным носом и красным бантом на шее. Такое случается частенько, соседи (и я в том числе) избавляются от ставших ненужными вещей: выбросить – жалко, может, кто-нибудь возьмет в свое владение?
Недавно даже пакет с лекарствами обнаружился. Я удивилась, но из любопытства покопалась в груде початых пузыречков и коробочков: оказалось, все таблетки – от сердечной хвори. Вспомнила, что на днях умерла Людмила Лапина из 93-й квартиры… Кому-то, значит, оставила наследство стариковское, нужное. А мне вот встретилась кошка.
Я погладила темно-глянцевую кошачью спинку, взяла неожиданную диковину в руки и увидела, что кошка хороша: улыбчивая мордочка, кокетливо подведенные, на манер восточных красавиц, глаза…
Главное – копилка была целой, хотя и пустой. Выходит, что деньги в ней никогда не водились, иначе это наивно-сказочное хранилище сокровищ давно бы разлетелось на обычные глиняные черепки. А какая же сказка живет в осколках?
Но эта сказка была все-таки настоящая – живая, пусть и глиняная. Интересно, чья она? Впрочем, заниматься поисками бывших хозяев копилки не хотелось, и я перенесла кошку через порог своей квартиры: добро пожаловать!
Кошка удобно устроилась в прихожей на полке в плетеной корзине, где над перчатками и шарфами издавна владычествуют зонты. Я походила мимо туда-сюда, привыкая к новой жилице, и убедилась: теперь главная в прихожей она, кошка. Что ж, будет сторожихой, тем более, что один кошачий глаз косил на входную дверь, а второй следил за циферблатом настенных часов.
И, кажется, за чем-то еще – невидимым, неслышимым, давно позабытым. В сердце свежó запело предчувствие – так бывает, когда я сажусь за письменный стол и раскладываю черновики, выбирая: кто или что проявится нынче на белой бумаге, по моему велению покинув нети на сверканиях времени-пространства души?
Такие детские копилки под видом кошек, собак, арбузов, тыкв или виноградных гроздий водились в каждом, наверное, послевоенном русском доме. Монетки собирались трудно: бегали-то мы тогда не по тротуарам, которых почти не было, а по прибитой башмаками придорожной грязи, а в грязи разве что путного найдешь?
И все-таки нам с братом попадались и копейки, и пятаки, а однажды у клуба Павших борцов я даже нашла свернутую в трубочку двадцатипятирублевку. Похвалилась находкой дома и неожиданно получила выговор от матери:
– Одна копилка на уме! Ну, ладно… Давай-ка деньги сюда, скоро нам уголь покупать!
Конечно, денежки не только под ногами отыскивались – и тети, и сестры, и сами родители нет-нет да и бросали в узкую прорезь детских копилок «ненужную» мелочь.
К Новому году копилки заметно тяжелели, и мы радостно встряхивали их, вслушиваясь в разнобойный монетный звон. А когда наступала заветная новогодняя полночь, отец выносил копилки на двор и разбивал их на заледеневшей дорожке возле порога. Нам оставалось только собрать денежки – наши новогодние подарки.
Но однажды из-за бросовой монетки я чудом осталась жива: в Москве, посреди людской толчеи оторвавшись от материнской руки, кинулась через дорогу, наперерез мчащимся машинам, за ярко блестевшим посреди асфальта гривенником. Из-под смертоносных колес меня вырвал молодой парень и вместе с хорошим подзатыльником сдал на руки плачущей маме. Я совсем не испугалась, лишь заметила, что косичка расплелась:
– Мам, ну что ты плачешь, подожди, надо ленту завязать…
Ох, и заплетала мне тогда мама косу – аж до самого Сталинграда! Она припомнила мне все мои ослушания и проделки и обещала никогда, никогда больше не давать мне спуску…
Под стук вагонных колес и паровозные гудки мы с братом гадали, какое страшное наказание ждет меня дома.
Оказалось, не только меня: прямо от порога мама прошла в детскую и, не медля, одну за другой разбила наши копилки о железную грядушку кровати – моей. Монеты сверкающе разлетелись по полу…
– Вы уже взрослые, – жестко сказала она.
И больше ничего не произошло. Может быть, эти мамины слова и явились наказанием, потому что были неправдой? Ведь мне совсем недавно исполнилось всего-навсего девять лет, брату – семь… А может, мама специально велела нам стать взрослыми – действительно, в наказание?
Денежки мы собрали и отдали ей – думали, на уголь, но мама послала нас в дар-горский магазин за белым хлебом и самыми дорогими конфетами «Мишка на Севере».
Скоро Пасха!
За зиму собрана луковая шелуха – целая жестяная банка из-под фабричного повидла. В этой шелухе красили яйца. Если шелухи было много и если подольше ее кипятить, яйца получались красными. Другие цвета мама не признавала, говорила, что красные яйца на Пасху – это древний обычай. Я теперь думаю: она боялась, чтобы мы всякой синькой да зеленкой не поотравились.
Отец выносил по утрам из курятника яйца в лукошке и отдавал мне:
– На вот, не урони!
Яйца содержались до Пасхи в чулане, в деревянном ящике с соломой, а внизу, в подполе, хранились картошка, капуста, морковь. Соленьем и квашеньем тоже занимались, как и потом, после переезда на Дар-гору. Отец держал несколько деревянных кадушек с обручами, запаривал их да затаривал огурцами, помидорами, капустой, яблоками, арбузами – квасились-солились на наше здоровье!
В Пасхальную субботу пекли куличи: мама с тетей ставили тесто, а меня с сестрами подряжали взбивать желтки. Скорее и лучше получалось у Аллочки, и она легко убегала от нас к своим иголкам и ниткам. Зато на мою долю доставалось обмазывать яичным гоголем-моголем и посыпать крашеным сахаром уже готовое печиво. Куличи сладко пахли ванилью, сияли светло поджаристыми теплыми боками, так и хотелось отщипнуть кусочек! Но – нельзя: их еще надо святить в церкви, в Отраде. К этому времени и пасхочка была уже сделана из творога с маслом и изюмом, а яйца – те еще в пятницу покрашены.
Освящать ходила тетя Тося, иногда с дочерьми. Мама не решалась: говорили, что всех, кто ходил в церковь, переписывали и увольняли с работы, а работала мама в хорошем месте – врачом в больнице, а отец – тем более! – был директором ветеринарной лаборатории. Тетя Тося носила в церковь яйца, пасху и три кулича: один – священнику, другой – на подаяние, а с третьим возвращалась назад, прикладывала его к остальным куличам – и те тоже делались освященными. Святили еще и хлеб, и творог, и сало, и конфеты, и варенье, даже вино.
Мама нам с братом вручала по куличику, а один – большой, его в ведре пекли – ставила на стол в зале, обкладывала по кругу яйцами и накрывала на ночь белой материей. Куличики по-прежнему нельзя было есть, ведь Пасха наступала в воскресенье, но мне и самой не хотелось разрушать душистую красоту.
Над моей кроватью в детской на полке стоял маленький радиоприемник, из которого каждое утро звучал сначала гимн, а потом песни: «Нас утро встречает прохладой», «Подмосковные вечера», «Едут, едут по Берлину наши казаки». Особенно мне нравилось про рябинушку, и, когда запевали: «Где-то поезд катится точками огня», я сразу представляла поезд, который скоро, вот пройдет Пасха, повезет нас с братом на Украину, и я снова буду выглядывать вечером из окошка и на каком-нибудь повороте обязательно увижу светящиеся огоньками вагоны… (Да, самой любимой была «Рябинушка», и спустя много лет я узнала, что посвящена песня матери моего приятеля Анатолия Лемякина. Я видела Екатерину Семеновну, в облике которой явственно проглядывали черты юной красавицы. Что ж, песня вполне достойна ее, а она – песни. Стихи сочинил уральский поэт Николай Пилипенко, именно он и будущий супруг красавицы Катеньки Владимир Лемякин ухаживали за ней, и это о них поется в песне: «Справа кудри токаря, слева – кузнеца…». Были и в моей жизни «именные» стихи и песни много-много лет спустя, о чем маленькая бекетовская босомыга, конечно, еще и знать не знала…)
На полку с песенным радиоприемником я однажды и поставила свой кулич – на блюдечко, а вокруг разложила яйца, все сделала так, как учила мама. Не спала, время от времени поднималась и разглядывала в темноте кулич: светится или нет? Ведь его святили! Кулич и вправду чуть посвечивал белой своей шапкой из гоголя-моголя. Однажды он закружился, плавно покачиваясь из стороны в сторону, а яйца, мелодично позванивая красными боками, запорхали в кругу неведомо откуда слетевших лучей… Тут наступило утро. Значит, кулич и вправду святой, коль приснился в праздник! Все девчонки на нашей улице знают, что в праздники снятся вещие сны.
Гуляли на Пасху все, особенно цыгане: те по дворам ходили, выпрашивая куличи и яйца. С утра пораньше мы с братом Витькой, вдоволь наевшись пасхальных сладостей, выбегали на улицу катать яйца. Самое гладкое место было перед домом Пашуковых, там и собиралась вся слободская босота.
Мне в этих игрищах везло мало, а вот брат побивал всех. Он как-то по-особенному поверчивал-подбрасывал яйцо, выбирая одному ему видимую самую гладкую земляную полоску, и незаметно-сильным верным движением руки совершал праздничный победный бросок-каток навстречу катившемуся с другого конца дорожки яйцу: есть, попал! Я была рядом, чтобы сразу же забрать добычу, и домой мы приносили целую гору выигранных яиц с битыми носами и попками – законные пасхальные трофеи!
Многие с нашей улицы после Пасхи ходили на могилки, а у нас на кладбище своих могилок еще не было, в те времена в Сталинграде все мои родные, кроме бабушки Татьяны Алексеевны, были живы. А к бабушке как дойти? Ее ведь в войну в воронке похоронили, как и других, кто погибал под бомбами.
Теперь-то я уже много знаю о том августовском дне, когда небо над Сталинградом было черно от фашистских самолетов, а город горел, как огромный костер. Рушились многоэтажки, горели родильные дома, госпитали, больницы. Горела Волга, куда хлынула нефть. Моя мама, тетя Тося и сестры Люся и Аллочка в тот день выжили, а бабушка не спаслась. Она пошла на Волгу за водой, а тут – бомбежка. Потом бабушку отыскали среди развалин: в руке ведро, в ведре – голова… Снесло осколком снаряда. Поминаем ее 23 августа.
Теперь, конечно, в семье есть родные могилы. Все наши старики лежат в разных местах: отец и матушка на новом дар-горском кладбище, тетя Маня и дядя Фолий – на старом бекетовском, а тетя Тося и тетя Па-ва – в Волжском, там за ними ухаживает сестра Люся. Земля на всех одна – сталинградская.
Самая старшая в нашей сталинградской семье – моя двоюродная сестра Людмила. Живет она в Волжском с сыном Олегом и внуками. Видимся мы нечасто, но уж если встретимся, то все разговоры наши о том, какими были родители, как жили до и после войны, ведь все мы долго-долго вели именно такой отсчет времени: до и после войны. Я записала Люсины рассказы – не обо всем, конечно, многого и она не помнит, но я рада и малым ее воспоминаниям, в них – Сталинград.
…Мы по рождению Шаталины, повествовала Люся, а после замужества бабушки – Седенко. Бабушку Татьяну выдали замуж насильно, мужа Андрея она не любила, даже не хотела иной раз по имени назвать. Бывало, ей надо пригласить его со двора в дом обедать, так она битый час могла в дверях простоять, пока он не поднимет голову, не взглянет, и тогда уже говорила:
– Исть иди!
Жили на Быкóвых Хуторах, на Волге, только перед самой войной в Сталинград переехали. Дед наш занимался извозом и однажды по весне простудился: то ли куда-то в яму залетел, то ли легкие на морозе застудил свои чахоточные (еще с Первой мировой), но только скоро умер. Валя, мама твоя, только родилась.
А бабушку я помню такой, какой она была еще до войны. Выглядела, как все бабушки: худая, темная, сморщенная, она, видно, болела, потому что из-за нее мы не уехали в эвакуацию, ее нельзя было перевозить. Она ходила на базар и приносила мне пончики, которые «огурчиками» назывались, в общем, тесто длинненькое такое, запеченное в масле. Как она защищала меня от матери, когда та ругала меня, как мы ходили с ней за травами на городскую окраину – почему-то об этом вспоминаю.
Вот началась война. Не поехали в эвакуацию, остались в Сталинграде. У нас дом двухэтажный был: четыре семьи на одном этаже, четыре на втором. А потом дом разбомбили, и мы стали жить в окопе, сами его выкопали во дворе: яма, сверху накат из бревен и земли, там и скрывались с августа по октябрь 42-го. Я помню, осенью должна была идти в школу, купили мне заранее кожаный портфель, а потом, когда мы в окоп перешли, в этом портфеле хранились белые сухарики, и он висел над входом. Улицу занимали то немцы, то наши. Немцев выбьют – наши приходят, и так все время. И вот, когда в первый раз немцы заняли улицу, полезли проверить окоп: «Солдат, солдат!» – а у нас одни женщины, и первый немец, которого я увидела, схватил портфель, вот так вытряс его и забрал. А во второй раз, когда немцы заходили, один наступил мне на руку сапогом, я, наверное, запищала, так он меня по голове погладил, а матери дал какие-то таблетки, сахарин, наверное. Она не брала: «Нет, нет!». Боялась, что это отрава, а он ел сам и все на нас показывал, дескать, детям.
Ну вот, в этом окопе и сидели, и мать твоя Валентина с ребенком была, с восьмимесячным Витенькой, а мужа ее Георгия забрали в армию. Голодали, конечно. Помню, мать брала меня за руку, сестру Алку – на руки, и мы спускались как раз туда, где сейчас автовокзал, вниз, к железной дороге, там составы горели с пшеницей, сахаром, пшеном. Люди копошились, собирали, и мама тоже, а почему нас с собой брала? Ну, мол, если налет, так убьют всех сразу. А потом маму твою ранило, как раз то ли обстрел был, то ли бомбежка началась, и ее ранило в голову и в ногу. Улица была занята в это время, наверное, нашими, потому что помню, что Валю поместили в госпиталь, и мама моя ходила ее проведывать. А тетя Пава во время этих переходов улицы туда-сюда умудрялась к нам пробираться, приносила продукты, которые ей на работе выдавали. А работала в милиции и еще ранеными занималась. Ну вот, когда маму твою забрали в госпиталь, ребенок ее остался с нами и ел то, что и мы: горелую пшеницу отваривали на костре, отжимали и ели. А воду брали из колодца, он был внизу, надо было только спуститься. У колодца бабушку и убило. Вот как это было.
Она взяла ведро и говорит:
– У вас маленькие дети, – и пошла за водой.
И нет ее, и нет, и нет, а тут началась бомбежка, да такая, что в прямом смысле света не взвидели: все небо покрыто было самолетами немецкими. Это было 23 августа 42-го года. Мы в своем окопе спасались, а уж после взрослые пошли искать бабушку. Ну, и принесли ее: голова в ведре…
Как только эта страшная бомбежка окончилась, мы, дети, выбрались из подвала и в ужасе застыли на месте: землю словно взрыхлили, и осколков много было. На дороге перед нашим окопом лежала убитая женщина, а рядом сидел живой котенок. И так мне стало жалко этого котенка, что я попросила:
– Можно, я его возьму в наш окоп? – но мне отказали, мол, в окопе нельзя животным быть, они притягивают снаряды.
Во время налетов, помню, мы бежали к оврагу, где скрывались в вырытых в склонах ямах. Там и другие люди прятались, не только мы, а на противоположной стороне был, наверное, аэродром: наши самолеты словно картонные, и я видела, как они поднимались в воздух, как горели, как падали. И как в таких игрушечных самолетах можно было сражаться с немцами?
Наши солдатики – грязные, замотанные, израненные… На окоп поставили пулемет и стреляли, у нас перепонки чуть не лопались. Страшно было очень: стрельба, взрывы, осколки, но я ни разу не была ранена.
Перед тем как поселиться в этом окопе, все люди вещи свои в землю закопали, и мы тоже: сундук, машинку швейную «Зингер», другие вещи, уже не помню какие. В этом дворе и похоронили бабушку, там, где вещи закапывали. А сейчас здесь большие девятиэтажки, и один, окнами прямо на вокзал, стоит на месте нашего дома, адрес такой: улица Пархоменко, 57, я очень хорошо помню. Здесь бабушка и лежит.
У малыша Витеньки во рту от горелой пищи появились язвы, и скоро он от голода умер. Господи! В госпиталь невозможно было пробраться, потому что на улице утром – наши, вечером – немцы или наоборот. Мама твоя месяца полтора лежала в госпитале, а ребенка ее мы тут же, во дворе, и похоронили, где и бабушку. Про кладбище и речи не заходило: вся сталинградская земля тогда, в 42-м, кладбищем была.
Матери моей Антонине в то время исполнилось 30 лет, всего 30… И как она нас сохранила? Я бы, наверное, не смогла. Тетя Маня, самая старшая, жила и работала на тракторном заводе, о судьбе ее мы не знали, она к нам не пришла, думали, может, ее в живых нет.
Наступил октябрь, немцы стали нас выгонять из окопа. Валя уже пришла из госпиталя, хотя сильно хромала, и голова у нее была перевязана. Женщин с детьми погнали, указали направление, и – иди, иди, иди… Вот мы и пошли и, когда вышли за город, оказались в хвосте целой колонны.
Может, кто-то и подгонял нас, не помню, знаю только, что несла чайник с водой, мама твоя сумку какую-то, а моя – Алку двухлетнюю, сестру мою, на спине – рюкзак. А одеты – во всем, что только было у нас: по нескольку платьев натянули, наверное, и пальто было, потому что помню, как Алка все время кричала:
– Продай пальто, купи хлеба!
Еды почти не было. Когда мы проходили мимо сел, жители нам что-то выносили. Или мы сами ходили просить? Не знаю, но что-то ведь мы, наверное, ели.
Народу шло много, и все такие, как мы. И помню, у дороги лежала женщина убитая, рядом сидел ребенок, ну, может, полутора-двух лет, плакал. Все проходили мимо, и никто не брал ребенка, все ведь со своими детьми. Взял ли его кто потом, не знаю. Гнали нас и гнали и пригнали в Белую Калитву. Много подвод там стояло, людей тьма, а солдаты немецкие всех сортировали: молодых в одну сторону, детей и матерей – в другую. Молодые – те назначались к угону в Германию. И Валентину хотели угнать, она ведь совсем молодая была, двадцати трех лет. А мать моя усадила ей Алку на руки и просила солдатика, а тот – ни в какую, вроде того, боится офицеров, но факт тот, что – упросила, упросила… И махнул рукой, и мы дальше пошли. (Далекий путь проделали мои женщины, ведь Белая Калитва – это в Ростовской области, и там немцы устроили концлагерь. Слава Богу, что пожалел моих родных молоденький немецкий солдатик. А если бы попали в неволю, а если бы маму угнали в Германию? Сохранилась бы семья? Была бы я на свете?) Погнали опять нас, мы и на подводе долго ехали и приехали в хутор Янов.
Там уже немцев не было, только полицаи. И стали нас расселять по домам, мы попали к одинокой хозяйке с детьми. Несколько дней жили у нее, а потом она отселила нас в летнюю баню. Началась зима, холодно было. Утром просыпались, а волосы приморожены к стене. А чем жили – просто удивляюсь. Меняли одежду, ту, что на себе, на продукты, оставались кое-как одетыми. Мать еще ходила стирать по людям, убирать, что-то шила, Валя лечила. Алка все просила есть. Ой, как она следила за всеми! Помню, мать тыкву парила в кастрюле, а у нас была чайная чашечка, мы ее с собой принесли, и мать этой чашечкой тыкву всем накладывала, а Аллочка так смотрела, так смотрела, чтобы ей столько же чашечек дали, сколько всем остальным! И снова кричала:
– Продай все, купи хлеба!
Хозяйка, бывало, вынесет своему псу похлебку, Аллочка опять:
– Мама, забери, есть хочу!
Конечно, похлебку собачью не ели, а вот куски по дворам собирали. Наверное, было Рождество, потому что читали молитву, мать научила, что-то там такое было: «Воссияй мирове свет разуму…» – больше не помню. Ходили по домам, просили еду. Некоторые люди без разговоров подавали, а некоторые очень возмущались. Так зиму и прожили.
А потом нахлынули немцы – отступали вроде. Пожрали всех кур и свиней, все съели. И разнесся слух, что Сталинград освободили и нам можно возвращаться. И весной мы пошли обратно. То ли на подводе ехали, то ли все время шли – не помню. А в Сталинграде на нашей улице рядом с окопом огромная воронка появилась, я туда однажды спустилась по малой нужде и вижу: ноги человеческие – синие, в трупных пятнах. Я так кричала! А во дворе, в сараюшке, где раньше дрова хранили, подвал был залит водой, и в воде лежал наш солдатик в одном нижнем белье, руки-ноги связаны, мертвый. Мучили, наверное…
Окоп наш весь оказался изрытым, все закопанные вещи пропали, и даже останки бабушки и ребеночка были разбросаны. Кое-как их собрали, опять зарыли и двинулись в Бекетовку. А мама твоя Валентина ушла на фронт.
Почему Бекетовка? Весь Сталинград был разбит, кроме Бекетовки, только здесь и сохранились дома. И мы на Сталгрэсе, напротив Дома культуры, в избушке сначала поселились, там и тетю Паву встретили в каком-то общежитии. Помню, как она нас купала в корыте, отогревала. Стали мы кочевать по разным квартирам, мать моя устроилась на работу – куда, не знаю, то ли в столовую, то ли в магазин. Скоро и тетя Маня пришла к нам, ее Пава тоже отыскала, а потом и Валя с дядей Мишей, твоим отцом, с фронта вернулась. Я забыла уже, как она выглядела в военной форме, но помню ее платье голубое с серым и жилеточку синюю. С ней ходили в кино, «Небесный тихоход» смотрели. Мы как подружки были, всего 15 лет разницы в возрасте. Запомнилась она мне грустной, даже печальной, хотя из всех сестер она одна судьбу свою устроила.
А печальной была из-за воспоминаний: ребеночек умер, и Валя еще не отошла от горя. Однажды ее направили в Москву на курсы повышения квалификации, и там она встретила своего первого мужа, тоже медика. И он рассказал, что искал ее, наводил справки, но ничего не смог узнать и был поэтому убежден, что Вали и нас в живых нет. У него, конечно, уже была новая семья, дети.
А дядя Миша всем очень понравился, и первое время молодые жили в сарае, который для них расчистили, поставили там единственную кровать. Я часто навещала Валю, когда она ждала ребенка – тебя: сидела дома, вышивала какие-то скатерти, в кино мы уже с ней не ходили. И вот ты родилась, дядя Миша стал работать в ветлаборатории, а потом и брат твой Виктор появился на свет. И стали они строить дом в Бекетовке, а для нас – кухню во дворе.
Дом у вас был большой, а какая печь – во всю кухню! Зимой было очень тепло, топили углем, редко дровами. Кот у вас жил огромный, рыжий, по кличке Лохматый. Он лежал около печки, а вокруг него копошились цыплята, грелись, дядя Миша ведь кур разводил.
Помню день, когда умер Сталин. У меня была собака Розка, и ее застрелили именно в этот день, и я сильно плакала. (Смерть Сталина стала настоящим горем для семьи, это я очень хорошо запомнила: и мама, и тети, и все вокруг обнимались и плакали, и причитали, и кричали, что же теперь будет…)
До того, как дом родители твои построили, они снимали комнату в угловом жилище на повороте дороги к поселку Отрада, и я жила у вас, нянчила тебя и Виктора. Мне было лет 14: стою у калитки с мальчишкой на руках, ты меня за подол держишь, жду, когда Валя появится. Как только вижу ее, сразу сажаю вас на лавочку и бегом к подружкам. Мать моя сидела в это время в тюрьме. И ведь зазря. Она в магазине работала в воинской части, однажды приходит, а замок сорван. И зачем вошла вовнутрь? Потом в оправдание говорила, мол, магазин на воинской территории, охраняемый вроде, думала, нечаянно кто-то сбил замок. Но, видно, забрали денег много, почему ее и посадили.
Приходили к нам описывать имущество. А у нас нечего было описывать: ни на ней, ни на нас доброго платья не было. Мать все время перелицовывала наше старье, а уж в доме… Одним словом, нищета. Удивлялись оценщики: мол, такая недостача, столько денег похищено, где это все? Говорю же: ни сном ни духом о воровстве мать не помышляла. А уж потом, как освободилась, не вернулась в магазин, пошла на мебельную фабрику. Все пальцы мамины были порезаны, источены, одного и вовсе лишилась. Но было и хорошее: использованные и уже ненужные тканевые наждачные полотна можно было выварить, отбелить и шить из них простыни, пододеяльники и даже платья. (И у меня до сих пор есть такая ткань, которую я обнаружила после смерти тети в ее сундуке: все мы – и тети, и сестры – носили платья из отбеленных наждачных холстов.)
После войны твоя мама работала в немецком госпитале, лечила пленных, а потом в это здание в Отраде, когда немцев вывезли, перевели 56-ю школу, где и я, и Аллочка, и ты учились. А Валя работала в девятой инфекционной больнице, за ней и ночью приезжали, потому что она одна могла трубки детям в горло вставлять, чтоб не задохнулись. Очень она уставала, болела даже. (Мама была заведующей отделением больницы, тогдашний главврач Мария Андреевна Шиповская до сих пор вспоминает, как Валентина Андреевна лучше других медиков делала интубацию гортани при тяжелых формах дифтерии. Скольких детей спасла мама! А рассказал мне об этом племянник Шиповской и тоже врач Юрий Петрович Макринский: он учился вместе с моим дядей Васей в Сталинградском мединституте и поэтому часто бывал в нашем бекетовском доме, даже на велосипеде, бывало, меня катал. Снова увиделись мы с Макринским через много-много лет в больнице, где работает и он, и Рита, мама моей внучечки Люси. Что и говорить: жизнь большая, земля маленькая, а пути человеческие исповедимы.)
Дядю Мишу, отца твоего, все мы очень любили, всем он помогал. И Павлина, тетка, была как вторая мать мне, вечно я к ней подружек своих таскала, очень гостеприимная была, всегда с советом и помощью.
(Сколько часов, дней, месяцев, лет провела и я у тети Павы в ее «подселенке» на улице Мира! Все знают, что завершается улица планетарием с символической фигурой доброй вестницы, держащей над городом земной шар с голубем мира. О том, что когда-то неподалеку стоял кафедральный собор святого Александра Невского, я, юница, и ведать не ведала. Лишь много лет спустя, став прихожанкой этого церковного прихода, узнала, что улица Мира вымощена кирпичом из разрушенного в 1932 году Александро-Невского собора. После войны улица была восстановлена одной из первых в городе, о чем у меня сочинились восторженные юношеские стихи:
Да, эта улица самая первая!
Светит из послевоенной дали
Самое первое смелое дерево –
Новое дерево мирной земли.
Самая юная, самая верная
Нежность, явившая город, как мир!
Вся наша Родина – самая первая
Улица в мире по имени «Мир».
Истина эта казалась самой важной, ведь Сталинград был живым напоминанием о страшной войне. А еще рассказы старших – неспециальные, не с воспитательными целями, а естественно-житейски вплетающиеся в изустные семейные летописи.
У тети Павы всем было хорошо, хотя теснота ее одинокого жилища вроде не располагала к гостеваниям: почти всю комнату занимали кровать и большой круглый стол, а фанерный шифоньер и трюмо ютились по углам. Стул был всего один, зато табуреток – много, они прятались под столом и выдвигались по мере надобности, то есть каждодневно.
Никогда моя тетушка не читала нотаций, никогда не назидала, но ведь известно: хорошее вырастает в душе само, если человек смотрит на хорошее.
Умерла тетя Пава мученицей, в покаянии, после долгой болезни и тяжелой операции. Просила привести священника, и когда мы с отцом Андреем Шереметовым вошли в больничную палату, тетушка вскинулась руками навстречу:
– Родные мои! Спасибо, спасибо!
Исповедалась и причастилась запасными дарами и все повторяла, когда священник ушел:
– Таня, ведь меня многие люди любили! А ты молиться будешь, правда ведь?
Правда. Может быть, это самое важное – молить Господа о спасении душ усопших.
…Как-то, когда тетя Пава была еще нестарой, я спросила ее, почему живет одна, почему не вышла замуж после смерти первого супруга.
– Душа больше не запела, – почти стеснительно ответила она.
Дай, Господи, чтобы раба Божия Павла в вечной своей жизни пела в сонме спасенных всехвальную песнь Творцу!)
Все наши старшие были людьми добрыми, держались вместе, семьей, потому что поодиночке не выжили бы, ведь послевоенное время было невозможно тяжелым: ни еды, ни одежды, ни обуви, ни лекарств.
Ты, Таня, чуть не умерла от голода и дизентерии в 47-м, тогда ведь голодали. Ты еще грудничок, а молока у Вали почти не было, и мы все спасали тебя тюрей. Бывало, разжую кусок хлеба, прижмусь губами к твоему рту, не отпускаю, пока ты не проглотишь. А иначе не получалось, ты была такая слабая, что уже и не кричала, и есть не могла.
Сколько всего пережили! Бедовали. Помню, нечего было надеть, а я уже училась в химтехникуме, и вот надо идти на вечер, а мне не в чем, и я у Вали взяла обувь на два размера меньше, чем моя, а у тети Павы платье на шесть размеров больше. Платьем обернулась, в туфли ноги всунула и сидела в уголке, потому что не могла встать в этих туфлях, в этом платье, зато я была на вечере! А возвращалась в растрепанных своих ботах, были у меня резиновые, и зимой эти боты я прямо отдирала от себя, потому что ноги чуть ли не примерзали к резине. А еще Павлина отдавала нам старые шинели, она ведь в милиции работала, и из этих шинелей мать шила и вам, и нам пальто. Какие-то платья то Валя подбрасывала, то Пава. У меня фотографии есть, где я в этих перешитых одёжках и в первом настоящем, новом платье, мне его мать на выпускной купила: штапель, такая была ткань, очень модная тогда, и так хорошо сшито это платье, оно у меня любимым долго было. И еще босоножки – белые, ажурные, я их лет десять носила, берегла.
А у тети Мани был муж по имени Фолий, очень большой и добрый, любил детей. На выходные дни забирал меня к себе, по нашей бекетовской грязи меня под мышкой нес. На день рождения подарил мне козочку – маленькую, настоящую, и звали ее Люськой. Такая была скорая, чуть ли не по стенкам скакала! Потом ее сдали на мясокомбинат, уж я наревелась…
Ездили однажды все вместе на Украину, а меня не взяли, я так переживала, до сих пор помню эту обиду и до сих пор не знаю, почему меня не взяли. Оставили мне сколько-то денег, по-моему, 150 рублей, а я подобрала бездомного щенка и эти деньги истратила ему на молоко.
А с Украины потом приехал брат твоего отца Василий учиться в мединституте, стал жить в вашем доме. У него было много медицинских книг, в которые я потихоньку заглядывала: мне, уже взрослой девушке, никогда не приходилось видеть мужчину, это была запретная область жизни. Про женщин вроде знала все, а как мужчина устроен? Однажды делаю вид, что на полке ищу какую-то книгу, стою, перебираю, вроде ищу про шпионов, а на самом деле… И тут дядя Вася, не поднимая головы от конспекта, говорит:
– Того, что ты ищешь, здесь нет.
И как он понял? Я со стыда чуть не сгорела, но он никому не рассказал об этом случае.
Потом мы с мамой и сестрой Аллой переехали в Сумгаит, а оттуда Алла – в Днепропетровск, я – в Волжский, у нас появились свои семьи, пошла своя жизнь. А что о ней вспоминать? О ней пусть дети наши рассказывают, их очередь.
Спасибо тебе, Люся, за память. В ответ прими мои стихи:
Милая сестрица, не бели
Бледных щек защитною печалью –
Не пора ль по старенькой пыли
Поспешать во Киев иль Почаев?
Или зимним ходом ходоков
Побредем снегами да пыреем?
Белым полем вязаных платков
Головы больные обогреем.
А весной автобус поплывет
По Руси ковчегом богомольным,
Всяк насельник в нем наперечет,
Всепокорный далям колокольным,
Изольется плачем сердобольным…
Русь не поле дикое – позём
Бирюзовый,
Светень небосклона!
Добредем, сестрица, доползем,
Упадем пред старыя иконы…
Об июньской розовой поре
На святой Почаевской горе,
Где являлась Матерь,
Со слезами
След Ея стопы облобызаем…
Стольный Киев встретит в октябре
Долготерпеливыми крестами –
Тут и мне, сестрица, и тебе
Плакать, утираючись перстами!
Отвечает милая сестра:
«Доживем, сестрица, до утра
И пойдем, издерживая плоть,
Лишь бы души вынянчил Господь».
Отец, как водится, уезжал в командировки, мама дежурила по ночам в больнице, и хотя за нами присматривали тетя Тося и соседки, мы с братом все равно часто оставались одни. Однажды нас чуть не унесли цыгане. Вдруг отворилась калитка и вошли бородатый старик и молодая разноцветная цыганка, она сразу же гортанно запела-заворковала:
– Ай, какие деточки красивые, нам бы в табор таких!
От страха мы с братом забежали за угол дома, и не знаю, что было бы с нами, если бы тетя Наташа не заметила через забор непрошеных гостей и не закричала:
– А ну, уходите, сейчас за милицией побегу! – и действительно побежала.
Не очень-то цыгане напугались, двинулись не спеша по двору, старик мимоходом подхватил забытый на завалинке молоток, засунул рукоятью за ремень, и тут я опомнилась, схватила брата за руку и потащила к крыльцу: успеть бы заскочить на веранду, успеть бы захлопнуть дверь да задвинуть щеколду, успеть бы!..
Успели, успели залететь на веранду, уже забегали в комнаты, когда послышался звон разбиваемого стекла. Я оглянулась и увидела в оконной дыре руку с молотком: старик пытался выбить щеколду. Он, наверно, без труда это сделал бы, но тут с улицы послышались голоса: тетя Наташа прибежала с соседями. Поднялся страшный крик, заревели и мы с Витькой. Цыгане ушли, а брат после этого случая стал заикаться. А еще через несколько дней нас отвели в детский сад неподалеку от клуба Павших борцов.
Там было куда интересней, чем дома: много игрушек, показывали диафильмы на белой простыне в красном уголке. Там висел большой портрет строгого усатого военного – я впервые увидела Сталина. Во дворе были устроены всякие лесенки, домики и горки, где мы играли. А как я любила праздничные утренники! Зимой мама наряжала меня снежинкой, летом – земляникой, осенью – листом. Я даже была весенней сосулькой в остроконечной слюдяной шапке, в платье с каплями из серебряной фольги. Но зато мне не нравились «тихие часы», когда надо было обязательно спать после обеда. Не нравилось, что нас водили в парк у клуба Павших борцов, но гулять не разрешали, и мы сидели на скамейках, а около нас ходили под ручку вперед-назад Надежда Степановна и Маргарита Сергеевна. Дни в садике казались длинными-предлинными, и однажды я убежала через дыру в заборе.
Забрела на неведомый пустырь, где бродили собаки, охраняя свои норы. Я увидела маленьких кутят, одного забрала. Ох, и несладко бы мне пришлось, если бы собака-мать оказалась рядом! Дома за побег меня наказали: я целый вечер простояла в самом дальнем углу, но щенок был оставлен. С этим Бобиком мы уже не боялись ни цыган, ни соседних мальчишек, ни чужих собак. А в садик меня водили по-прежнему.
Цыгане поселились неподалеку, в недостроенном доме с забитыми окнами. Чей это был дом, никто не знал, цыганенок Колька, который ходил к нам попрошайничать, говорил, что табор поживет здесь только зиму и уйдет. Табор был маленький, но настоящий, а с Колькой мы водились: он умел громко петь, а еще рассказывал мне и брату всякие страшные истории. Вместо одной зимы цыгане прожили на нашем конце слободки целых три года.
Овраг позади недостроенного дома всегда был полон грунтовой воды, которая зимой замерзала и превращалась в каток. Я скользила на «снегурках», а Колька – на прутяной корзине. Бывало, разгонится, летит ко мне – руки в стороны – и кричит:
– Таня, я тебя люблю!
Это было самое первое в моей жизни объяснение в любви. Потом мне купили «дутые» коньки, и я отдала «снегурки» своему другу-цыганенку. В ответ получила старинную серебряную монету с дырочкой, но вскоре она безвозвратно пропала – как и многое в моей стремительной жизни.
Сколько себя помню, для матери я была сущим переживанием. Однажды проглотила пуговицу. Мама обмазывала дом и вдруг увидела, как я кружусь рядом с завалинкой, размахиваю руками, хватаю ртом воздух, словно кричу, а крика нет.
– Что, что? – мать кинулась ко мне, к завалинке, где лежали ровными горками пуговицы – мои игрушки. Сразу же поняла все и, схватив меня, как была босая, в глине, побежала в поликлинику, а это – километрах в двух от нашего дома, рядом с детсадом.
Врачиха сказала, больно вынимая из горла пуговицу:
– Хорошо хоть не монета.
Меня кололи, промывали, поили чем-то на диво вкусным, и все это время я напряженно размышляла над сказанным, наконец поняла и закричала, брызгаясь лекарством:
– Пуговица с дырочками!
Мама страшно рассердилась, даже заплакала и обещала наказать. Но по дороге домой, наверное, об этом забыла. А дома ждали подарки: отец привез из Москвы черные осенние ботинки, кружевную комбинацию, шерстяное синее платье и коричневый портфель, ведь назавтра был мой день рождения: мне исполнялось семь лет, наступала школьная пора.
Но до школы еще предстояло пережить историю с розовой сумочкой, любви к которой не смог затмить даже замечательный школьный портфель.
Сумочка была кукольная – с мою семилетнюю ладошку, – но казалась по-взрослому настоящей: с длинными витыми ручками, с блестящими замочками-защелками, с двумя отделениями и потайным кармашком. В этом кармашке время от времени хранились монетки на кино и мороженое.
В кино я научилась ходить одна. На детские сеансы, конечно. С детства привыкала неизвестно зачем к своеобразному одиночеству: вокруг – дети с родителями, на экране – разные истории, которыми я прельщалась с первых же кинокадров и без остатка, но… Я все равно была одна: ведь рядом – никого из родных и знакомых, кто мог бы мешать думать и страдать.
Конечно, часто бегала в кино и вся наша юная улица, но вот что странно: фильмы попадались какие-то неинтересные. Зато мои одиночные сидения в кинозале!.. Люблю их по сю пору.
Повадка к маленькой свободе, к бегству в одиночество среди людей – в кино, на Волгу, в горсад, на базарную толкучку – сохранилась на всю жизнь. Какими сладкими казались мне первые мгновения отрыва от общего течения школьной жизни, когда вдруг ни с того ни с сего я, потаясь, пряча за спину портфель, выбиралась из школы через калитку на заднем дворе и улепётывала на уличные просторы!
Воздух прогулов был полон свежей радости и тайны, земля бежала навстречу тоненькими тропинками и крашеными лавочками вдоль стареньких домов, солнце светило для меня одной… И все вокруг казалось до того незнакомо-прекрасным, что не страшили даже двойка по школьному поведению и грядущий мамин гнев.
Однажды, отстояв в шумной детской очереди в кинокассу положенные полчаса, я аккуратно спрятала синенький входной билет в потайной кармашек любимой сумочки и отправилась в приклубный парк прогуляться.
Там в пышно-высокой зеленой листве кленов и вязов прятался от нескромных взоров старый-престарый дровяной домик уборной с двумя узкими крылечками, толстыми щелястыми дверями и маленькими высокими окошечками без стекол. Зато крючки на внутренней поверхности дверей были огромными, крепкими, и я, помню, еле-еле примкнула тяжелую трухлявую дверь. Заодно в рабочем порыве смахнула с плеча свою сумочку, и она, словно прекрасная розовая бабочка, спланировала прямо на середину отхожего места и исчезла в страшном подземелье. Перед моим потрясенным взором зияла дыра с грязными неровными краями.
Можно было зареветь от горя и страха и бежать домой, к маме – жалиться и утешаться, и я залилась было слезами, но тут же забыла о них при мысли: надо достать сумочку! Но как? В отчаянии я оглядела убогое пространство и только сейчас заметила, что пол уборной устлан зелеными ветками. Через минуту отыскалась самая длинная и крепкая, и я с замиранием сердца, с веткой в руке, заглянула в преисподнюю.
Сумочка упала плашмя и только поэтому не утонула, не пропала навеки. Превозмогая страх, я опустила ветку вниз, в яму, пытаясь хоть как-то зацепить свою драгоценность. И так много раз, но – тщетно… Оставалось только одно: удлинить ветку, а для этого лечь рядом с грязной дырой и вместе с веткой опустить вниз руку.
Я закрыла глаза и… Ничего не произошло, ведь мне надо было видеть, как надежнее поддеть и подхватить утопающую… Наконец, она была спасена, но к этому времени на всем белом свете вряд ли бы нашелся человек несчастнее и грязнее меня.
Выбравшись вслед за сумочкой из своего невероятного плена, я побежала по парку, боясь встретить людей: засмеют ведь… Вспомнила, что на соседней с парком улице есть водопроводная колонка, помчалась туда, разделась донага и прыгала, изгибаясь и изворачиваясь под холодной струей, до посинения.
Из ближней калитки выглянула старуха, долго наблюдала за моими стараниями, но мне-то было все равно. Чуть погодя бабушка вынесла сухую простынку:
– На-ко, вытрись! Как же пойдешь в мокром-то?
В мокром, да зато в чистом: белье и платьишко я отмывала рыжей глиной, благо, ее вокруг было видимо-невидимо, но дурнотой все же повеивало…
– Мне бы мыла, бабушка!
Вынесла старая и мыло, и мое купание стало настоящим, как дома, только не хватало привычного железного корыта и маминого поливания с приговариваниями:
– С гуся вода, с Тани худоба!
А потом я купала сумочку, да так усердно, что от киношного билета осталась лишь синяя мокрая каша. Фильм слезно таял в моих глазах, в парковой листве, в воздухе… Неужели мне никогда не узнать о приключениях детей капитана Гранта?..
Трепетными шагами приблизилась я к клубу. Очереди уже не было – до начала сеанса оставалось всего ничего, и юный народ прочно заседал в кинозале. Контролерша печально взглянула на синюю билетную труху в моей ладошке, обозрела всю мою жалкую взъерошенную личность в мокром желтом креп-жоржетовом (из маминого) платье в красно-синий цветочек и произнесла жалеючи-прощающе, совсем по-маминому:
– Заходи уж, горе луковое…
Я примостилась на краешке любимого седьмого ряда, свет погас, зазвучала прекрасная музыка… И тут ни с того ни с сего, и сама не понимая почему, я тихонько поднялась, вышла из зала и со всех ног бросилась через парк – прямехонько домой. Вот когда хлынули слезы – то ли обиды, то ли жалости… Только мама могла их утереть, только мама всегда спешила спрятать меня в свою теплую запазуху.
Судьбу искала красную и вольную,
Цвела, кружилась девкой фестивальною,
А после бабой горилась недольною:
В любови лишней, в счастии – опальною.
Но в суете, в метаньях невзаправдашних,
В пылу надежд, в дурмане словопрения
Ждало спасенье – матушкин запазушник
Прощеного, крещеного терпения.
Не понимая жизнь мою качельную,
Склонялась мама над судьбою-зыбкою
И снова песню пела колыбельную:
«На что и мать, коль неча дать», – с улыбкою.
А я-то…
И поныне платят бедами
Порывы дней бездумных, юных, радужных,
Когда каменья зла, сама не ведая,
Бросала в теплый матушкин запазушник.
Простится ли вина моя постылая?
Душа и вечность – все мое имение…
Простит ли мать?
Давно простила милая –
На жизнь вперед, на вечное терпение.
Школа № 56 находилась далеко, в том самом поселке с лучезарным названием Отрада, где мы когда-то снимали комнату. Долгое время казалось, что именно про эту Отраду взрослые поют в застольях: «Живет моя отрада в высоком терему…». Терем в Отраде был выше некуда: старинный Свято-Никитский православный храм. Имя церкви я, конечно, позже узнала. А тогда – церковь да церковь.
В первосентябрьский день, вернувшись из школы, я с ходу сбросила у порога сандалии и как была – в школьном платье и белом, в оборочках, праздничном фартуке – повалилась на диван со словами:
– Ах, как я устала! (Совсем как мама…)
Краем глаза я следила за братом: он молча, с уважительным интересом смотрел на меня. Довольная этим почтительным вниманием, я сказала:
– Вот отдохну, буду варить…
И действительно, наварила самой любимой еды – картошки в мундире, благо керогазом пользоваться уже умела.
По пути в школу мне нравилось на бегу стучать в ставни и калитки, вызывать девчонок: Валю Шупикову, Юлю Аристову, Розу Файзулину, Ларису Киктеву, Свету Задорожневу, Ларису Кузьминскую. Наш классный староста Славик Волошин присоединялся к нам самым последним, и такой вот шумливой ватагой мы влетали в школьный двор с огромными деревьями (они живы по сей день), с турниками и спортивными бревнами во дворе, с футбольным, никогда не пустующим полем: здесь и мне довелось в воротах постоять, повратарить.
Позже, в восьмидесятые годы, школа переехала в самый центр Кировского района, в старом же здании, где сразу после войны был госпиталь для немецких военнопленных, а потом располагался комбинат бытовых услуг, а потом еще что-то, теперь находится «новорусская» фирма.
Почти каждый год в мае мы встречаемся на школьном дворе, греемся на солнышке, вспоминаем. Как-то зашли в наш бывший класс: там нынче склад, а когда-то стояли парты, моя – во втором ряду. На окошке цвели герани, в стенном шкафу хранились книги и наглядные пособия, всякие-разные школьные нужности. Доска казалась огромной, как наша будущая жизнь. Здесь проходили первые школьные уроки, которые вела Татьяна Кирилловна Баранова-Белицкая. Худенькая, с красиво уложенными волосами, в темненьком платье с белым воротником… Она была самой лучшей.
Во время прогулок учительница водила нас мимо церкви – разве знали мы тогда, маленькие, о спасительном смысле тех путешествий? Знала Татьяна Кирилловна. Знала, что ждут нас в будущем радости и страдания, что всему управа и защита – Господь.
Недавно, возвращаясь поездом из Москвы, я узнала от случайных попутчиков Инги и Сергея, живущих в Волгограде на самом въезде в Отрадинский поселок: мол, школа № 56 снова школа, во дворе замечены ребятишки с ранцами. Неужто правда? (К сожалению, надежда оказалась ложной, школа не вернулась на свое заповедное место. А ребятишек с ранцами где только не встретишь.) Съездить недосуг, у Татьяны Кирилловны, которая переехала в самый центр Кировского района, и то нечасто бываю. А когда-то дневали у нее чуть ли не всем классом…
Жила Татьяна Кирилловна в отрадинском переулке имени Сталина – в маленькой-премаленькой избушке, и после уроков мы всегда провожали ее до дому. А потом провожали меня, потому что я жила дальше всех, у самой бекетовской «пожарки».
Однажды учительнице привезли дрова, выгрузили у калитки – огромную свежо пахнущую лесом гору поленьев. Славик Волошин тут же придумал игру: тому, кто больше всех перетаскает чурбачков в сарай, будет отменено недельное дежурство по классу. И сам же победил! А потом мы пили чай в тесном домике Татьяны Кирилловны, примостившись на старых табуретках, на сундуке, на кроватях, на порожке… Ах, каким вкусным был тот чай с бубликами!
Однажды в школе во время перемены я легла на пол у своей парты и уснула, а очнулась в учительской на диване. Было удивительно хорошо… Я словно плавала в жарком пуховом пространстве, удивляясь склонившейся надо мной Татьяне Кирилловне: почему она плачет? Со мной что-то случилось, но где тогда мама? И снова уснула, и не знала, что вскоре приехал отец и увез меня в больницу, где я пролежала почти месяц с воспалением легких.
Татьяна Кирилловна приходила почти каждый день, и всякий раз с гостинцами. Учительница располагалась на больничной табуретке рядом с кроватью и читала мне вслух. Наверное, это были очень хорошие книги, потому что именно тогда у меня появилась любимая привычка к чтению, определившая судьбу.
На 85-летие Татьяны Кирилловны собрались почти все. Как же мы изменились! А для учительницы были по-прежнему Славиком Волошиным и Валечкой Бешенцевой, Галочкой Бондаренко и Танюшей Бойко, Колей Крикуненко и Женей Лифшиц, Юлечкой Аристовой и Валечкой Шупиковой…
– Женя, помнишь, как ты в обморок упал?
– Я, в обморок?
– Да, когда вам делали медицинские прививки. До тебя дошла очередь, ты только глянул на шприц с иголкой – и сознание потерял. А помните, как мы каждое лето собирали гербарий? А какие праздники новогодние устраивали! В нашем классе обязательно стояла своя елочка.
Вслед за учительницей каждый из нас что-нибудь вспомнил, и получилась длинная интересная история, которую я опишу как-нибудь в другой раз. А вот рассказ Юры Желтобрюхова изумил всех своей экзотичностью, причем невыдуманной. В семидесятых годах Юра служил борттехником на Чукотке, тогда многие стремились попасть на самый край света, где можно было заработать. Поселок авиаторов находился от аэродрома в пяти километрах, добирались до места автобусом. В один погожий зимний день автобус на линию не вышел, и Юра двинулся на работу пешком. Такое было не в диковинку: подумаешь, пять километров, в меховике и валенках добегал всегда быстро. Но только не в тот день.
Уже был виден аэродром, и Юра прибавил шагу, но тут внезапно задул ветер, и началась пурга-понизовка. Она длилась иногда сутки, иногда часы – в любом случае хорошего мало – оказаться внутри бушующего на уровне человеческого роста снежного вихря. Юра не знал, сколько времени он провел в бешено ревущем коконе пурги. Он только и делал, что смотрел вверх, на голубое небо и безмятежное солнце, и молился, чего прежде с ним не случалось. Иногда поднимался на цыпочки, выглядывал за край снежного бесива: аэродром совсем близко – рукой подать!
– И передо мной прошла вся моя жизнь, – рассказывал Юра, – я даже испугался, потому что так с человеком всегда бывает перед смертью, я читал, об этом столько книг написано! И самое интересное: увидел всех вас, ребята, и Татьяну Кирилловну в нашем классе… мы пили чай… чашки стояли на партах, на подоконниках, на столе… чай не кончался, как будто кто-то невидимый наполнял и наполнял чашки… Я понял, что еще поживу!
(Последняя Юрина фраза словно прилетела из иного мира – оттуда, где уже много лет пребывает душа моего друга Толи Долгова. На Земле он был поэтом, а значит, неискателем житейских удач. Искал другого – гармонии.
Мы работали с ним в многотиражной газете химзавода, одновременно опубликовали свои первые поэтические книжки, даже дружили семьями. И вдруг неожиданно для всех Толя расстался с женой и уехал на Камчатку. Служил редактором газеты в Палане, женился на корячке Зое, которая отзывалась на мои телефонные звонки мягким мелодичным голосом:
– Здравствуй, Та-а-нь-я!
Ни в одном из писем Толи Долгова не было и намека на возвращение, и я радовалась: хоть на краю света, но нашел гармонию.
А незадолго до смерти мой друг поведал о событии, очень похожем на случившееся с Юрой, то есть рассказал о том, как выжил во время жестокой пурги. Письмо Толи не сохранилось, но вневременным внутренним зрением я вижу ровные аккуратные строки с чуть растянутыми по-долговски буквами: «…не знал, куда и далеко ли придется идти, но шел, твердя любимые имена, призывал на помощь, и одно из них было твоим, Таня. В какой-то момент я понял, что еще поживу…»)
Пурга была короткой: налетела, закрутилась и улеглась. За Юрой выслали машину, он даже и обморозиться не успел. Вместо спирта напился чаю – вволю, как никогда.
– А что, ребята, не выпить ли и нам чайку? – и Слава Волошин прошелся своими гибкими пальцами по гитарным струнам. – Юрка, наливай!
Все так и покатились со смеху. Конечно, не Юра, а хозяйственная умелица Света заварила и разлила по фарфоровым китайским чашкам прекрасный восточный напиток. Одна лишь Татьяна Кирилловна пила из старого несервизного бокала, который когда-то кто-то из нас подарил ей к празднику 8 Марта.
– Татьяна Кирилловна, расскажите о себе!
И в который уже раз она вспоминала – для нас:
– Я жила во Владикавказе, там несколько было соборов, и рядом с нами стояла церковь, меня туда водила бабушка, я привыкла к церковным службам, к церковным песнопениям. В 43-м году во время войны мы переехали в Сталинград. Было очень тяжко, очень, и я часто приходила в Свято-Никитскую церковь молиться. А когда был День Победы, колокола, несмотря ни на какие запрещения, били на всю округу! И во дворе церковном, и около – везде были люди: молились, плакали, ликовали, всю ночь Отрада колобродила! Хорошее имя – Отрада, поэтому, наверное, здесь церковь и сохранилась. Был еще Казанский собор – вот и все храмы на весь Сталинград. Правда, слышали мы, что сразу после ухода немцев в поселке Ельшанка построили маленькую церковь Александра Невского. Ну, а с вами, действительно, мы часто гуляли возле храма в Отраде, и я всегда молилась – про себя, неслышно, вам не говорила, ведь тогда это не было принято. А теперь церковь в жизнь людей вошла, но изменились люди. Куда-то исчезли бескорыстие и доброжелательность, каждый старается жить сам по себе. Или нет? Во всяком случае, наш класс доказал обратное: вы всегда вместе. Когда сгорел у Сережи Синькина дом, всем классом ведь делали ремонт. Вы всегда были нужны друг другу, приходили и выручали. И сейчас – вместе.
Да, мы и сами не заметили, как выучились старой русской науке – соборности, учительница-то у нас православная. А она, в подтверждение, продолжала:
– Вы жили в православных семьях, и Бог вам всегда помогал. Сейчас идет война, война за Православие, за русскую землю – за нее веками воевали. Мой внук сейчас в Чечне, вот представьте себе, что должна я чувствовать? Это и есть война против нас. Значит, мы должны помогать нашей церкви, нашему Православию, защищать его, не допустить чужих: не нужны они нам.
Вокруг кресла Татьяны Кирилловны, в котором она проводит теперь свои дни, кипит жизнь, вполне совпадающая со скоростью жития престарелой учительницы: и эта окружающая жизнь, и сама Татьяна Кирилловна, внешне неподвижные, одолевают житейское пространство с неизбывной скоростью разума. Эта жизнь – книги. Иногда учительница выбирает из кучи старых историй самую, наверное, древнюю и, словно слепая, проводит пальцами по обложке, по склеенным патиной времени строкам. Что-то вспоминает, о чем-то рассказывает. Я почти не слушаю: какая разница, о чем? Главное – Татьяна Кирилловна возвращает всему свои имена, забытые или кем-то своенравно сведенные в нети… Что смертельно, ибо все в мире наделено именами, чтобы существовать.
Она подарила мне крошечную книгу-брошюру о языке. Я глянула: год издания 1950-й, инвентарный номер 2077, из фондов семилетней школы № 56 Кировского района Сталинграда.
– А я и не знала, что наша школа раньше семилетней была! – воскликнула я и продолжала изучение книги: автор И. В. Сталин, название – «Относительно марксизма в языкознании».
– Грех, конечно, но книгу я в библиотеку школьную не вернула, заменила какой-то другой… Этим я ее сохранила, ты понимаешь, девочка?
Я понимала, что теперь мысли Сталина будут храниться у меня. Наугад пролистываю и на девятой странице впригляд читаю: «Сфера действия языка… почти безгранична…». Думаю: если бы вождь был лингвистом, он обошелся бы без слова «почти». Или нет? Видимо, спрашиваю вслух, ибо слышу:
– А ты про себя разумей, а другие свой ответ дадут Господу.
Вот такая у нее скорость разума, у моей первой учительницы Татьяны Кирилловны.
Сада-огорода у нас, как я уже говорила, не было, зато родители водили кур. Отец привозил малюсеньких инкубаторских цыплят, и жизнь дома сосредотачивалась вокруг пискляво-пухового цыплячьего хоровода в большом картонном ящике на кухне. Цыплятам рядом с печкой было тепло, но я все время боялась, как бы их не съел Лохматый.
Кот часами сидел на подоконнике, наблюдая за пушистыми желтыми комочками, я рядом, за столом, притворялась, что занята домашними уроками. Но бóльшую часть времени ящик с цыплятами был накрыт деревянной крышкой с дырочками, и цыплята спали.
В конце концов они вырастали, выпрыгивали из ящика и смешно вышагивали по кухне длинными тонкими ножками. Значит, скоро в курятник! Кот хмуро позевывал: курятник тоже охранялся, но только не мной, а петухом.
Курятник был теплым, хотя и без печки. Наверное, потому, что стены отец сложил из самодельных толстых глиняных, напополам с соломой, кирпичей, а двери обшил овчиной.
Двор с гуляющими квохчущими курами, мама, подсыпающая в кормушки пшено, – воспоминание, можно сказать, онтологическое, всплывающее из древнего бытия человечества. А сколько радости приносило призывное кудахтанье откуда-нибудь из сарая, из-под крыльца! Мы с братом наперегонки бросались на поиски еще теплых, в пуху и мелких перышках, яиц.
Спать куры ложились рано – даже раньше нас с Витькой. Было еще светло, и мы заглядывали в курятник через маленькие низенькие окошки и видели, как куры сидели на насесте – смирно, рядком, один лишь петух грозно сверкал на нас глазом.
Петух был настоящим повелителем куриного царства и возвещал об этом таким победным криком-кукареканьем, что Лохматый ни к законной, огороженной автомобильными шинами петушиной территории, ни тем более к курятнику, не смел приближаться. Но на крыше сарая полеживал не таясь, и тогда петух, широко взмахивая крыльями, взлетал на штакетник и зорко следил за притворно смирным котом и за лениво копошащимися в земле курами.
Иногда инкубаторские цыплята не выживали, и курятник стоял пустой. А потом и вовсе куры у нас почему-то перевелись, а у меня появился игрушечный домик. Вернее, игрушечная больница.
Пустые пузырьки и картонки из-под лекарств, надтреснутые мензурки, колбы, чашки Петри (о, я тогда уже знала, что это такое!), старые заржавленные щипцы, иголки, пинцеты и зонды – все, что уже не годилось ни отцу, ни матери в их работе, принадлежало мне и моим подружкам.
Я «работала» врачом (а кем же еще, ведь врачами были мои родители!), а девчонки приходили в больницу со своими «больными» детьми-куклами. Гуттаперчевые голыши нуждались, по обыкновению, в компрессах, а ватные деточки – в уколах и операциях. Бедные куклы! Они выцветали, вылинивали, вытлевали от воды, песка и глины: других лекарств я придумать не могла.
А вскоре на смену больнице в куриный катух пришла библиотека. Книг в нашем доме было море! Медицинских, ветеринарных, художественных, и детских, конечно, тоже. Родители долго ведать не ведали, что их спецлитература пользуется жутким успехом у школьной и уличной детворы, робкими стайками струящейся по нашему двору от калитки до курятника.
Уже в нежном, почти младенческом, возрасте мы знали, откуда берутся дети и телята. Сказки почти перестали интересовать – до той поры, пока мама не обнаружила в бывшем курином доме тайную читальню.
Расправа была непривычно тиха: мама смотрела на меня, качая головой, а потом я впервые услышала часто повторяемые в будущем жалостливые слова: «Дурочка моя…».
В нашей слободке только Могилевские считались богатыми. Отец отличницы Тани, полковник, привез из Германии невиданные вещи.
Дивом дивным был длинный, многостворчатый, во всю стену одежный шкаф. Когда девчонки приходили в гости, Таня растворяла блестящие дверцы, и возникали сокровища: цветастое постельное белье, шелковые кружевные комбинации, тяжелые бархатные халаты, туфли на высоких каблуках и главное – сказочной красоты платья. Мать Тани, тетя Тамара, наряды таила, не надевала – может, стыдилась своего богатства перед чужой бедностью?
Еще у Могилевских был патефон с заграничными пластинками. Мы устраивали возле него танцы в этих богатых взрослых одеждах, путаясь в длинных подолах и вихляясь на долгих каблуках. Как же мне нравилось синее бархатное платье! Уж я подвязывала его шнурками от ботинок, уж я заворачивала-затыкала подол за кожаный полковничий ремень! Вида, конечно, никакого и радости – тоже.
– Давай подрубим, – предлагала я Тане, – ну совсем на немножко, никто и не заметит.
Таня ни в какую, даже пускать меня в дом стала бояться. Однажды она зазевалась, я потихоньку взяла портняжьи ножницы и распорола платье с середины до низу по шву: ума, видать, хватило не кромсать дорогой подол поперек ткани. Событие развивалось стремительно: открылась дверь, и вошла мать Тани. Ее взору предстала ужасная картина: на полу комнаты коврами лежат простыни и пододеяльники, нутро шкафа вывернуто наизнанку, на девчонках топорщится и длится шелковье да бархат, и над всем этим богатством занесены огромные ножницы. «Все, конец!» – наверное, подумала хозяйка, прежде чем зайтись в кромешном крике. Я поняла, что пропала: гнева своей матери (а в том, что он воспоследует, не сомневалась) боялась пуще всего на свете. «Если что – сбегу», – решила, заходя в родимую калитку. Мама уже все знала, но от моих жалобных объяснений отмахнулась:
– Хорошо, что хоть мы не в шелках живем! – но все же пригрозила: – Будешь в чужие шкафы заглядывать – выпорю.
Радости моей не было предела, а тут еще вдалеке заиграла-запела дудочка, и на нашей улице показалось чудо – старьевщик!
Летом и зимой в неурочный час являлась среди полыни или снега телега, запряженная одной лошадкой. Старьевщик восседал на узлах тряпья, помахивая кнутом, ноги торчали вперед, по-страшному лохматясь обрезиненными мешками самодельных протезов. Теперь, через время, я вижу, что был старьевщик совсем молодым парнем, а тогда казался пожилым дядькой, но – веселым, с прибаутками-зазывалками и всегдашней бутылкой вина.
– Налетай – не Китай! – кричал он, и мы налетали еще до того, как веселый человек сползал с телеги и раскладывал прямо на земле, на сером рядне, настоящие сокровища: ленты, нитки, кружева, наперстки, иголки, расчески, прищепки, пузырьки с клеем, баночки с гуталином, заколки, ремни, свистульки (о, свистульки-соловьи на воде!) – много всякой всячины, виданной и невиданной. С ближних улиц постепенно сходился народ: редко в какой семье к приезду старьевщика не собирали тряпки, кости и старую бумагу. У подводы начиналась толкучка, а то и мальчишечьи драки затевались – так, понарошку, а самой заветной мечтой каждой девчонки было завладеть кружевами, лентами, иголками… Да всем подряд, что лежало на рядне! Старьевщик, наверное, забылся бы, если бы не серая свистулька-соловей: до сих пор хранится в старых детских игрушках моя первая певчая птичка.
Водились в доме и хорошие вещи. Совсем недавно, ну где-то в семидесятые годы, последняя суповая тарелка разбилась – розово-кремовая, толстенная, из густого стекла. А пивная маленькая кружка – желто-прозрачная, со львом и надписью «Бавария» – до сих пор у меня в буфете стоит, это уже действительно последнее напоминание о военном заграничье родителей… И шелковое белое платье, которое мама сшила мне из легкого заграничного полотна к новогодней елке, помнится, как великая драгоценность. А белые лайковые перчатки? Им в моем детстве долго не находилось применения, пока я не выросла и не вырядилась однажды на майскую демонстрацию: коричневые ботинки, черная сумка, белые перчатки… Засмеяли меня подружки, на том и закончилось модничанье.
Мама рассказала, как они с отцом возвращались с войны. Ехали долго, через разные границы, а везли – всего ничего: солдатский мешок с немецкой посудой да маме отрез на платье. Мешок умостили на полку для багажа. Ночью вагон сильно тряхануло, все вещи сверху попадали на пол, а тяжелый мешок – прямо на спящего на нижней полке майора-попутчика… В этом месте своего рассказа мама приложила ладони к лицу, прошептала:
– Господи, прости!
– Мама, – поторопила я, – что было дальше?
– Дальше-то?.. Мешок упал человеку на ногу, вот что было дальше…
Нога оказалась сломанной, мама замотала ее бинтами, газетами и наволочкой, затянула армейским ремнем. Слава Богу, ехали уже по Союзу, и на какой-то станции за майором вскоре пришли с носилками… Мама плакала и просила прощения, отец молча собирал майорские пожитки, потом впрягся в носилки, не отходил от санитарной машины, пока она не тронулась с места, а вскоре двинулся дальше и поезд…
Майор их простил, даже при расставании пожал отцу руку, а маме подарил фронтовой немецкий карандаш. Наверное, человека одолевала сильная боль, но мама была беременна, и майор оберегал ее святой покой… Так я, еще невидимая, но уже живущая под охраной маминого сердца, приехала из-за границы на родную землю, а вскоре и явилась на белый православный свет в родной Бекетовке.
Понемногу в семью приходил достаток. В пятидесятых годах появились велосипеды: мужские с высокими седлами, дамские безрамные, с цветными спицами, подростковые «Орлики» – заветная мечта юных обитателей слободки. И в один прекрасный день папа вкатил эту мечту во двор – нам с братом одну на двоих.
Витя, всегда правильный и терпеливый, учился ездить на «Орлике» аккуратно и долго, как игре в шахматы, зато сделался потом лучшим шахматистом и велосипедистом улицы. Я же сразу разогналась и поехала-покатила по раздольной полыновой окраине! Хорошо, что был июнь, темнело поздно, и домашние нашли меня быстро, хотя и далеко от дома, на углу парка и шлакоблочных домов. Невеселая предстала взорам матери и тети картина: незнакомый дядька тащит меня на себе, а за собой тянет сразу два велосипеда. При ближайшем рассмотрении оказалось, что колеса вывернуты, лицо у дядьки ободрано, из моей окровавленной голени только что вынута велосипедная спица, я крепко держу ее-не выпускаю и реву от страха.
Дядя Сашко потом приходил ремонтировать наш «Орлик». Они с отцом даже сдружились, к тому же Сашко оказался украинцем. А в тот день, когда стряслась эта велосипедная история, наш новый знакомый остался на ужин, посмеиваясь, рассказывал:
– Ехал потихоньку, и вдруг в меня врезался встречный велосипед! А ведь я еще издали заметил: переднее колесо «восьмерку» так и пишет, туда-сюда, туда-сюда! Я даже в сторону отвернул – не помогло.
А я, слушая дядьку, вновь переживала случившееся: при виде чужого велосипеда у меня затряслись руки и ноги, я в панике закричала на полном велосипедном лету: «Только бы не свернуть, только бы не свернуть!» – и тут же свернула…
Дырка в ноге постепенно заживала и зажила, оставив едва заметную вмятинку на всю жизнь. Залечилась и рана на указательном пальце: я прострочила его на швейной машинке на следующий день после велосипедной аварии. Но прошла и эта боль, и другие болячки, которыми так изобиловало мое детство.
О, детство, скорое, как свет,
Краса на тощем хлебе!
Звезда, я все бегу вослед,
Ты там еще, на небе!
На новогоднюю елку Татьяна Кирилловна впервые назначила меня Снегурочкой, надо было петь и танцевать, водить хоровод – значит, нужен был наряд. Мама принялась за работу, и вскоре я уже примеряла шелковое длинное платье, обшитое бисером, такой же белый, в бусах, кокошник, бисерно-тряпичные туфельки…
– Мама, но это же не Снегурочка! – отчаянию моему не было предела. – Это принцесса!
Мама и глазом не повела, она ведь знала, что костюм переделывать не будет:
– Ну и что? А ты про Снегурочку песенку спой, все сразу и поймут, кто ты.
Я упрямо ответила:
– Нет.
Но делать было нечего, и я, за незнанием песни, стала придумывать стихи, и придумала, и прочла у елки свое самое первое стихотворение:
Я Снегурочка, стою,
Песню первую пою!
С тех пор и пою.
Отец завел тонкую тетрадочку, куда записывал своим ладным почерком все мои сочинялки. Лет в пятнадцать я эту тетрадку тайно уничтожила, твердо решив не заниматься ерундой, то есть стихосложением. Но у Господа Свой замысел о каждой душе.
О, если б знать!
Но знать нам не дано,
И потому под ясными огнями
Мы ждем того, чему не суждено
Иль суждено свершиться вместе с нами.
У самой бекетовской дороги, на краю Лапшинского сада, много лет стоит деревянный одинокий дом. Его романтическая таинственность нежно сохранна в моей наивно-верной младенческой памяти.
– Кто там живет? – спрашивала я отца, когда мы проезжали мимо на городском автобусе.
– Сторож, наверное, – отвечал он. Мама тоже не знала, и никто не знал, и это всеобщее незнание только добавляло дому сказочной притягательности, а моей душе – любопытства и нетерпения исследователя загадочных явлений жизни.
Мир создан для нас, и мы – каждый из нас! – присваиваем себе его видимые образы.
А невидимые? Принимаем на веру? Следим за ними из-под опущенных долу ресниц? Соприкасаемся с ними духом, снами, памятью?..
Прошло полвека, и однажды мокрой зеленой весной я вышла из телевизионной съемочной машины напротив старинного дома и направилась по влажной тропинке к калитке. Мне долго не открывали, хотя крайнее окно светилось неярким, словно бы матовым, огнем. Потом все-таки на крыльцо вышла женщина – на удивление, не старая, а мне так хотелось встречи с допотопной хранительницей невероятно прекрасной тайны дома!
Беседовали тут же, на крыльце, потом прошли в сад, но он был таким запущенным, таким непролазным из-за разросшихся малиновых и смородиновых кустов, что я пожалела свои чулки, и тогда мы и вовсе вышли за калитку, где властвовала сирень.
– Я здесь не хозяйка, – говорила женщина, – комнату снимаю.
– А чей же дом? Давно меня этот вопрос занимает…
– А вы что, фотографировать будете? – вроде даже испугалась собеседница.
– Да нет… Хотя, знаете, если интересная история у дома…
– Хозяева-то давно то ли померли, то ли переехали, их и не помнит уже никто.
– А у кого же вы комнату снимаете?
– У чечен, они этот дом купили. Да вам-то зачем?
Теперь-то уж точно незачем… Надо же, как я опоздала! Получается, что люди пришлые не просто дом купили, а кусочек моего неузнанного прошлого, моей неразгаданной тайны, которую хранил для меня старый русский дом при дороге на самом краю Лапшинского сада. И так больно вдруг сделалось душе, хоть плачь!..
Одну семейную фотографию, ту – старую, с дождинками-градинками-трещинками по полю, с уголком оторванным – я часто вспоминаю. На ней – моя украинская житне-горская родня. И те, кто умер, и те, кто, слава Богу, живы.
Где она, эта фотография? Не ведаю. А в помяннике моём записаны самые близкие – двоюродные и троюродные. Прямых родственников уже не осталось, роднимся с теми, кто подальше. Таких дальних – полсела, а и ближних с три десятка наберется: тетя Люба с дочерьми Таней и Олей, сестра Нина с мужем-инвалидом Леонидом, Наташа с сыном Русланчиком, Валя со Степой и Лариса с Мишей, потом Неонила, еще Валя, Тоня, Надежда, Александр, Петр, Мария, Сергей с Василием, Ольга с Марией, Людмила, Наталия, Анна, Иван, Алла, еще Нина, еще Надежда, даже Лада…
Их-то фотографии у меня есть, а вот стариков, которые на том давнем снимке только и остались, я почти не помню. Да что там: некоторые умерли еще до моего рождения, только имена их и знаю, но тоже с запинкой, нетвердо: деды, бабы, дядья и тети двоюродные и троюродные Екатерина, Иван, Алексей, Павел, Андрей, Василий, Анастасия, Татьяна, Харлампий, Андрей, Николай, Петр, Александр, Ольга, Виталий, Иван, Харитина, Екатерина, Ольга, Андрей и те, кто до них был, и те, кто жил после, почему-то не учтенные родовой памятью.
На ту самую потерявшуюся во времени фотографию, наверное, многие попали. Хранилась она в дедовой соломенно-глиняной хате, висела в горнице. Там в красном углу иконки высились на полке под рушником, про одного святого я знала, что это Угодник Божий Мыкола, так дед говорил. Еще стояла кровать, старая, деревянная, с травяными матрацем и подушками: пахло лугом. Вдоль стен лавки возвышались широкие, некрашеные, а по верху стены, по всем четырем сторонам света, висели фотографии.
Одну, самую старую и большую, я и запомнила. И теперь, оказывается, она стала мне очень нужна, но после смерти бабы с дедом в их хате никто не жил, вещи родня поразбирала, и кто какие унес снимки – неизвестно. Самое странное в том, что эту самую, мной чтимую, фотографию только я и помню. Дивно: живу от села дальше всех, в России, наезжаю – реже не бывает, а помню.
Порой душе стеснительной не справиться со злом,
И боязно, что реже год от году
Пришлет родня крестьянская доверчивый поклон,
Пожалует хорошую погоду.
И рядом тоже добрая и щедрая родня,
Готовая на ласки и советы,
Но отчего так радуют, так трогают меня
Застенчивые дальние приветы?
«В достатке ли бытуешь ты,
И есть ли про запас?
Одним-то днем жить нынче не пристало…
Но ежели ты норовом характерная, в нас,
То в люди и не выбьешься, пожалуй…»
И, может, с тонким умыслом,
А может, и спроста,
По отчеству важнецки величая,
Посетуют по-старому, что нет на мне креста,
Коль радости не слишком привечаю…
Родимые, вся жизнь моя в тенетнике молвы,
Но я судьбы не думаю бояться,
К тому же я, по крайности, такая же, как вы, –
В какие ж еще люди выбиваться?
Давно это написано, для самой моей первой книжки.
Житне-Горы – Ржаные Горы. Имя хранит историю: с давних времен люди селились на берегу речки Рось, сеяли и рожь, и ячмень, и овес, и пшеницу, и даже гречу – все это житом зовется, но во всем главенствует рожь. Замечательное хлебное слово! А происходит оно от делания человеческого, обозначаемого глаголом «жать», так написал в своем толковом словаре Владимир Даль. Но, между прочим, в статье о жите он поставил интересный знак вопроса относительно другого великого глагола – «жить», соединив таким образом и без того неразрывные понятия жизни и хлеба.
Жит – образ жизни, в древности на Руси так и говорили: «Каков жит-побыт, такова и смерть». И в Евангелии ведь написано о том, что праведники воссияют в Царствии вечной жизни, а грешники изойдут в муку вечную.
Вот какие они, мои Житне-Горы. А почему горы? Да потому, что село стоит на семи холмах, может, и не на таких высоко-заметных, как Москва, Рим или Иерусалим, но тоже ведь Богу семисвечник!
И церковь в селе древняя, петровских времен, Покровская, Богородичная. Теперь ее переименовали почему-то, и она стала зваться во имя Иосифа Обручника. Стоит церковь старенькая, держится, не преступает древнего канона, не идет в союз с униатами-западниками. Спаси тебя, Господи, старинушка, со всеми твоими прихожанами, из коих половина – фамилии Бойко, то есть моей, родовой!
Эта фамилия на селе самая частая, можно сказать, главная: полсела действительно Бойко. Древние старушки намекали мне: мол, из запорожских казаков были первые поселяне. Кто теперь знает! И нигде ведь не прочтешь, летописи про Житне-Горы не помнят… А в далеком благодатном детстве село было для меня и брата Вити сказкой.
Когда наступало лето, родители усаживали нас в поезд, и мы, маленькие (и как родители не боялись отпускать одних?), ехали в Киев, а там с помощью добрых людей добирались электричкой сначала до Фастово, а потом рабочим поездом до Мироновки.
Это был поезд удивительный – дом на колесах: пассажиры, крестьяне из окрестных сел, возвращались из Фастово и Киева с узлами да кладями – с городской добычей. Промаявшись день в магазинах да ночь на вокзалах, одни сразу примащивались спать, другие расстилали на лавках рушники, выкладывали нехитрую снедь (еще из дома): хлеб круглый, пироги, вареные яйца, сало. Нас радушно угощали, и мы никогда не отказывались: когда еще доедем до Житне-Гор, когда еще за стол усядемся…
А хорошо в поезде! За окошками – зеленые чащи и цветастые поляны, а когда проезжали вдоль сел, мимо крытых соломой хат, выискивали наперебой, какая из них самая большая да богатая; примечали, где забор крашеный, а где плетень горбится черный с горшками на столбах; в каком дворе куры и гуси хозяйнуют, а в каком хозяйка белье на веревках развешивает. И мимо свадьбы иной раз проезжали, и мимо похорон. Церковенки – те и впрямь из сказки (к слову, на Украине от разора куда больше храмов упаслось, чем в России). На всех станциях пели петухи.
Про украинский поезд я люблю рассказывать до сих пор, ведь это не про поезд вовсе, а про детство. Однажды, когда мы держали путь в Киев всей семьей, в вагон зашли контролеры, они проверяли билеты и потом протыкали их, делая аккуратные круглые дырочки в окружении цифр. Усатый дядька в фирменной фуражке посмотрел на меня:
– Сколько дивчине лет?
– Девять, – ответила мама, и дядька, продырявив наши билеты, отправился было дальше, но его остановил мой возмущенный крик:
– Мама, ты что, забыла, у меня сегодня день рождения!
Да, именно в то утро, 15 июня, мне исполнилось десять лет. Контролер строго глянул на маму, потом на меня, взъерошенную, в закипающих слезах, покачал головой, но все же миролюбиво махнул рукой:
– Ладно, будьте здоровы, – а тетенька, что с ним была, погладила меня по голове:
– Ну, не плачь, у тебя же сегодня праздник! А вы, мамаша, теперь покупайте дочке взрослые билеты.
Мама не знала что и сказать, кроме «спасибо», зато мне потом ох и досталось! Да разве я знала, что билеты бывают детские и взрослые, что детство по правилам железных дорог длится до десяти лет, а после десяти полагается всем гражданам называться взрослыми? И что эта самая взрослость стоит дороже детства – вроде как железнодорожные билеты…
В Боженивке в вагон всегда заходил хлопчик с ведром родниковой воды и большой вязанкой-сеткой с глиняными кринками. Он разливал воду за малые копейки, и люди охотно брали – кринку за кринкой. В ведре плавали березовые и дубовые листья, мама объясняла: «Чтоб вода не расплескивалась и не нагревалась…».
Мы тоже покупали кринку, и надо было выпить всю воду, пока хлопчик в вагоне. Я пила и оглядывалась на людей: все вокруг угощались родниковой водой, старались побыстрее, к следующей остановке, освободить посуду, чтобы маленький трудник успел выйти из вагона.
– А как он назад вернется, откуда приехал? – мне почему-то было очень жалко хлопчика.
– А вон смотри! – и все прильнули к окошку: рядом с дорожной насыпью стояла подвода, и к ней со всех вагонов сбегались ребятишки с пустыми ведрами и кринками. На подводе возвышался большой железный бак – совсем как у нас дома! – и хлопчик постарше – тот, что с подводы, – брал по очереди ведра, наливал в них воду из бака, и дети снова спешили к поезду.
– Вот молодцы! – отец всегда хвалил тех, кто умел что-нибудь делать хорошее. А я успокоилась: домой наш хлопчик вернется обязательно.
Наконец – Мироновка, где нас уже поджидал дедушка Кондрат с подводой, и мы ехали дальше, почти четыре километра, среди полей с зелеными всходами – в Житне-Горы. А когда возвращались той же дорогой домой, на Волгу, видели по сторонам уже созревшие золотые колосья, а то и жнивье.
Иногда дед по дороге подсаживал какую-нибудь, всю в узлах и тюках, бабу, и начинались рассказы-пересказы, и жалобы слезные на жизнь «не как у людей», доходило и до ругани на самого «чоловика»…
– Цыц! – словно сплевывал дед в пространство, и баба умолкала и уже мирно поглядывала на нас, и по головкам поглаживала, и пряниками одаривала. Это деду тоже не нравилось, но – молчал, не одергивал, не спугивал моего предчувствия будущих стихов.
Шлях накатан – долог путь.
Села баба отдохнуть
При дороге, под кусток,
Развязала узелок:
«Дай-ка малость посижу,
На гостинцы погляжу.
Малолетке-дочке – бант,
Парню – с дудкой барабан,
Деду – новые очки,
А свекрухе – рушнички.
Самому-то, вишь, на славу
Прикупила я отравы –
Золотистый мундштучок,
Заграничный табачок.
А себе-то ничего…
Ну и что же из того?
С парнем в дудку погужу,
Доче бантик повяжу,
Посмеюсь со стариком,
Оботруся рушником,
Погоняю мужика:
Не кури, мол, табака!
Шумно станется в избе,
Вот и спраздную себе».
Мама иной раз, посмеиваясь, говорила:
– Иди покрути деду усы!
Это я делала с удовольствием: забиралась к старику на колени и с озорной опаской дергала кончики его длинных висячих усов, а он только жмурился, терпел.
Дед Кондрат вообще был молчуном. Даже когда приходили гости, он тихо сидел на лавке, пока не позовут к столу. Отец сколько раз просил:
– Батько, поговори с детьми, поучи уму-разуму!
– Нехай сами будут, – был ответ.
И мы были «сами».
Мне иногда говорят: «И что бы с тобой, поэтесса, было, если бы не 17-й год! Гусей пасла бы в деревне…».
А я и вправду пасла. Тетя Настуня заворачивала нам с братом в чистый рушник по куску житного хлеба с салом, укладывала в торбу бутылку с водой, и мы отправлялись – гуси впереди, мы, с опаской, позади, за село, на зеленую гусиную траву у речки: куда гуси, туда и мы. Такое одно только место над Росью было – высокое, где местами в речке и песок виднелся на дне, не один только ил чернущий.
Рось по-особенному текла – по кругу, что ли. Все хаты, к какой ни подойди, подворьем да огородами лежали непременно на берегу. А повдоль кругового берега шла одна на все село вековечная тропа: по ней соседи друг к другу ходили, так побыстрее было. Про тропу только казалось, что она среди травы бежит: под ногами иной раз словно кисели колыхались и вслед чмокали, а следы тут же мокретью наполнялись. А бывало, иная резвая травка исподволь полоснет по стопе, кровь пустит.
– Ничего, – смеялись дома, – породнилась с землей-то…
Тропа эта с вешками была – с криницами: село их привечало издавна, все – при тропке. Из криницы ближней и я иной раз шелковой воды набирала – мыть голову – без особой в том нужды: перед дядькиным домом был вырыт колодец на три ближних двора, и вода в нем была не хуже криничной. До сих пор, наверное, лежит на дне упущенное мной ведерко – и как такое могло случиться?
За целый день, пока мы на речке с гусями на солнцепеке парились-загорали, сало растапливалось, как на сковородке, и этот его талый вкус люб мне до сих пор, как и картошка, жаренная с луком на сале да вдобавок на керогазе: летом ведь печи не топили, готовили во дворе.
День-деньской бегали мы босиком, и ко времени отъезда домой пятки делались, как деревянные, зато потом мы долго не болели, до весны. Ну, а весной из квасцов, конечно, не вылезали.
Я очень любила двоюродную сестру Ларису, добрую, веселую толстушку, целыми днями готовую возиться с нами, несмышленышами. Она звала нас по-чудному: Танюхастая и Витюхастый, и мы, бывало, за ней вслед ходили целыми днями, как привязанные. Другая сто раз бы прогнала, а Лариса только смеялась, пела и что-нибудь рассказывала – между делом, а дел в деревне всегда много.
У Ларисы я научилась украинским песням, она хвалилась:
– Лучше наших песен нету!
И вправду – нету. Может быть, оттого, что они убаюкивали меня в летней колыбели детства?
В укромной девичьей Лариса хранила пластинки с удивительными песнями, которые я очень быстро наловчилась извлекать из черно-блестящих дисков с помощью старого патефона. Слова украинской мовы восходили из глубин музыки – и становились моими. С тех пор знаю: все на свете оправлено в музыку, вставлено в ее никем не измеренное еще пространство. Даже если музыка не слышна в нашей житейской простоте-суете.
Одну пластинку с названием «Сонце низэнько» Лариса мне подарила, и я увезла ее домой в Сталинград – отцу. Ведь он пел эту песню в нехитрых празднично-семейных застольях, а моя душа сызмала потихоньку привыкала к звучанию великой мелодии. Теперь думаю: нет, не мелодии, а родимой древнеславянской святости.
Пластинка не сохранилась, зато берегу до сей поры множество других – старых, хрупких, вращающихся на огромной скорости в 78 оборотов. Спасибо родителям за Лемешева и Карузо, Глинку и Аренского, Хачатуряна и Листа, Русланову и Трошина… А Паганини? А Изабелла Юрьева? А «Брызги шампанского»? Если бы не отец с матерью, какую музыку мы с братом могли бы услышать на простоватых городских окраинах?
Была я уже бóльшенькая, но для своих пятнадцати лет весьма невежественная. А музыка, казалось, вела в сверкающий рай взрослой жизни, где дарили цветы и целовали руки… Пластинки были спасением.
Я любила их крутить, когда дома – никого. Особенно – если мыла полы или шила, либо на кухне возилась. Не до уроков было, конечно: музыка! Радиола звучала во всю мощь, я орала во все горло, стараясь пересилить голоса певцов…
Мама приходила с работы и первым делом шла к радиоле, прикладывала ладонь к лаковой поверхности музыкального ящика: теплая!
– Опять включала?
– Мама, ненадолго, честное слово! А полы я уже помыла…
Слушать пластинки запрещалось. Во-первых, из-за домашних уроков. Ну, а во-вторых, в доме соблюдался непререкаемый режим экономии света.
Я до сих пор так и говорю: свет, а не электричество. Мы долгие годы даже не пользовались электрическим утюгом, гладили старым, чугунным, принесенным с бекетовского базара в нищие послевоенные времена.
Этот утюг перешел мне от родителей по наследству. Поначалу я его держала в своей украшенной деревянными поделками кухне на видном месте – на резном хлебном коробе. Но утюг все время мешал: чтобы поднять крышку, надо было снять с нее чугунное диво, потом возвратить на место, и так сто раз на дню. И я отправила древность на антресоли: и не в тягость, и целее будет.
А нынче, кажется, родительский утюжок может снова очень пригодиться, ведь теперь бедняцкая экономия стала вроде государственным делом. Я уже и лампочки поменяла на энергосберегающие, и воды меньше лью – не вволю, как бывало.
Дождется, наверное, и утюг своего возвращения в житейский обиход, а где-то и гладильные доски-каталки, с Украины отцом привезенные, хранятся – не в сарае ли во дворе родительского дома? Надо бы при случае разобрать сваленное туда старье: полочки и шкафчики, столы и тумбочки, этажерки и подставки для цветов, тазы и кастрюли. Даже патефон с радиолой – и те не потрухлявели за годы. А все потому, что никогда лишних вещей не бывало в нашем доме, и мы их берегли – пылинки сдували да кружевами и вышивками охорашивали.
Пишу и удивляюсь: до чего ладно эти «музыкальные» воспоминания связаны с украинским селом, с его песнями и трудами, зимами и летами! Впрочем, с радостью повторюсь: в музыку оправлена вся наша родимо-единая жизнь – и сталинградская, и украинская.
На сенокос выходили все: и дед, и дядька с тетей, и сестры с мужьями. Я всегда опаздывала к началу, да меня и не очень-то и будили, жалели городскую соню и неумею. Появлялись мы с братом на лугу вместе с высоким солнышком: выкошенные травы уже ровными рядами лежали посреди праздной земли, уходили вперед ворошистыми дорожками, а там, в самом то ли конце их, то ли в начале и далеко впереди всех шел дедушка Кондрат в своем соломенном брыле, и коса его посверкивала-поблескивала ярче и шибче других.
Небо скатилось на плечи.
Ввысь устремилась земля,
Ринулось сено навстречу,
Вздрагивая и пыля
Солоно, горько и сладко.
Колко и высоко,
– Дедовская загадка!
Вон он, идет широко
В белой просторной рубахе,
В желтом огромном брыле.
Косит, а руки – во взмахе
Самом большом на селе…
Я любила валяться на скошенной траве, пока ее не убрали с луга. Сладко было лежать на душистом сене, следить за разноцветными букашками и паучками, копошащимися среди увядающих стеблей и травинок, и пускать в полет с ладони божью коровку:
Божия коровка,
Улети на небо,
Там твои детки,
Принеси им хлеба!
А когда сено собирали в стога, мы с братом выкапывали в них нарочные схроны: ни дождь, ни солнце нипочем! Отучил от забавы дед:
– В сене змеи по ночам греются, глядите, покусают…
Самыми счастливыми были поездки в Житне-Горы с родителями: все село собиралось у деда во дворе побыть с дальними гостями. Сносили из соседских хат столы, накрывали домотканым рядном доски, приспособленные под скамейки, и каждая хозяйка спешила со своим угощением: гуляли-то всем селом до самой ночи. Ели да пили, да всласть говорили, а еще и пели – до неба взлетали, и плясали – земле кланялись.
У нас же с соседской детворой свое гулянье – к сельскому клубу, подглядывать за парочками, как они после танцев милуются в темных закоулках. И самим-то страшно было выскакивать из-за деревьев и колодезных срубов с криком: «Жених и невеста, тили-тили тесто!». И что за «тили-тили»? Один жених палкой так вслед свистнул – я чуть без головы не осталась, только ветер пронесся над ухом.
Дед Кондрат и баба Настя были совсем старые, в колхозе не работали, но в своем хозяйстве еще колготились. Под стать им все в семье работящими были, особенно старшая сноха, жена дядьки Андрея – Настуня. Они уже отдельным домом жили – на другом краю, в новом селе.
Пока по сквозной дороге от дедовой хаты до их дома под красной черепицей дойдешь – встретишь тех, кого и не хочешь. Иной раз бабка Харитина с клюкой попадется навстречу, так от нее сразу не уйти: пока не перескажешь уже сто раз сказанное, не отпустит с Богом. Или Антипка-перекатный пристанет: подай, мол, копеечку, на хлеб… В те годы такое в диковинку было, не то, что сейчас.
По сельской дороге ходить босиком – любо-дорого: по щиколотки в пыли, ведь пыль лежит на всем пути глубоким пухово-шелковым рядном. По сторонам – хаты с соломенными чубами, да плетни с усами-вьюнами, с горшками-брылями, да сады-палисады, да лавочки-скамейки, да мосточки-крылечки… Говорю же, пока дойдешь – утомишься смотреть!
А вот и тетя Настуня в белом, как всегда, платочке, заметная издали, словно белая бабочка, летает то в погреб, то в хлев, то в летнюю кухню, то по огороду. В дом редко заглядывает, да и что там, в доме, когда дня не хватает, чтобы все дела переделать на подворье. Еще и в колхоз ходит на грядки или на ток, а когда и в коровники – чистить. Про Настуню отец мой говорит: «Добрая хозяйка, у нее тесто и на воротах висит». Хорошая, мол, работница, все сразу делать успевает: и коров на выпас выгнать, и хлеб затеять.
Хлеб действительно пекла тетка замечательный, больше такого – ржаного, с блестящей корочкой, посыпанной укропным семенем, – я не едала никогда. И хоть брали буханки пшеничные и житные и в колхозном магазине, едоков-то много было, Настунины житники все другие хлебы перебивали.
Она стала учить меня доить корову, но корова дала маху – по ведру копытом, хорошо хоть меня не задела, тем моя первая и единственная дойка закончилась.
Я летом вновь сюда вернулась.
Опять вхожу… полутемно…
Корова косо оглянулась,
Вся – недоверие одно.
Эх вы, беспамятные руки!
Ведро – вверх дном, я – за порог…
И даже заспанные мухи
От смеха бьются в потолок…
На помощь, тетушка Настуня!
Она передник отряхнет,
Легко присядет – и наступит
Ее пора, ее черед.
Потом ведро ко мне наклонит –
Я пенным захлебнусь глотком…
Мозолинки ее ладоней
Парным пропахли молоком.
Коровы – пузатые, громко вздыхающие, с цветами на рогах в праздник Троицы – не виляли хвостами и не повизгивали, как собаки, но длинно мычали и так умели смотреть! Медлительно жевали траву и взирали на меня своими огромными зеркально-темными, вековечно-печальными глазами. Разве могли эти кроткие существа обидеть? А что по ведру однажды Рыжка копытом ударила – так это я сама была виновата, неумея…
С домашними коровами я чувствовала себя спокойно и уютно, особенно если рядом была тетя Настуня. А сын Андрей, боявшийся в детстве даже кошек, в хлев заходить страшился и за коровами наблюдал из-за плетня, когда стадо возвращалось с пастбища. Зато первая кружка парного молока всегда доставалась ему, маленькому. Я рада, что и его детство связано с Житне-Горами.
Под звуки околицы старой
Явились из рыжей пыли
Коровы могучие чары,
Дитя в изумленье ввели.
О красное чудо – корова,
Отрада земных очагов!
Главу ей венчает корона
Воздвигнутых к солнцу рогов.
Как тяжко корове издревле,
С далеких потемок земных,
Копытом утаптывать земли
В заботах великих своих!
Никто, как она, не умеет
Глядеть с поволокой на свет,
А рядом во млечности зреет
Дитя мое радостных лет.
– Всегда будь здорова, корова! –
Дитя повторило за мной,
Под сенью коровьего крова
Глоток отпивая парной.
Хата дяди Андрея стояла на взгорке, а речка лежала под огородами далеко внизу. Ох, и любила я пробежаться по тропке среди картошки и кукурузы, сама с собой наперегонки! И сразу с мостков – в воду: некогда к речке долго присматриваться, к ее острым живым корешкам на дне да к черным пиявкам. А уж потом как хорошо нежиться на бережковой траве, загорать – по любимой городской привычке! Тетя надо мной ахала, над моей загорелой худобой, в деревне ведь никто не парился на солнце специально. Бабы закутывались в платки и вечерами белели ликами за столом, рядом темнели крутого загара мужские лица. Красиво было на всех смотреть, слушать, запоминать…
Как-то поехали все вместе на дядькиной подводе далеко за село, где речное дно было песчаным. Взрослые расположились на траве, повыше, на лошадиной попоне, стали отдыхать, то есть угощаться чем Бог послал (а послал сало, да картошку, да яйца, да лук, да хлеб, да горилку) и разговоры разговаривать. Мы же с братом безраздельно завладели речкой – до гусиной кожи и солнечного озноба. Потом, укутанные в рядно, сидели рядом со взрослыми, ели и слушали.
Тетя Настуня так и не разделась, в воде только ноги помыла, и ничуть ей жарко не было, а нам сказала:
– Я такая худая, что смотреть невозможно!
Вечером я маму спросила, почему тетя «такая худая».
– Прибаливает, – был ответ, – да и дядька погуливает…
Что такое «погуливает», было неясно, но мама больше не захотела об этом разговаривать, и мне ничего не оставалось, как пойти спать. Мама тоже удалилась в спальню, дядька с отцом ушли в летнюю хату, а мы с братом ночевали опять в большой комнате, под толстым печкиным боком. Я не сразу уснула, и мне было долго слышно и видно, как в горнице молилась тетя Настуня: на коленях перед иконами, в белой рубашке.
Когда иной раз рядышком скажут про то, что в огороде бузина, а в Киеве дядька, я сразу Андрея Кондратьевича представляю, своего дядю: он хоть и не из самого Киева, но – из неподалеку… Дядька Андрей был колхозным бригадиром, ни свет ни заря – при делах, но обедать приезжал обязательно домой, заодно и коней покормить, тут уж я старалась: самые вкусные пучки «зеленки» лошадям скармливала. Лошадей я не боялась, они были спокойными и до того привычными (ведь в каждом дворе подвода была, лошадь, а то и две), что не раз я с дядькиным кнутом сидела в телеге впереди и погоняла, а дядька только поглядывал да покуривал.
В леске за селом, рядом с полем подсолнухов, он держал пчел, я пчелиного царства опасалась и лишь издали, с подводы, наблюдала, как он в куколе-сетке ходит по пасеке, открывает один за другим ульи, вынимает рамки с сотами, смотрит: нет ли какого урону, не запечатали ли пчелы соты, не пора ли качать мед?
«Колышки-подсолнушки, маленькие солнышки, дайте пчелкам света, остальным приветы», – бормотала я глупые стишки собственного сочинения. В числе этих остальных, с пчелиным приветом, числила себя, знала: начнут качать мед, самую первую кружку нальют мне. Я, конечно, снова ее не осилю и отнесу тете Настуне, а у той уже и так блины наготове – медоточивые!
На своем поле сеяли рожь и овес – немного (в основном зерно брали в колхозе за трудодни), а обмолот устраивали прямо во дворе. Чисто выметали землю – до соринки-до пылинки, и гумно готово, молотили ручными цепами: эх да ах, ах да эх. И я один раз попробовала: взяла цеп, покрутила-повертела за длинную ручку, на которую било деревянное ремнем кожаным приделано, даже ударила разочек оземь.
– Брось, не игрушка, – и дядька отнял диковину, – иди лучше провеивай.
С деревянной лопатой-веялкой управляться легче: подкидывай да подбрасывай обмолот, чтоб отлетали вон, в хвостец, плевелы да мякина, а зерно ложилось высоким золоченым ворохом – хоть сейчас на мукý да в печь!
Мне иногда казалось, что во время молотьбы в дядькином дворе был еще кто-то, какая-то женщина: в расшитом цветами платье, в венке с лентами, она склонялась над золотым зерном, пересыпала его с ладони на ладонь, и от ее улыбки по сквозящей в воздухе хлебной пыли струились золотые лучи и летали птички… Сказала об этом деду, спросила, что это?
Он снял свой брыль, а голова белая-белая!
– Гляди, – сказал, – раньше я, как это зерно, был наливным да крепким, а теперь снегом оброс. Теперь твоя очередь теплом наливаться, вот душа твоя и радуется, и тебе свою радость показывает.
– Это ведь не я, а тетя какая-то!
– Земля это, диту, земля…
Осенью в школе писали сочинение про летние каникулы, я уже в третьем классе училась. Мама принесла книжку пословиц и поговорок:
– Про село, про дорогу, про поле, про хлеб, про земледельцев – здесь все есть, используй!
Так у меня появилось привычка записывать в толстую зеленую тетрадь всякие умные мысли и выражения. Тетрадь жива до сих пор, есть там и про рожь с овсом, и про молотьбу: «Рожь говорит: сей меня в золу, да впору; овес говорит: топчи меня в грязь, так буду князь!», «Покуда цеп в руках, потуда и хлеб в зубах». И то правда.
Накануне Троицы в дедовой хате мазали полы. Сестры Валя и Нила наводили ведро жидкой желтой глины, а дед с дядькой вытаскивали во двор лавки, столы, пузатый комод да единственную – из горницы – кровать с сенным ее убранством. В селе редко у кого остались от старых годов глиняные полы, многие поделали деревянные, но дед не хотел, говорил, мол, печь огонь уронит – дерево его до неба подымет, а глина есть глина, все в себя возьмет.
Полы получались на загляденье: ровные, светлые, с вишневыми ободками вместо плинтусов. Потом доходила очередь и до завалинки – ту еще и цветами по глине расписывали! Двери и окошки в хате отворяли настежь и уходили ночевать по соседям кто куда, кроме деда: тот оставался на конюшне, с лошадьми.
Ну, а наутро начиналось самое замечательное: в хату вносили мешки с травой и устилали полы, да не жиденькими слоями, а богато набрасывали, густо притаптывали, и как же босым ногам хорошо было ходить по хате, по свежей упругости Троицыных трав! Сверху насыпали мелких цветов. Образа украшали акацией, мне было жалко, что она быстро завядает, и я просила ставить ее в воду, но не разрешали: завянет – еще наломаем.
Я ночевала у тети Настуни, вечером мы мыли с ней полы – деревянные, крашеные, дядька сам их стелил, он и крышу сам покрывал черепицей. И здесь, как и у деда, весь дом травой устилали, и в летней кухне тоже зеленела трава и на полу, и на лавках, а на ветки сливы у крыльца мы навязывали разноцветные ленточки – просто так, для красоты.
Кто-нибудь приносил из церкви букетики освященной травы – тетя проходила с ними по дому, обмахивала, крестясь, травяные настилы на лавках, на шкафах, на полу. А потом праздничный день разгорался с беготней то в кухню, то в ледник, то в коровник, то за водой. Я же – вниз, на речку под огородами, к мосткам с осокой по бережку, которая неведомо почему пахла душистым мылом. Конечно, это не мыло вовсе, а порывистое дыхание летнего дня, когда в едином веянии трав, цветов и деревьев благоухала радость – навстречу Святой Троице.
Приходили гости, садились за стол, у баб да дивчин в руках цветочки, мужики да хлопцы в вышитых рубахах – и праздновали. Дядя с тетей гостей привечали по-христиански: вдруг кто из них – Ангел? Кринку с молоком обязательно посреди стола ставили не простую, а цветным венком обвитую. Никто из нее не пил: кринка – для Небесных гостей.
Настуня и Андрей были совсем разные: она худая, голубоглазая, с длинной русой косой, ласково-молчаливая, а он, словно цыган, черный, с ярко-темными очами, шумливый, раскатистый, весь – как на рыся́х. Только в одном и были они схожи, уж и не знаю, как назвать, каким словом определить эту схожесть, ну да вот: и у тети Настуни, и у дяди Андрея сердце находилось не слева, как у всех людей, а – справа, рядышком с крестной рукой. Когда венчались, о том чуде не знали-не ведали… В их доме в горнице с образами висел рушник с вышитыми словами, и каждое слово не из букв, а из цветов: «Бог есть любовь».
Тетя Настуня видела цветные сны. Если мы просили, пересказывала их не то чтобы неохотно, но – осторожно, вроде и не о себе вовсе. Мне запомнился сад из сна. В саду собирали яблоки, их было очень много, повествовала тетя, люди набирали яблоки в сумки, яблоки очень красивые, ярко-красные. Кто-то их до хат своих доносил, а кто-то терял по дороге. Настуня донесла.
Совсем недавно я прочла в книге Григория Нисского «Изъяснения Песни Песней Соломона» о том, что яблоком именуется Господь наш Иисус Христос. Как яблоня по природе своей стремится в высоту, так добродетель всходит вверх и обращает взор к небу. Красотою, миром, услаждением, пищею, прохладою, покойным седалищем, подпирающим столпом – всем этим яблоко украшает нашу жизнь. Воистину, Настуня была исполнена веры…
В другом сне тетя оказалась в темном мире, в неясном пространстве, где вокруг двигались невидимо-бесшумные тени. Только она подумала: «Где это я?», как сразу услышала: «Ты здесь не нужна», – и проснулась. В то время она сильно болела, выздоравливала трудно и медленно. Но, наверное, болезнь ушла, потому что через время сон повторился, но тетя была уже в другом месте, и таком светлом, что было больно смотреть, она и сказала: «Больно», – а разве во сне можно боль чувствовать? Настуне так хорошо было в этой светлыни, что она пошла вперед, по тропке между ажурных деревьев, тоже из света, но ей сказали: «Еще рано, возвращайся», – и она вернулась, а ведь как хотелось остаться в том сне! Говорила, что побывала в раю.
Мы с отцом часто ходили по гостям – к родне и знакомым, его ведь знали все. До войны батя был колхозным конюхом и играл на скрипке, поэтому повспоминать хозяевам и гостю было о чем. О войнах – обязательно. Не только он, но и другие воевали в финскую, потом в западно-украинских лесах, прошли Великую Отечественную… Два брата отца не вернулись – Иван и Павел, я по фотографии их только и помню, да ведь теперь нет ее, этой фотографии.
…Идут по шляху, не пыля,
Как память иль туман,
Не ямят житные поля
Павлó и Иоанн.
За дольний дол, за крайний край
Течет родная рать,
А как ее встречает рай –
С земли не увидать.
Для смертных веси вышних сил
Безвидны и пусты,
Зато в овершиях могил
Печалятся кресты.
Но средь каких подрайских жит,
Надеясь на талан,
Павло невидимо лежит,
И рядом – Иоанн?
Да на Руси же на родной!
Быть может, у ветлы,
Куда приносит ветр ржаной
Пуха половы пострадной?
Здесь, поминаемые мной.
Лежат мои хохлы.
Уж сколько лет наследный крик
Печет мои уста:
Не вечный огнь – бессмертный хрип:
«За Родину!
За Ста…»…
Ох, и любил отец лошадей! Когда, в редкие годы, бывал в Житне-Горах, конюшни были на нем: сначала дедова, а потом, как старики ушли, дядькиных лошадей обихаживал. Говорил, что лошадь – самое умное животное. После таких вот гостеваний житне-горских и сочинились у меня стихи об отце – и о войне:
Ночами беспросветными,
тая в себе тоску,
приходят сны бессмертные
к усталому отцу:
непраздничные площади,
и сталинградский зной,
и лошади, и лошади,
задетые войной…
и, посерев от жалости,
рвет кто-нибудь затвор –
помочь хоть страшной малостью:
в упор, в упор, в упор!..
Сколько слез я пролила над своими воспоминаниями! И о маме, и об отце, и о всей родне – и украинской, и сталинградской – нарыдалась. Может, слезы эти не на прощанье, а на прощенье? Ведь и не замечала я, как, наверное, обижала родных и невниманием, и беспамятством, и словом бездумным, и всяко-разным своим молодым невежеством-неведением, как страдали они от моего бабьего неустройства, как переживали за сыночка моего в пору его возрастания… Хочу, чтобы все мы были живы! Господи, Ты все можешь, молю Тебя, сделай так, чтобы весь мой род православный собрался когда-нибудь воедино на чистых райских пажитях – в Небесных Житне-Горах!
В субботу и воскресенье в сельский клуб привозили кино, теперь уж и не помню, что за фильмы ходили мы смотреть, кроме одного – «Свадьбы с приданым». Все вокруг и около грызли подсолнечные и тыквенные семечки, сплевывая кожуру прямо на пол: любимое деревенское занятие. Мы с братом с этой привычкой освоились не сразу, но соблазн был велик, ведь семечками торговали прямо у клуба. После сеанса, когда в зале переставал стрекотать кинопроектор и все не спеша тянулись на вечернюю свежую волю, любопытным взорам представали валы семечковой шелухи на полах – строго по рядам.
Да, и шелуху помню, и фильм «Свадьба с приданым». О, как же это кино было всеми любимо – и старыми, и малыми! Мальчишки освистывали влюбленных героев, женщины растроганно вздыхали, а у меня замирало сердце, как только начинали артисты петь: «На крылечке твоем каждый вечер вдвоем…». Про куплеты Курочкина и говорить нечего: то был восторг! Я училась петь по этим песням, и слава Богу: ведь лучше Алексея Фатьянова песни писал, может быть, один только Михаил Исаковский, и то были даже не песни, то были первые мои уроки поэзии.
Последний раз я была в клубе в год своего 18-летия. Мы приехали в Житне-Горы втроем: брат Виктор, моя школьная подружка Нина Резникова и я. В первый же вечер отправились в клуб на танцы под радиолу. Много увидела я старых знакомых, но все какие-то иные: будто не с Лариской мы ходили на речку, не с Иваном лазали в чужой сад за сливами. Ну, а Виталик, с которым дразнили влюбленных дивчин и пáрубков? Он чинно курил на крыльце, время от времени поглядывая через окошко веранды на кого-то – не на меня. Да и сама я давно другая в своем городском шелковом платье, в туфлях на гвоздиках, под ручку с Ниной сходящая с клубного крылечка и удаляющаяся в светлячковую темноту ночи…
Я просыпаюсь.
Пять часов.
Погода.
К окну прилипла смелая пчела,
Прозрачна и порывиста природа,
Как два пчелиных радужных крыла.
И так легко, такой забытой негой
Повеял сад!
Неужто не вчера
Среди его детенышей-побегов
Я бегала, как равная сестра?
Неужто, перемазанная соком,
Не пробиралась с кринкой киселя
Туда, где вдоль завалинки высокой
Лохматой мятой выстлана земля?
Какой была я толстой и красивой!
И, чтобы горожанке угодить,
За пазухой согревшиеся сливы
Соседкин сын мне пробовал дарить…
Теперь он стал степенным, но усыпан
Веснушками по-детски, как укроп.
Вчера его вишневый мотоцикл
Пофыркивал у дедовых ворот.
Мы мало говорили, мы стесненно
Перебирали память, как траву,
И понимали тихо-потрясенно:
Все было сном, забытым наяву…
Итак,
в деревне
в середине лета
Я выхожу на свежее крыльцо…
Я плачу, что ли?
Это тьма рассвета
Нахлынула на память и лицо.
Церковь стоит в самом центре села – белая, деревянная, невысокая, с простым крестом. Теперь, во взрослом времени, я знаю, что построена церковь была при Петре I, но ни одного дня не зажигали в ней электрического света, только свечи. Никогда церковь не горела и не закрывалась. Бог миловал, а Пресвятая Богородица охраняла Покровом.
Я в детстве не понимала, что это значит – Покров Божией Матери, но над всеми женщинами, которые выходили с детьми на руках после службы из церкви, словно веяли в воздухе кружевно-прозрачные платки. Потом я выросла, и кружева исчезли. Может быть, мне надо когда-нибудь посмотреть над собой?.. Ужо отважусь и посмотрю, придет время.
Первое детское воспоминание о церкви: яркая солнечная золотинка пропархивает по золоченому куполу и – улетает… Зайти в храм мы боялись, сами не зная почему. Может, оттого, что издалека через церковную ограду виднелись чьи-то могилки? Тетя Настуня рассказывала о монашенках, мол, черницы эти жили в таращанских лесах, потом пошли по миру за христовым куском и однажды появились в Житне-Горах, да так тут и остались, при церкви. Могилки, скорее всего, их, а деревянные кресты до того ветхие, что, кажется, сквозь них просвечивает ветер. Позже я узнала, что те монахини были схимницами – без роду, без величания – Божиими.
Архимандрит житне-горский отец Гермоген в своих письмах благословляет меня и моих домашних своим отеческим благословением, и я чувствую, как по-родственному помнит обо мне Украина, хранит православным крестом.
А недавно она мне и явный свой привет прислала с иереем Алексием Гладких из Донецкой области. Я встретила батюшку, совсем еще молодого, недалеко от студии телевидения: она ведь рядом с Мамаевым курганом находится. Я спешила на монтаж своей программы «Свеча», а священник шел мимо. Он сам и остановил меня вопросом:
– Как легче в город добраться – и чтобы в банк попасть, поменять гривны на рубли?
Я подробно все ему объяснила и в свою очередь поинтересовалась:
– Какими судьбами в Волгограде?
Оказалось, приехал к однокашнику-другу – встретить праздник Победы в России.
– Как сейчас на Украине?
– С Божией помощью живем, хотя униаты теснят… Плохо без России, но да Бог милостив, управит.
Я поцеловала его руку, и священник, благословив меня, пошел через курган – вниз, мимо Братской могилы и храма Всех Святых, мимо Родины-Матери, по лестнице к Волге. Вон оно как, думала я, Украина рядом настолько, что можно к ее руке прикоснуться… Но почему именно он встретился мне, незнакомый украинский батюшка? Видно, ждут меня родные. Так бывает: какое-то слово, явление, размышление – и возникает образ будущего события. Но когда она еще состоится, новая встреча с Украиной? Помоги, Господи.
А тут и от Вали Редзюк из Житне-Гор письмо пришло с сообщением о смерти ее свекрови: «Ей было 93 года, так что в свой помянник добавь рабу Божию Анну… Передают тебе привет все родные…».
Помню, люблю, поминаю, а как же иначе?
Раным-рано по воскресеньям дядя Андрей запрягал лошадей, и мы отправлялись в районный центр Ракитно – на ярмарку. Ехать было не далеко-не близко: шесть верст, но из-за грунтовой, в рытвинах, дороги, на которой знатно оббивались тележные колеса и наши бока, путь казался долгим, однако и ему приходил конец, и наступала пора ярмарки.
На каких только базарах я потом не бывала: в Ашхабаде и Алма-Ате, Андижане и Ташкенте, Стамбуле и Аммане, Порт-Саиде и Каире, Иерусалиме и Кабуле, а еще в Киеве, Риме, Мадриде, Праге!.. Всюду богато живут люди, услаждаясь дарами Господними, но лишь ракитнянская ярмарка, впервые увиденная мной, соотносится в памяти и воображении с настоящим базаром. Словно скатала я в детстве эту яркую картинку в солнечный свиток и запрятала в потаенный коробочек, а как только открываю, свиток сам собою разворачивается, и возникают на нем красные петухи и зеленые кавуны, подводы с яблоками, картошкой, помидорами, луком. На других телегах высятся просторные гомонящие клети с курами, утками, гусями и индюками, а в ящиках поменьше пищат крохотные утята и цыплята.
Высоко трепещут на утреннем ветерке платки, кружева, ленты, юбки, платья, вышитые рубахи и, конечно, рушники. Чуть дальше гончары крутят свои волшебные круги, на виду у всех извлекая из мирового глиняного пространства ладные горшки и кринки. Тут же бабы пекут блины и жарят шпикачки, а рядом ревут быки, мычат коровы, блеют козы и овцы, и маленькие цыганята тянут проворные свои ручонки к чему-нибудь, что недалеко лежит.
Дядька исчезает в поисках дегтя, масла, цемента, и мы ждем его, намертво вцепившись в тележные борта: а вдруг цыгане угонят нас вместе с лошадьми? Дядька возвращается и снова уходит, и после каждой его базарной ходки в телеге прибавляется и прибавляется всякого добра. Под конец он появляется с какой-нибудь живностью, и мы радуемся: домой!
– Дядь Андрей, зачем ты петуха взял, у нас же есть?
– Ну так что – есть… Совсем стал лядащий, кур топтать не хочет.
– А куда ж теперь его?
– Как – куда? В борщ.
Украинский борщ непременно с петухом варится или курицей, это я уже знала, но лядащего было жалко.
Я иду ракитнянским базаром
Вдоль размашистых свежих рядов,
Пробираюсь к бидонам пузатым
Хлебных квасов и первых медов.
Узнаете меня, тетки-бабки?
Целый год не казала я глаз,
Но по правильной самой догадке
Подоспела сегодня как раз.
Потому что сегодня на диво
Нарумянены лица плодов,
И глядят они так горделиво,
Что умолкнет любой празднослов!
Я, однако, с хитрющей Авдотьей
Перекинусь хитрющим словцом,
Чтоб смекнула: я вовсе не против
Угоститься ее огурцом,
И малиной ее угоститься,
Да припрятать еще про запас,
Чтобы в дом мой знакомая птица
Гостевать прилетала не раз.
Чтоб друзья приходили отведать,
Толковать за радушным столом
И в неспешной хорошей беседе
Помянули Авдотью добром…
Я брожу, я толкаюсь в народе,
Развеселой с базара уйду,
Отвернусь от пахучих полотен –
Моя сумка, набитая плотно,
Рас-ка-ча-ет-ся на ходу!
В одно, с самого ранья́ знойное, воскресение мы с братом упросили дядю завернуть с базара к реке.
– Ладно, треба и мне окунуться. И лошади погуляют. А вы гáрбуз заховайте в водяную траву, нехай охолонет, посни́даем…
Арбуз с житным хлебом был любимейшим лакомством, и мы шустро закатили огромный кавун в речку, опутали длинными зелено-бурыми стебля́ми травы, колышущейся в воде рядом с берегом. Ворохнистая травяная горка была похожа на маленький стог, только мокрый, с арбузом внутри.
Пока дядька распрягал лошадей, пока заводил их в реку, похлопывая по гладким блестящим бокам, мы сидели под тальниковым кустиком, смирно ждали, когда же «охолонет» горячее арбузное нутро.
Наконец шумно пофыркивающий, словно конь, дядька вывел лошадей из воды, пустил пастись:
– Ну, где гáрбуз? Пора сни́дати…
Я первая подлетела к нашему мокрому стожку, бухнулась в речку и радостно-нетерпеливо стала расплетать травные косы. Брат, не поспевший за мной и потому обиженно сопящий на берегу, вдруг тоненько, звеняще закричал:
– Змея!
Тут и я увидела змею. Она тоже глядела на меня, подняв над водой совсем рядом со мной маленькую черную головку с острым уголком-коронкой. Я не могла оторвать взгляда от немигающих глаз – черных, блестящих. Почему-то не испугалась, не выпустила из рук охапистые стебли. Так мы со змеей и глядели друг на дружку, пока подбежавший дядя Андрей не выдернул меня из воды со словами:
– Смелая дивчина, да дюже глупая!
Змея чуть отплыла в сторону, следила. Мне казалось – за мной. Но арбуз забрать позволила.
Только есть его нам расхотелось, да и дядька скомандовал:
– До дому!
Поехали. Мы прислушивались к дядькиному недовольному молчанию, нарушенному лишь один раз:
– Она, видать, сама ребятенок еще…
А я и не догадывалась! Какая же я дурочка, ведь это была не змея, а всего-навсего маленькая змейка, которая просто хотела поиграть…
Приехали домой, рассказали «змеиную» историю. Ох, и ругалась тетя Настуня – на весь двор! Даже за колодцем, куда мы с братом спрятались от теткиного гнева, слышны были угрозные обещания посадить нас в сарай под замок и «исти не давати». Такого, конечно, быть не могло, и, успокоившись, мы уже смело подглядывали, как дядя Андрей похаживал по двору, глазами посверкивал. Потом подошел с ведрами к колодцу:
– Как воды натаскаете в бочку, тикайте до дида. Нехай титка трохи посерчает, и́ноди треба.
В дедовом дворе с незапамятных времен росла вишня, от старости такая высокая и разлапистая, что урожай собирать было легко: ветки крепкие, не переломятся, если по ним ползти до самых крайних недоступных вишенок. Хотя дед не велит:
– Нехай птицам будут!
Птицам так птицам, мне же хватает другой заботы – собирать вишневый клей: нутряной сок просачивается через кору дерева и насыхает на ней блестящими вязкими ручейками – вкусно! Значит, скоро будут варить варенье.
В каждом дворе на временных печках из глиняных кирпичей устанавливают медные тазы, залитую сахарным сиропом вишню – без косточек! – ставят на малый огонь, время от времени давая вареву остыть. Пчел и ос вокруг хотя и не тьма-тьмущая, но – много. Они заняты важным делом – кормятся, потому и не опасны. Варят вишню долго, пока солнце само, как медный таз, не сделается, а там и ночь. Отчего это с недавних пор кажется мне, что «древо вишневого рода горчайшие дни бытия усладит напоследок»? И слез так много – по каждому поводу и без.
Не однажды, заходя в незнакомую усадьбу, я еще от калитки вглядывалась вглубь: там, у сарая, что за дерево – яблоня, вишня, слива? В каждом дворе есть главное дерево – в моем саду памяти это дедова вишня. И снова представится, как в зеленой лаковой листве витают солнечные зайчики, догоняя самую большую, самую сладкую – того и гляди, истечет соком! – ягоду. Какими блестящими янтарными нитками вишневого клея изнизана корявая теплынь ствола! Как во все стороны брызжет терпкий вишневый нектар, когда вынимаешь из ягод розовые крепкие косточки, как долго потом не отмываются ладони…
Потому, наверное, отец мой наследно любил вишню: в нашем даргорском саду он посадил пять вишенных деревьев, и каждое рожало ягоды разного вкуса – от терпко-горьковатого до сочно-сладкого.
А маме нравилась слива. Даже после смерти отца, когда мы ни садом, ни огородом почти не занимались, мама не забывала обихаживать свою любимицу, и слива отвечала многоведерными урожаями.
Однажды весной, находясь на телевизионных съемках в Палласовском районе, я познакомилась в селе Эльтон с егерем Владимиром Андреевичем Лопушковым. Он показал много прекрасных заповедных мест, мы даже танец журавлей видели, мы даже наблюдали издалека за жеребящейся посреди степи под призором вожака табуна кобылой…
А когда возвращались в райцентр, я углядела на горизонте разноцветную, пухово колышущуюся живую кайму:
– Ой, что это?
Лопушков радостно отозвался:
– А это биологическая балка, там такие чудеса произрастают!
И вскоре мы уже спускались по крутым откосам, сроду не знавшим тропок, к ручью на цветущем дне балки, к невиданным мной ранее травам, кустарникам и деревьям. К кружащему голову птичьему пению, особенно звучно-густому в замкнутом разноцветном пространстве. К солнцу, наконец, прорывавшемуся сюда длинными, подрагивающими во влажном воздухе, косистыми лучами.
Залитые весенним цветом вишни и слива стояли здесь рядышком, вместе. И так было красиво смотреть на сияющие благорозгные кроны, что я призналась:
– Словно отец с матерью, это ведь их деревья…
– А как звали родителей ваших? – тотчас спросил егерь.
– Михаил и Валентина.
– Ну, стало быть, так и буду теперь называть эти дерева. Не беспокойтесь, пригляжу.
Я была счастлива: родительские души все время дают знать, что они рядом со мной, где бы я ни находилась, где бы ни пригодилась.
А мое дерево – крошечная сосна в саду-дендрарии Ивана Васильевича Дударева. По совершенной случайности съемочная группа «Свечи» приехала к этому старейшему, знаменитейшему в России ботанику-растениеводу в день моего рождения, и я радостно, по-праздничному наслаждалась созерцанием прекрасных, невиданных в нашем степном краю деревьев и цветов. Чтобы их вырастить, Дударев долгие годы облагораживал непригодную для благополучия экзотических растений богарную землю волгоградской окраины. И земля преизобильно осветилась кружевными всходами живоносной красоты.
Понаблюдав за моими восторженными охами и ахами, добрейший Иван Васильевич предложил после съемок почаевничать, тут и открылось, что я – именинница.
– Тогда у меня есть для вас подарок, пойдемте, – и хозяин зеленых чудес повел гостью по неприметной тропинке в самую глубь вертограда. Здесь, на огороженной большими пихтами солнечной поляне, лепетал нежными, младенчески-прозрачными ветвями сосновый питомник.
– А вот и ваша свечечка, нравится?
Как же могла не понравиться самая маленькая, в три веточки, сосенка!
– Вот подрастет Татьянка, красоты миру прибавит, – и Иван Васильевич мудро улыбнулся.
Да, кто-кто, а старики обо всем на белом свете знают…
В последние годы мой старый отец ездил в Житне-Горы чаще всего один, так уж получалось, и теперь без тоски сердечной не могу об этом думать: он по-своему ведь стремился сохранить, соединить большую семью, зябнущую на ветру новых холодных времен. После его смерти (Царствие ему Небесное) в 1990 году чуть не оборвалась украинская ниточка, когда я сначала даже адреса – хоть кого-нибудь! – в старых письмах не могла отыскать: отец, что ли, конверты выбрасывал?
Но Украина звала к себе то песней, которую вроде нечаянно кто-нибудь в застолье затянет: «Дывлюсь я на нэбо…», и я – в слезы, ведь это любимая песня отца; то забытым стихотворением, что ненароком выглянет вдруг из моей первой тетрадки: «Я к Украине шла по Украине, по вечно новым всходам удивления»; то якобы случайным знакомством. Так в начале 90-х годов я встретилась с народным художником Украины Андреем Антонюком – тогда еще не народным, хотя это звание он мог бы носить с колыбели. Нынче работы Андрея, лауреата Шевченковской премии, выставлены во всех крупнейших музеях мира, и в моем доме есть одна чудесная картина. Впрочем, для меня все, что написал и еще напишет Андрей, прекрасно, потому что во всем – сокровенная Украина.
Встреча наша явилась промыслом Божиим, не иначе, ибо мои стихи и его картины, по нашему общему убеждению, словно произведения одного человека, поэта и художника в одном лице. Мои украинские стихи как бы выпорхнули из полотен Андрея, а может, наоборот, свой нашли дом в лесах, в лугах у речки, среди трав и деревьев, в старой доброй хате его родного села Богополье на Николаевщине? Какие другие были нужны мне иллюстрации для книги «На полянах Рождества»? Она вся словно сияет великолепными красками, как бы нечаянно оставленными среди поэтических строчек кистью великого мастера Андрея Антонюка.
Он-то и взялся помочь в поисках хоть какого-нибудь житне-горского адреса, а я в это время решилась на наивный, может быть, поступок: позвонить в сельскую управу Житне-Гор. После недолгих объяснений неведомая мне Валентина обещала рассказать о звонке местному священнику, а он, дескать, своих прихожан знает, кто-нибудь да отыщется.
– У нас ведь, – сказала Валентина в завершение беседы, – почти все в селе Бойки, я и сама с ними роднюсь, хоть и не впрямую.
И я с благодарностью стала ждать известий, которые не замедлили явиться: Андрей Антонюк прислал адрес все той же сельской управы, а мне позвонила моя двоюродная сестра Нина, и я засобиралась в Житне-Горы.
А пока собиралась, нашла в кладовке большой картонный ящик с отцовскими и мамиными почетными грамотами, со старыми письмами. Вот они, адреса! А письма… Слезы, а не письма. То есть письма самые житейские, самые обыкновенные: от дяди Андрея, от дяди Василия, от тети Любы, от Ларисы и Миши, от Степана… И все еще молоды, все живы, и Россия с Украиной одна страна, и нет никакого дурного предвестия. Родной дом.
Поехала на Украину не в одиночку, а вместе с многочисленными волгоградскими паломниками. Надо ли говорить, как все изменилось! Те шесть верст, что отделяли Житне-Горы от Ракитно, теперь соединяли их домами, садами и огородами, и наш большой автобус, словно по водам реки Рось, плавно катил среди августовской благодати по широкой асфальтовой дороге.
Нас ждали, но в паломничестве нельзя ничего загадывать заранее: из-за проволочек на таможне мы опоздали на сутки. Откуда было знать, что накануне сельчане почти весь день провели у церкви, вместе с архимандритом Гермогеном готовясь выйти нам навстречу крестным ходом?
Наконец мы въехали в Житне-Горы. Первыми увидели наш ярко-желтый автобус вездесущие хлопчики, и вскоре один из них, Алесик, почетным проводником восседал впереди, указывая дорогу к дому моей двоюродной сестры Нины.
Слез было, ахов-охов!.. И, как в былые времена, поставили столы во дворе под старой грушей (у деда была вишня), со всего села собрали стулья (у деда простые доски накрывали рядном), и хозяйки ближних домов принесли угощение: ведь гостей было ни много ни мало пятьдесят человек, всем надо было угодить! Угождали, конечно, не только борщом и пирогами, а и горилкой, и песнями.
Ах, песни Украины! Удивительно преображается поющий человек: голос становится просторным, как украинские степи, и высоким, как небеса, он звенит и сам себе подзванивает луговыми колокольчиками, сам себя услаждает криничными водами – да сам ли? Не Господь ли оделяет сердце человеческое блаженной нежностью любви, не Богоматерь ли укрывает от кромешного Вселенского сиротства?
Песня про девушку Маричку – из моих самых любимых: «А як усмехнется та с пид лоба глянет – хоть скачи у воду, кажуть парубки…». Красавица Маричка, живущая над светлою водой и ждущая своего суженого, – ах, не воплощение ли это трепетных грез дев-славянок всех времен от млечной древности до вечной вечности?
В России про Маричку не поют. Что же, слишком далеко нынче русская тропка обегает Маричкину речку, а ведь когда-то наши общие родовичи рядышком сидели на святом берегу. Впрочем, Господь милостив, не оставит верных. Пусть ждет над речкой наша Маричка «в хате, що сховалась у зелених гир…». Придет ее милый, придет.
Паломница Наталья, походив по селу да повстречавшись с житнегорцами, в конце концов сказала:
– Таня, как много в селе тебя!
Посмеялись, но ведь так оно и есть: все в родне моей терноокие да чернокосые, да вдобавок быстрые, ведь и фамилия наша такая – Бойко!
(Все-таки присматривает за мной род мой, не зря интуитивно-наивно я как-то вопросила в стихах:
Близко я, у родословной ограды,
Скоро ль дойду до ворот?..
И сама же ответила:
Близко я, родичи, слухом и духом,
Рядышком мой окоем,
Выстланный светом, и словом, и пухом
Веры, а тем и живем.
Под взыскательным приглядом моих украинских предков я (случайно якобы!) оказалась однажды в Государственной академии Министерства культуры Украины среди слушателей курса традиционной культуры, читала его профессор академии Валентина Кирилловна Скнарь, причем на украинском языке, и я все очень хорошо понимала. По завершении занятий даже получила, наравне с другими, диплом государственного образца. И там, на лекциях Валентины Кирилловны, я узнала кое-что интересное о современном воспитании малых деток в Швеции. Оказывается, между этой страной и Украиной существует официальное соглашение, предусматривающее для украинских женщин работу в шведских семьях в качестве нянь, но с обязательным условием: они должны петь младенцам украинские песни. В Швеции считается, что именно украинские песни закладывают в младенческую душу все самое доброе и прекрасное и этим уберегают от зла.)
Да, хороши украинские песни! Но застолье подходило к концу, кое-кто уже потянулся к калитке, и тут я спохватилась: надо ведь про фотографию расспросить, где она может быть, у кого хранится? Никто не знал, даже дивились поначалу, особенно бабы: мол, что за блажь такая, новая мода, что ли, на старое?
– Сами-то как думаете? – пристыжала я спрашивальниц в ответ. Сбегали, принесли старые снимки – не те, а фотография из моего детства так и не нашлась. Сошлись на том, что не завтра помирать, может, и явится она откуда-нибудь?
К вечеру отправились на кладбище.
О, старые родные кресты, как вас много! Стоять вам вечно на земле, на порфире памяти моего православного рода! Сколько их, родных могил… И травы что-то многовато, не так уж и часто, видно, ходят сюда предков попроведать. А может, год такой выдался – свежий, дождливый, вот трава и стремит окрест свои бессмертные плетения? Совсем-то своих никто не забывает, вон какие кресты стоят – каменные, высокие, хорошо издали видные, с любовью поставленные.
Родненькие лежат парами: дед Кондрат и баба Анастасия, дядя Андрей и тетя Настуня, остальные – по всему погосту, пришлось поискать. Со мной вместе ходили остальные паломники, жалостливо читали надписи на памятниках и крестах, молились. Ждали меня, чтобы идти в церковь.
Она встретила нас высокими мальвами вдоль ограды, чистым полем двора с желтыми песочными дорожками, голубями на кресте и разноцветными домоткаными половиками, сплошь застилавшими церковные полы. Мы изумились и духу старинно-домашнему, и невиданным у нас в России иконам: святые глядели на нас, как хорошо знакомые по жизни люди, как родственники. И в этой старенькой церкви свершилось великое: наш паломнический батюшка иерей Александр Морозов отслужил всеобщую панихиду, помянул каждого усопшего по имени, указанному в едином, написанном сельчанами и паломниками, списке. Вечная память и вечный покой общим нашим православным предкам!
А может быть, эта панихида, запечатленная в вечности, и есть фотография моего рода, воспоминания о котором так томят мою душу? И не предки ли мои – в золоте и серебре, в белом, алом и синем – были увидены мною во сне во время этого украинского путешествия? Мужчины и женщины в царских головных уборах, в богатых золототканых одеждах, с высоко поднятыми головами, и этот святой ряд уходит в далекую перспективу, а над ним – сияющий лик Богородицы.
Богородицу не зря называют Пространством во скорбях. Всемилостивая, Она всем помогает в избавлении от горестей, ибо велико пространство Ее материнской любви. Чаю, мой православный род под Ее вечным Покровом.
Когда мы возвращались из паломничества по Украине, ночью, почти засыпая, я увидела на фоне бесконечного Вселенского пространства православный крест, целиком составленный из миллионов звезд – или миллионов православных душ?
В моем доме много лет живет акварель моего друга, народного художника Украины Андрея Антонюка. Он привез ее зимой, в Рождественский Сочельник, когда приезжал в Волгоград из родного Николаева к сыну Даниле, тоже художнику и тоже замечательному.
Был поздний вечер, я уже пришла из церкви и зябко согревалась пустым чаем у настольной лампы на кухне, и тут под соловьиный звон дверного колокольчика появился Андрей: борода и усы в снежном инее, смеющийся, с огромным, перевязанным зеленой лентой, пакетом:
– Принимай Рождественский подарок!
Развязал ленту – и в комнату хлынул свет!
– Ой, красота какая!
– Это Украина, родная наша матерь, узнаешь?
И так же быстро, как возник, Андрей удалился со словами:
– С Рождеством тебя, сестричка!
Наши души и вправду тонко чувствовали между собой родственную связь, я уже рассказывала об этом в повести «Окошечко». Если подумать – ничего удивительного: ведь в жизни Андрея и моей есть Украина.
Всю Рождественскую ночь она сияла передо мной с голубо-зелено-белой акварели: тоненькая дева-свечечка трепетала посреди цветного поля и радовалась моим слезам и молитвам. Она и сейчас так же трепещет и светит со стены над моим письменным столом.
Андрей звонит, спрашивает:
– Как поживает моя дивчина?
– Сияет, – отвечаю, – зовет на Украину.
– Так приезжай!
Когда-нибудь, когда-нибудь…
А пока встречаемся в Волгограде. И однажды я пришла в семейную мастерскую Антонюков с диктофоном:
– Давай-ка оставим твой голос в эфирном пространстве, Андрей. Согласен?
И он согласился.
– Что есть личность, Андрей?
– Во всяком случае, не гордыня о себе, а полное служение тому, зачем ты родился на этой земле, подтверждение делами своими Божиего промысла. Мне в детстве уже давали ответы на вопросы жизни, которые многие взрослые никогда и не слышали, хотя дожили до седин. Я рос в семье, где слово Божие и заповедь Божия были в основе жизни, и, значит, дела мои и ответственность моя соизмерялись с этими основами, с Божиим промыслом. Ответственность перед Господом Богом – главное, поэтому в семье на корню пресекалось малейшее проявление гордыни, и бабушка, и мама знали и учили этому знанию меня:
«Не ты, но Бог через тебя делает, все – дела Божии».
Как-то зимой, под вечер, постучали в дом, мама открыла дверь, увидела: стоит мужчина, высокий, уже немолодой, и просится переночевать. Странник. А в доме были только женщины и дети, и маме страшно стало, а он говорит:
– Не бойтесь, я помолюсь, переночую с краешку, если можно – в сенях, отогреюсь и уйду утром.
Ну, мама впустила его, повечеряли, он и говорит:
– Помолимся!
И маму поразило, что он не просто стал молиться, а – править службу. Был Рождественский пост, человек достал маленькие книжечки – про святое – и говорит маме:
– Наталья, возьмите, почитайте, а если Богу будет угодно, узнаете обо мне.
А мама волнуется:
– А где же вас искать, чтобы книжки отдать?
– Будет Богу угодно, он известит вас о монахе Андрее.
И с этими словами ушел.
И прошел уже месяц, прошел второй, мы книжки по нескольку раз перечитали. И вдруг приснился маме сон, она утром и говорит нам:
– Скоро отец Андрей придет!
– Какой отец Андрей?
– А тот монах, который был у нас.
И вечером действительно пришел монах Андрей, поздоровался, как со своими, после молитвы сели вечерять и беседовать. А я забрался в уголочек кровати, где лампадка висела, и стал рисовать в тетрадке, как они беседуют за столом под иконой. Первый раз в жизни я рисовал с натуры! Было мне десять лет. С каким трепетом, с какой боязнью водил я карандашом по бумаге! Думал, никто не видит, а священник говорит:
– Наталья, попроси сыночка своего, пусть он нам покажет, что нарисовал.
Я – к двери, а он:
– Не бойся, сынок, не бойся, покажи!
Я беру этот рисунок, показываю, а мама:
– А кто это намалевал тебе? Ты ж не мог сам такое сотворить!
Я пытаюсь сказать, что это я сейчас, когда в кровати сидел, нарисовал, а монах Андрей улыбается и – никогда не забуду! – произносит:
– Наталья, давай помолимся Богу за талант твоего сына, что Бог ему послал! Храни его, Господь! Пусть бережет свой талант и славит Бога и Отчину…
Берегу этот рисунок, он сохранился совершенно нечаянно. Я уже закончил художественное училище, мои студенческие работы валялись где-то в чулане. Как-то перебирал их и нашел первый свой листочек – и не поверил глазам, настолько рисунок был профессионален! Его мог сделать только человек, владеющий техникой, умеющий писать с натуры.
– Ангел водил твоей рукой, не иначе, Андрей, – вздохнула я.
– Это действительно так и произошло, рисунок был сделан как бы не мной. Я написал потом портрет монаха Андрея, который погиб во время воинствующего атеизма, уже после смерти Сталина, в шестидесятые хрущевские годы гонений на церковь. В один из своих переходов, когда Андрей шел от села к селу, неся слово Божие, его убили комсомольцы, забили до смерти, даже бороду и волосы его обстригли… Я всегда его поминаю, отца Андрея, Царствие ему Небесное! Думаю, что он был послан мне Богом – словно Ангел, у нас и имя ведь одно… И вообще я чувствую продолжение в себе его жизни, его слова, была не одна с ним встреча, он приходил к нам постоянно. И не только у нас он появлялся: после того, как закрыли монастырь, монах Андрей ходил по людям. А маме он потом все время снился.
– Ты веришь снам?
– Не просто верю, я до сегодняшнего дня имею связь со своей мамочкой, Царствие Небесное! В тяжелую годину, в какие-то минуты, когда решается судьба, мама приходит ко мне и извещает меня о чем-то. Это не раз было, и настолько явно и убедительно!
– Ты ведь родился не в Богдановке, где издавна жила семья?
– Да, жизнь – это странствие. В тридцатые годы бабушка с мамой бежали из своего села, из Богдановки, так как наша семья была середняцкая, у нас даже лошадь и корова были. Бежали потому, что семью хотели забрать на Соловки. И они пришли в Божье Поле, туда, где родился я, это уже моя родина. На ночлег попросились в самый крайний дом, а жила там вдовая многодетная еврейская семья, которая их и приютила. Там они и перезимовали, у бабушки Эстерки, я тоже ее помню, она еще жива была, когда я подрастал в Божьем Поле. Перезимовали, пристроили к дому Эстерки стены – вот и получилась наша хата.
До войны ведь это было, я появился на белый свет, когда моя мама встретилась в Божьем Поле с моим отцом, высланным из Полесья, из Луцка. Он работал на строительстве дороги, а в 39-м году его по наветам (что-то не так сказал) выслали в те лесоповальные края, где позже строился БАМ. Великая Отечественная война, эта трагедия всего народа, как ни странно, явилась спасением: отец был направлен в штрафбат. Прямым путем – на Украинский фронт, и мама, которую отец известил через кого-то о том, что там-то и тогда-то будет стоять эшелон, встретилась с отцом… После этого святого свидания и появился я на белый свет – волей Божией. Не было бы этой встречи, не было бы меня.
– Мне нравятся твои рассказы про детство: про речку Синюху, про Ванины валенки…
– Про детство? Ну, хорошо, давай повспоминаем про детство: Божье Поле, церковь Покровская над рекой. В семье соблюдались все православные традиции, и очень строго, но настолько это было органично, что я не чувствовал себя каким-то ущемленным, что ли… Потому что воспитание таким было: духовным питанием. Мама пела на клиросе, в доме шли службы.
Никогда не забуду случая, когда бабушка привела нас со старшим братом Ваней на первую исповедь. На церковном потолке написано: «Бог-Отец». Смотрим – Бог-Отец на огромном облаке восседает, вокруг него Ангелы, а ноги у Бога – босые. А на дворе зима, и в церкви не жарко, пар изо рта идет. Ваня, братик мой, толкает меня, говорит:
– Посмотри, Ему же холодно!
Бабушка строго спрашивает:
– Что вы там шепчетесь? Молчите и молитесь!
Стоим, молимся, а после службы Ваня говорит:
– Бабушка, а можно, я Богу валенки отдам? Он же здесь останется ночевать, ему же холодно будет… А я быстро до хаты добегу!
Таким бесхитростным и добрым Иван живет всю свою жизнь. Может быть, потому, что мы – из Божьего Поля?
– Какое оно?
– Это удивительная земля. По-видимому, ничего в природе нет случайного. Это, я уверен, кусочек астрального мира на слиянии двух рек: Синюхи и Бога.
– Бог?
– Именно Бог, а не Буг, как стали речку звать позже. И идут эти реки, Бог и Синюха, в Черное море. По дороге они сливаются. И знаешь где? В Херсоне, там, где Русь приняла Крещение. Синюха названа так, как ее назвал гетман Орлик, сподвижник Богдана Хмельницкого. Чистейшая вода! Никаких заводов, никаких мазутов… И вот в этом междуречье стоит мое село Божье Поле. Разве не Божий удел?
– Царицын тоже не на простом месте возник: в междуречье Волги и Дона, а это, если сверху глянуть, – крест, мне летчики говорили.
– Вашему городу нужна беспрестанная молитва, ведь такой крест он несет, столько народу в войну погибло! Действительно, здесь должна все время гореть большая поминальная свеча. Долго еще надо отмаливать погибших…
– Каково же будущее славянского мира, он гибнет или нет?
– Нет! Может, крамолу выскажу, но слушай: наш славянский мир проходит колоссальное испытание, прости за такое сравнение, на вшивость: кто мы есть? И без жестокого отсева плевел от зерен сегодня не получится. Мне больно, но все мы того стоим.
– Но я не хочу идти в этот отсев…
– И ты, и я, и каждый отвечает не за кого-то, а только за себя. Каждый или погибнет, или будет спасен.
– А я хочу спастись со всей страной, со всеми.
– А для того, чтобы быть спасенной со всей страной, надо продолжать делать то, что ты делаешь. Всем надо непременно заниматься деланием!
– Слушай, мы с тобой не на слишком ли высокие облака забрались, а?
– Говорят: не суди и не судим будешь. Я хочу отвечать за себя, за свои поступки. Чтобы не искать соломинку в чужом глазу, стараюсь избавиться от бревна в своем. А раз есть спрос с себя, я знаю, рядом со мной всегда будут честные люди и, извини меня, высокого уровня, даже не облачного, а – за…
– Много ли ты знаешь о себе, Андрей?
– О себе говорить тяжко, я весь в своих работах, и они скажут обо мне больше. Могу ли что-нибудь придумать или приукрасить? Нет, холст не позволит. Слава Богу и спасибо родителям, что я с первого вздоха получил вышнюю связь. Это мне такую крепость дало на всю жизнь! Какие бы ни были напасти, есть в сердце, глубоко, вера. Мама учила: «Не молись напоказ, душой молись, Богу слышно».
– Андрей, ты неповторим, вот мое неповторимое впечатление! А потому ответь: тебе снятся вещие сны?
– Не скажу я тебе, не скажу, не имею права.
– Нельзя?
– Да, нельзя.
– Но почему?
– Знаешь, скажут: ах, какая гордыня, мол, кто-то не видит, а я вижу…
– Все видят!
– Нет, напрасно ты так думаешь, очень многие не видят!
– Но мы ведь все люди, все одинаково устроены!
– К сожалению, нет. А те, кто не видят, им жарко, им холодно, им не хватает денег, им всегда хочется того, чего на свете нет, понимаешь? Они не освобождены от многих житейских страданий. А раз человек не освобожден от мирского, он никак не может преодолеть гонку «сам с собой»…
1
Соловьев В. С. Русская идея. Репр. изд-е. Л.: Наука, 1990. С. 3.
2
Соловьев В. С. Русская идея. Репр. изд-е. Л.: Наука, 1990. С. 50.