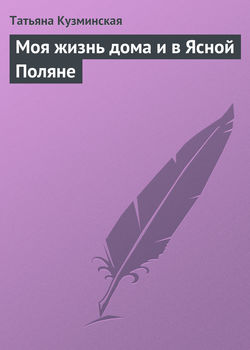Читать книгу Моя жизнь дома и в Ясной Поляне - Татьяна Кузминская, Татьяна Андреевна Кузминская - Страница 10
Часть I
1846–1862
X. Николай Николаевич Толстой и приезд Льва Николаевича
ОглавлениеПозднее по субботам у нас бывали танцклассы. Сестры учились у барона Боде, жившего напротив нас, а для меня и брата Пети класс был устроен дома. К нам приезжали учиться танцевать трое детей Марии Николаевны Толстой, сестры Льва Николаевича. Это были мои первые друзья детства – Варя, Лиза и брат их Николай.
В нашей семье и у Марии Николаевны были гувернантки две сестры: Мария Ивановна и Сарра Ивановна – очень добрые, полные и дружные немки. Дружба их была мне в пользу. Меня часто отпускали к Толстым, я очень любила бывать у них.
Мария Николаевна проводила зиму в 1857–1858 г. в Москве, и у нее я впервые встретила брата ее Николая Николаевича. Он был небольшого роста, плечистый, с выразительными глубокими глазами. В эту зиму он только что приехал с Кавказа и носил военную форму.
Этот замечательный по своему уму и скромности человек оставил во мне лучшие впечатления моего детства. Сколько поэзии вынесла я из его импровизированных сказочек. Бывало, усядется он с ногами в угол дивана, а мы, дети, вокруг него, и начнет длинную сказку или же сочинит что-либо для представления, раздаст нам роли и сам играет с нами.
Не раз во время представления или рассказа появлялся и Лев Николаевич, расчесанный и парадный, как мне казалось тогда. Мы все бывали очень рады его приезду. Он вносил еще большее оживление, учил нас какой-либо ролей, задавал задачки, делал с нами гимнастику или заставлял петь, но обыкновенно, поглядев на часы, торопливо прощался и уезжал.
Николай Николаевич с добродушной иронией относился к великосветским выездам брата. Войдет Мария Николаевна, и он ей, улыбаясь, скажет:
– А Левочка опять надел фрак и белый галстук и пустился в свет. И как это не надоест ему?
Сам Николай Николаевич нигде не бывал; он жил на окраине Москвы, где, впрочем, всегда его отыскивали его почитатели и друзья. Между ними были Тургенев и Фет.
Здоровье Николая Николаевича, видимо, становилось плохо. Он кашлял, хирел и слабел.
До Ивана Сергеевича Тургенева, находившегося тогда в Содене, дошли слухи о тяжелом состоянии здоровья графа. Он пишет из-за границы Фету 1 июня 1860 г.: «То, что вы мне сообщили о болезни Николая Толстого, глубоко меня огорчило. Неужели этот драгоценный, милый человек должен погибнуть!.. Неужели он не решится победить свою лень и поехать за границу полечиться! Ездил же он на Кавказ в тарантасах и черт знает в чем!» Кончает Тургенев письмо словами: «Если Николай Толстой не уехал, бросьтесь ему в ноги – а потом гоните в шею – за границу».
Николай Николаевич уехал весной за границу, но это не помогло ему. В сентябре 1860 г. он скончался в Гиере.
Льва Николаевича мы знали раньше. Он бывал у нас, как товарищ детства матери. Я помню его в военном мундире во время Севастопольской войны, когда он приезжал к нам в Покровское.
Это было в начале лета 1856 г. Как-то вечером подъехала к нашему крыльцу коляска. Приехали Лев Николаевич, барон В. М. Менгден и дядя Костя.
Они приехали к обеду, но с большим опозданием. Люди говели и были отпущены в церковь. Поднялась хозяйственная суета, и мать разрешила нам, девочкам, накрыть стол и подать, что осталось.
Сестры бегали с веселыми лицами, исполняя непривычное дело. Меня постоянно отстраняли, говоря: «Оставь, ты разобьешь», или «это тяжело, ты не подымешь».
Ими любовались и хвалили их.
Мне стало завидно, зачем меня не замечают и не хвалят, я стала поодаль и смотрела на гостей.
Лев Николаевич много рассказывал о войне, отец все расспрашивал его. К сожалению, я не помню содержание рассказов его. Но помню одна, как зашла речь о песне «Как 8-го сентября», и как мы все просили напеть нам её, когда встали из-за стола. Лев Николаевич отказывался.
Конечно, ему казалось дико сесть за рояль и запеть. Мы все чувствовали, что это надо было обставить как-нибудь иначе. Дядя Костя сел за рояль и наиграл ритурнель этой песни. Мотив был всем нам известен. Дядя Костя так играл, что трудно было молчать.
– Спойте с Таней, – сказал папа, – она поет и вам подтянет. Таня, подойди, пой вместе со Львом Николаевичем.
– Мотив я знаю, а слов не знаю, – сказала я.
– Ничего, мы тебя научим, – говорил дядя Костя, – становись. – Он сказал мне два первых куплета. – Я буду тебе подсказывать дальше.
– Ну, давайте петь вместе, – смеясь обратился ко мне Лев Николаевич.
Он сел возле дяди Кости и начал почти говорком. Пропев с ним два куплета, я отстала и с интересом слушала его, а Лев Николаевич с одушевлением продолжал уже один; дядя Костя своим аккомпанементом прямо подносил ему песню. Я взглянула на отца. Веселая, довольная улыбка не сходила с лица его. Да и всех нас развеселила эта песня.
– Как остроумно, лихо, ладно сложена эта песня, – говорил отец. – Я знавал этого Остен-Сакена. Так это он «акафисты читал», как этот куплет-то? – говорил отец, смеясь.
«Остен-Сакен, генерал, все акафисты читал Богородице!» – продекламировал дядя Костя. И тут стали перебирать все слова песни.
– Многое из этой песни сложено и пето солдатами, – сказал Лев Николаевич, – не я один автор ее.
Потом Лев Николаевич просил дядю Костю сыграть Шопена, что дядя и исполнил. Окончив вальс, он заиграл какой-то наивный менуэт, напомнивший Льву Николаевичу детство.
– Любовь Александровна, помните, как мы танцевали под него, а ваша Мими нас учила, – сказал Лев Николаевич, подходя к матери. – Мне кажется еще, все это так недавно было.
Тут речь зашла о «Детстве» и «Отрочестве».
– Вы, вероятно, многое узнали близкого и родного в этих произведениях? – говорил Лев Николаевич.
– Еще бы, – сказала мать. – А Машенька, сестра ваша, как живая, с черными большими глазами, наивная и плаксивая, какая она была в детстве.
– А отца нашего с его характерным подергиванием плеча как ты описал, он сам себя узнал и так смеялся, – сказал дядя Костя.
Соня внимательно слушала весь разговор. На нее «Детство» и «Отрочество» произвели большое впечатление, и она вписала в свой дневник следующие слова.
«Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни?»
Лиза на обороте написала «дура». Она преследовала в Соне «сентиментальность», как она называла какое-либо высшее проявление чувства, и трунила над Соней, говоря:
– Наша фуфель (прозвище) пустилась в поэзию и нежность.
Темнело, было уже поздно. Наши гости простились и уехали в Москву, оставив нас нагруженными разными впечатлениями.