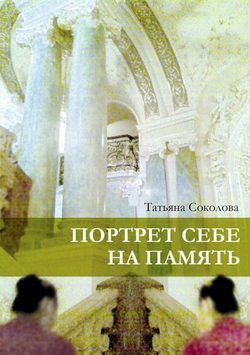Читать книгу Портрет себе на память - Татьяна Николаевна Соколова - Страница 2
Встреча
ОглавлениеМеждугородный автобус пришёл в Одессу рано утром. Последний раз я говорила с ней по телефону вчера вечером и, конечно, зря согласилась, чтобы она меня встречала на автобусном вокзале. Ей ведь уже много лет, как она доберётся до вокзала? Мы наверняка не найдем друг друга среди суматохи и толчеи. В этом путешествии из Туапсе в Одессу все обстоятельства складывались мне назло: сначала сломался автобус, и мне пришлось изменить маршрут и заночевать в Краснодаре, потом не было билетов. И когда уже после обеда мне, наконец, удалось втиснуться в переполненный Мерседес-Бенц 1965 года выпуска с розовыми занавесочками на окнах и, как выяснилось, – без кондиционера, я стала методично набирать ее домашний номер каждые полчаса. Она сняла трубку поздно вечером, когда мы уже проехали Феодосию. Она все время твердила, что придет рано утром на автовокзал. Она упряма и любит, чтобы последнее слово всегда было за ней. Я давно знаю, что мысли материальны и, естественно, мы не встретились.
Более получаса я металась по полупустому автовокзалу за её тенью, чувствуя, что иду по следу, спрашивала случайных прохожих и дежурных – ни разу мы с ней не оказывались в одном месте в одно и то же время. Когда я ждала на перроне, куда прибыл автобус, она выкрикивала моё имя в здании вокзала, а когда я покупала телефонную карту, она искала меня в районе кафе; потом я сделала объявление по радио, но поздно, она уже стояла на трамвайной остановке. Водители и уличные торговцы говорили, что да мол, видели: высокая взрослая женщина, чистенько одетая, с красивыми крупными зубами, губы накрашены, ещё и на каблуках.
Её невозможно было не заметить. Мария Израйлевна, как звали её ученики, или Тамара, Мара или Мирьям, как обращались к ней друзья и родственники, всегда выделялась из толпы и не только своей идеальной осанкой и пышной копной черных волос, подхваченных на затылке шпильками. Она была одной из тех женщин, на которых невольно останавливается взгляд. В молодости она мне казалась красавицей: скуластое лицо с большими, немного раскосыми глазами неуловимо меняло свое выражение, когда она слушала музыку или играла сама. Большой рот с немного припухлыми всегда яркими губами и крупные зубы были украшением лица, особенно когда она улыбалась. Нос узкий, если смотреть в фас, утонченный, уравновешивающий все черты её лица, – в профиль выступал как горный хребет, свидетельствуя об упрямстве её характера.
Меня особенно поразило, что несколько человек сказали: «чистенько одетая». Я представила старушку в платочке и почему-то дрожь пробежала по телу. На какой-то миг волнение настолько овладело мной (да ещё сказывалась и бессонная ночь), что автобусный вокзал поплыл как мираж, и я даже не заметила, как с левой руки ко мне пристроился невысокий мужчина в полосатой трикотажной рубашке. Он бормотал мне в ухо:
– Вы её уже здесь не найдете. Она себе совсем ушла. Вам такси надо? Я имею вам такси. Спешите скорее. Двести долларов и такси у вас в кармане.
Цена в двести долларов привела меня в чувство. Я вытаращила на него глаза, но поняв, что он легко не сдастся, резко ответила:
– Вы что, ненормальный?
Мужчина ничуть не смутился и, ухмыльнувшись, ответил, что есть и другое такси за 100 гривен.
– Шестьдесят, – решила я поторговаться, выходя на улицу из здания вокзала, – и ни копейки больше.
На улице было полно машин, бери любую. Но у них тут была своя субординация. Мой спутник махнул рукой, и к нам подкатила новенькая «Мазда» цвета морской волны с открытым багажником. Я сама закинула чемодан в кузов, после чего шофёр одобрительно кивнул мне, приглашая занять место в кабине.
– Будем ехать. А где живёт ваша тётя?
Видно, все уже были в курсе моих проблем.
– Моя учительница живёт на Малой Арнаутской, – ответила я, чеканя слова.
– Малая Арнаутская – это хорошее место, там исторически проживал Илья Файнзильберг со своим Остапом Бендером. Там бедные люди не живут, – многозначительно пояснил мой водитель.
– Учителя не бывают богатыми, – покосилась я на него, – везите!
Пока мы ехали, он пытался воскресить в своей памяти имена известных личностей, проживавших в разные годы на Малой Арнаутской, а я глазела по сторонам. Одесские улицы казались знакомыми, как будто я их видела в прошлой жизни, ходила по ним и жила тут, где-то рядом, в одном из пятиэтажных каменных домов. Мы спускались все ближе к морю, дома становились поскромнее и пониже. И вдруг я увидела поникшую женщину, сидящую на скамейке перед домом старинной постройки с чёрным ободранным котом на руках.
Я узнала её сразу и велела водителю остановиться, побежала к ней. Она подняла на меня грустные глаза – внезапно её понурая фигура выправилась, на лице засияла улыбка, и, всплеснув руками, она кинулась мне навстречу.
– Наконец-то, ты приехала!
Она не была похожа на старушку – всё такая же статная, правда, немного склоненная вперед, как будто внимательно смотрит под ноги. На ней был свободный сарафан на лямочках с красными горохами. Мы вошли во двор, здесь она на минуту остановилась и объяснила, как пройти в квартиру, не задев соседский велосипед, привязанный к перилам, а также ящики для хранения овощей в разных концах небольшого вестибюля. Дом был четырёхэтажным, некоторые квартиры были разделены так, что выход из одной был на парадную лестницу, а из другой на чёрную. На чёрной лестнице на первом этаже и была её квартирка.
Я обустраивалась со своими вещами на отведенном мне диване, а возбужденная Тамара глядела на меня с разных ракурсов и периодически восклицала: «Как я рада, девочка моя!» И вдруг она насторожилась и, сделав перед своим носом несколько театральных жестов, как бы закручивая рукой дымок от сигареты, спросила:
– Это что?
– Это пакет с тремя чудными копчёными рыбами, их подарил хозяин, у которого я останавливалась на Кавказе. А как пахнет! – ответила я, подумав про себя, что, наверное, не надо было мне тащить сюда этих рыб.
– Вот именно, пахнет… Нет, это невозможно! – произнесла она, повышая голос, – спрячем их в морозилку, пока не пришёл Матрося. Видишь ли, – вздохнула Тамара, – мне за мои грехи перед предыдущим котом Мурзей, на могиле которого я поклялась, что больше не возьму ни одно животное, достался больной котёнок. Я не смогла его выгнать и с трудом вылечила. Ему нельзя есть рыбу, и я не держу в доме рыбы. А какой мне попался ветеринар, я тебе расскажу о ней.
– Но я думала… – произнесла я нетвердо.
Тамара принесла мне завтрак.
– Не думай, лапка, не надо, кушай творог со сметаной, добавь в творог чёрной смородины и налей себе чая. Мы отдадим рыбу Рае, моей приятельнице, она придёт вечером. А про покойного кота Мурзю я тебе расскажу сейчас. Она устроилась в кресле-качалке напротив меня и с чувством начала.
– Это был необыкновенный кот! Поначалу он не любил, когда я играю на пианино, он начинал выть, но не уходил.
После бессонной ночи, завтрак свежим творогом с ароматной деревенской сметаной сморил меня окончательно. Я пересела на диван и тут же закемарила под рассказ о том, как Мурзя приобщался к музыкальным занятиям. Очнулась я от внезапного крещендо, переходящего в выразительную кульминацию.
– Ты представляешь! – восторгалась она, – он стал играть на фортепиано, естественно одной лапой, и подолгу слушал гаснущий звук!
– Представляю, – ничуть не колеблясь, ответила я, пытаясь вспомнить, о чем идет речь. – Этот Кузя?
– Нет же, – раздосадовала Тамара, – бедный Кузя, которого ты видела со мной на скамейке, попал в руки к редкой негодяйке. И бывают же такие люди! Лучше бы они умерли при рождении!
Эти слова заставили меня вздрогнуть, в воздухе на момент повисла неловкость. Как будто невыученный урок и разгневанная Тамара. Какие-то внутренние ощущения из далекого прошлого просочились в её комнату через два окна со старомодными низкими подоконниками и, погружаясь снова в сон, я почувствовала, что всё здесь связано с пространствами моего детства. Сейчас она как будто все объяснит и, конечно, простит мое невежество.
Когда я проснулась в очередной раз, Тамара, стоя позади своего кресла, как за кафедрой, громко клеймила тех, кто не любит братьев наших меньших: от котов и птиц до микроскопических живых существ. Кивком головы я сразу согласилась с её доводами. Когда я попыталась вспомнить её пламенную речь, из глубины моего сознания пробилась мысль, что Кузя, с которым она встречала меня у дома, персидской породы и ему нужны витамины. Витамины Тамара держала в руке, поясняя при этом, что не нужно спешить, а можно завтра (разумеется, мне) пойти к этой стерве, но со стервой ни в коем случае в разговоры не вступать, а передать витамины для лечения кота Кузи её мужу, который не потерял человеческого достоинства, живя с такой двуличной женщиной, которая всем улыбается, а на самом деле… Мужа ужасной женщины, с которым мне предстояло познакомиться, звали Толик. Время от времени он помогал Тамаре справляться с домашними катаклизмами, происходившими то от электричества, то от газовой колонки АГВ образца семидесятых годов.
Представив, что мне придется совершить такой подвиг, я опять провалилась в сон, как в обморок, и не помню, чтобы кто-нибудь меня беспокоил до самого вечера.
Вечером пришла Рая. Рая была врачом, но она уже не работала, а вела хозяйство в семье дочери. Она была значительно моложе Тамары и опекала её. Слушая рассказ о том, как мы разминулись на автовокзале, Рая кивала и тайком сообщила мне, что это нормальное положение вещей для Тамары. И было бы удивительно, если бы мы встретились. Рыбу Рая унесла.
Мы с Тамарой продолжали сидеть за столом, я попивала чай с зефиром, а Тамара принялась ловить блох у кота. Эта процедура повторялась каждый день, потому что блох у Матроси было много, а химические методы избавления от насекомых, как вредные для здоровья животного, отвергались категорически. Но бывало, что убиение очередной твари доставляло коту неприятности, тогда он оскаливался и мог укусить. Тамара искренне возмущалась и, сбрасывая его с колен, кричала: «Сволочь! Ты мне ещё указывать будешь! Я врукопашную воюю, а он мне тут!..»
В моем детстве и даже в юности мы обе были интеллигентными дамами и грубых слов не произносили, поэтому она сочла необходимым объяснить мне семантические корни слова «сволочь».
– Слово «сволочь», лапка, – сказала она, остановив на мне взгляд, как будто рассказывала про малоизвестного композитора семнадцатого века, – пошло от войны с французами 1812 года. Когда Наполеон терял на полях сражения или при отступлении людей и лошадей, то наступающей армии Кутузова приходилось заниматься санитарными работами и оттаскивать, волочь трупы животных. Поэтому свОлочь происходит от сволОчь и означает: мразь, грязь и прочее.
Далее её мысль переключилась на сравнение американцев, англичан и французов, где явно выигрывали французы, как в целом не хищническая нация, причинившая человечеству минимальное количество неприятностей по сравнению с амбициозными и безнравственными англичанами, претендовавшими на мировое господство и не отказавшимися от этой мысли и по сию пору. Включая и ту их часть, которая переселилась в Америку и взяла там курс на подавление малых народов и неумеренное потребление.
Моя реплика о том, что в Америке англичан меньше чем латиноамериканцев или испанцев и, наконец, украинцев и русских, была резко оборвана. Я даже вздрогнула, когда Тамара, увлеченная повествованием, почти прокричала мне:
– А ты молчи и слушай, когда тебе говорят! – и, вздёрнув свои черные густые брови, продолжила, – что за люди? Никакого уважения!
Я решила не проявлять неуважение в первый день приезда и приняла позу покорного слушателя.
К счастью, американцы вызывали у Тамары такое пренебрежительное отношение, что долго разглагольствовать о них она не сочла нужным. Рассказала только, как десять лет тому назад ездила в Америку, точнее в Канаду, в гости к приболевшей сестре, где её просто тошнило от отвратительной американской привычки – постоянно что-то жевать и пить на улице.
– Представляешь, – говорила она, – они на ходу едят свои макдональдсы, разевая рты как бегемоты, и запивают их ещё более отвратительной колой.
Эти неэстетичные воспоминания заставили её даже поморщиться, но она быстро справилась с отвращением к жующим на улице людям и философски закончила обличительную речь.
– Хотя… французы, конечно, тоже хороши.
Я вышла в кухню, являвшую собой довольно жалкое зрелище: чуть больше чем на десяти квадратных метрах, кроме кухни, размещались ещё прихожая с коридором и туалет, отгороженный в углу около входной двери. Окна в кухне не было, поэтому для проветривания входная дверь всегда была приоткрыта, и с лестницы просачивалась прохлада, какая обычно бывает в подъездах старых каменных домов. В узкой части кухни, напротив туалета, на стене была прибита небольшая вешалка – она была пуста, если не считать старого зонта с массивной ручкой и длинной металлической пикой. К вешалке примыкали две этажерки, заваленные пакетиками и хозяйственными принадлежностями, на одной из них обычно отдыхал кот. А над этажерками размещалась та самая газовая колонка АГВ, которая должна была нагревать воду для раковины и душа, находящегося в туалете. Система АГВ доверия мне не внушала. С первой попытки зажечь её я не смогла, но что самое главное, я не могла понять: почему она располагается на противоположной стене, и каким образом вода поступает в туалет и в водопроводный кран через многочисленные трубы, проложенные по стенам и под потолком. Я быстро приспособилась ополаскивать утром лицо холодной водой из крана, а по вечерам обычно мылась в тазике, поливая из ковшечка. Душем, который находился в туалете, мне не хотелось пользоваться. Да и Тамара между делом успела сообщить, что в течение года она уже имела одиннадцать аварий с системой АГВ.
Завершив водные процедуры, я приготовилась ко сну, расположившись на отведенном мне диване через стол напротив её кресла, натянула на себя толстую домотканую простыню, которую по причине непрекращающейся ни днём ни ночью жары, я собиралась использовать вместо одеяла.
Было уже два часа ночи, а мы всё не спали. Закончив свою программную речь, она, наконец, успокоилась и внимательно глядела на меня, загадочно улыбаясь и слегка прищурив глаза. А глаза её – как будто два тоннеля, из глубины которых свет фар выносит целые эпохи. Она много помнила ещё из доисторической эпохи, когда я – как говорила мне мама в таких случаях – ещё птичкой летала. Там, в голодных тридцатых, а потом в полных лишения сороковых осталось её детство. Но она сейчас вспоминала о моём детстве, о моей юности – это была её молодость, наверное, незабываемые годы. Она любила наш дом, любила сидеть с нами за столом и обсуждать крамольные тогда темы об искусстве и свободе. Они часто спорили с папой: папа любил подтрунивать над ней, сводить её идеи к абсурду. Мы все смеялись. Мама прикрывала плотно дверь в коридор, чтобы соседи не слышали разговора, и учила меня с раннего детства: что говорится в доме за столом, нельзя повторять больше нигде и никогда!
Но кроме этого маминого запрета ничто не омрачало моё детство. Солнечный свет лился из огромных окон нашей коммунальной кухни. В лучах солнца часами нежился кот, которого я иногда мучила; была няня и были соседи – и все относились ко мне с уважением, кроме кота, конечно. Мы с мамой часто ездили в Елисеевский магазин или универмаг ДЛТ на Желябова и, несмотря на то, что и там и сям приходилось стоять в очередях, мне нравились эти поездки и нравился Невский проспект – его величественная каменная стать и грязно-блеклые, давно не ремонтированные фасады. Архитектурный пейзаж Невского проспекта, особенно в ненастные осенние дни, напоминал мне чёрно-белые иллюстрации к книжке Самуила Маршака «Мистер Твистер». И я понимала, что на земле таких городов мало, куда бы могло занести Мистера Твистера. Провожая взглядом из автобуса дома, облицованные серым гранитом, я представляла себе, какой бы дом захотел купить «мистер Твистер – бывший министр, владелец заводов, газет, пароходов», после того, как он отказался жить в «Англетере», увидев там чернокожего гостя. Наш автобус сначала делал остановку у гранитного мавританского дома – задания касс Аэрофлота. Ни этот дом, ни угловой гранитный дом, как и любимый мною дом из серого гранита с большими окнами на другой стороне улицы, где располагалось ателье дамского трикотажа, называемое в народе «Смерть мужьям», не подходили. А вот на следующей остановке, в доме Мертенса, где на втором этаже был Дом моделей, мистеру Твистеру наверняка бы понравилось. Кроме мистера Твистера в голове у меня было полно всякой другой чепухи. К тому времени я уже коверкала два иностранных языка, освоила нотную грамоту и «концертировала» под аплодисменты, когда в наш дом приходили гости.
И вот тогда её принесло ко мне каким-то странным ветром, совсем как Мэри Поппинс. Естественно, я сразу же получила указкой по рукам и была низведена на класс ниже, то есть вместо Полонеза Огинского мне пришлось снова переигрывать нехитрые пьески типа «Жили у бабуси два весёлых гуся», чтобы почувствовать гармонию, научиться держать руки и растягивать кривоватые мизинцы, которые с трудом охватывали октаву. Я рыдала – до этого никто надо мной так не издевался. И когда мне, наконец, позволили играть этюды Черни, я колотила по клавишам в исступлении, стараясь попасть в такт метроному, чем оглушала интеллигентных и, в основном, сочувствовавших мне соседей.
Когда я подросла, образ Марии Израйлевны, как я её тогда называла, мне обычно представлялся выплывающим из осеннего тумана или снежной бури. Она всегда спешила, у неё было много забот: учёба в консерватории, преподавание в училище и частные уроки. Бывало, что мы вместе ходили в филармонию. Иногда она доставала билеты на «редкого» исполнителя. Я ждала этих концертов с нетерпением – в такие моменты она излучала особую энергию. Она одевалась просто, но и в одежде, и в прическе, и в нехитрых украшениях всегда присутствовала цветовая гармония, и этим она выделялась на фоне общей серо-чёрной массы. Мы встречались у входа, и я каждый раз боялась, что она опоздает. Она неизменно появлялась в последний момент и, поправляя растрепавшуюся копну пышных подкрашенных хной волос (наверное, у неё уже тогда была седина), подталкивала меня – скорей, скорей, ещё надо успеть в гардероб. Когда мы потом бежали вверх по лестнице, внутри у меня звучал большой оркестр, обязательно с барабанами и литаврами, и как будто дирижер взмахивал палочкой в такт нашим усилиям на марше лестницы.
Я тоже её изучаю: морщин у неё мало, щёки не провисли, а наоборот – кожа натянулась на широких выступающих скулах, и от этого она кажется моложе. Она называет много имен – это имена её родственников, учеников и просто знакомых. Время от времени меня это утомляет и я клюю носом. Я не могу ни запомнить их, ни понять взаимосвязи между ними, даже не могу вспомнить большую часть её учеников, которых должна была знать по музыкальной школе – ведь прошло столько времени! Хотя некоторых помню, особенно тех, кто помогал ей при частых переездах с одной квартиры на другую. Сколько квартир она сменила в Ленинграде! И это с книгами и пианино. Мне интересно узнать, как она жила после того, как выучила меня и вскоре исчезла с моего горизонта, а потом внезапно уехала в Одессу навсегда.
В большой комнате на всех четырех стенах картины в старых рамах, конечно, репродукции. Из простенка между окон ко мне направляется знаменитая «Шоколадница» Лиотара. Когда Тамара утром приносит чай и мы садимся за стол, я всегда смотрю на шоколадницу. Она создает настроение. Откуда все эти репродукции? Хочется узнать историю каждой вещи. Но даже, когда я ничего не спрашиваю, меня заливает потоками её красноречия. И я стараюсь не задавать лишних вопросов, иначе мы не выйдем отсюда до зимы.
На боковых стенах пейзажи Левитана, а в уголках и над небольшими старинными столиками – картинки малого формата: акварели, рисунки, вышивки. И ещё одна, совершенно необычная картина, наверняка польского художника. Это я определяю моментально, и это действительно так. Открытый рояль, за роялем в полумраке квартет, и люди, сидящие в импровизированном партере, самозабвенно слушают музыку. Мужчина с острой бородкой вытянулся вперед, положив руки на спинку переднего стула, словно ловит растворяющиеся в воздухе пассажи. Рядом женщина, опустив голову на вытянутые руки, тоже опирается на спинку стула, словно пытается вздохнуть после того, как заставила замереть свое сердце, уносясь куда-то со звуками музыки.
– Ты поняла-а? – спрашивает Тамара, загадочно улыбаясь.
Меня внезапно осеняет, как будто подсказка приходит из её головы.
– Они слушают Шопена.
– Конечно, милочка! Это 2-ой концерт Фа минор, – радуется она и продолжает, – я не знаю, чья это картина и когда она была написана, ты должна помочь мне, узнай все, что сможешь.
Я обещаю. Для этого делаю фотографию картины. Но тот мой учитель, который смог бы найти ответ на этот вопрос, уже там – далеко. Может, он и слышит меня, но только я его не слышу. Вздыхаю и перевожу взгляд на акварельки.
Увидев, что акварельные пейзажи над столиком с её безделушками привлекли моё внимание, она рассказывает историю о студенте Академии художеств, который однажды встретил на Василевском острове высокую худую девушку в ярком платье и просил её стать его моделью, музой и возлюбленной. Конечно он, как и многие другие, получил отказ, но стал другом, и когда она в очередной раз уезжала в отпуск домой, подарил ей эти пейзажи.
Я узнаю её манеру складывать книги на стулья и вешать одежду на спинки стульев и не могу оторваться от дорогих её сердцу предметов.
Я уже совсем осоловела, кутаюсь в свою домотканую простыню, но Тамара, видно, ещё не собирается отходить ко сну.
– Хотя мама меня не любила, – говорит она невозмутимо, – она считала нужным учить меня музыке с четырех лет…
Я вздрагиваю при этих словах, но сейчас мне не хочется выяснять, почему мама её не любила, и как вообще такое могло быть, хотя слышу это уже не в первый раз. Ещё в детстве я знала, что у Тамары была красавица-сестра, которая к тому же проявляла большие способности к математике, а она, Тамара, была не оправдавшим надежды ребёнком. И ещё тогда меня возмущала эта несправедливость. Потому что это она, со своей непримиримостью ко злу и тонким чутьем к красоте, научила меня отделять семена от плевел. И когда она в очередной раз нарочито вставляет в рассказ о своей сестре, благополучно отбывшей в Америку двадцать лет тому назад, фразу: «Ты понимаешь, я ведь не должна была родиться, это просто недоразумение», – я перевожу разговор на другую тему.
– Я раньше писала вам на улицу Воровского, и номер дома был другой.
– Сейчас, лапочка, всё объясню, – неожиданно легко переключается Тамара. – Конечно, у меня была большая квартира, где мы раньше жили всей семьей, и кухня с окном, но я её поменяла по двум причинам. Во-первых, зачем мне такая большая квартира? И, во-вторых, – Оля. Но, впрочем, это не так важно. А историческое название улицы, на которой я живу, – Малая Арнаутская, и я рада, что она опять стала Малой Арнаутской.
Тамара поднимается из кресла и поворачивается к окну с широким подоконником, заваленным книгами, статуэтками, какими-то коробочками и сухими цветами. Поправляет не задернутую штору, и задумчиво произносит:
– Я вижу, лапка, ты уже совсем спишь. Спи, я тебе завтра всё расскажу.