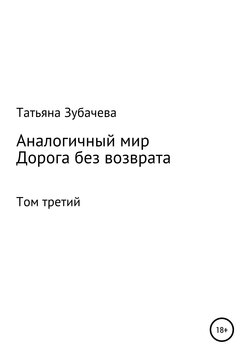Читать книгу Аналогичный мир. Том третий. Дорога без возврата - Татьяна Николаевна Зубачева - Страница 2
Книга седьмая
Все будет хорошо!
121 год
Зима
Тетрадь пятьдесят вторая
ОглавлениеРоссия
Ополье
Турово
Чолли колол дрова. Ставил чурбак, взмахивал топором и всаживал его в дерево, разваливая чурбак пополам. И каждый раз, выпрямляясь для очередного замаха, видел в окне мордашки Мишки и Светки. Смотрят, не отрываются. Папка дрова колет. Поленья разлетались, блестя чистой белой древесиной. Хорошие дрова, сухие, и разлетаются со звоном. Белая кора хороша на растопку. Ему сказали: это берёза. Бе-рё-за. Русское дерево. Позади кошмар дороги. Нет, он понимает, что для них сделали всё возможное. Дали пайки, на больших пересадках горячий обед по талонам. В вагонах было тепло. Ни ему, ни Найси, тьфу ты, Насте, конечно, никто слова плохого не сказал. Мишку и Светку угощали конфетами. И всё равно. Ехал и трясся. С каждым днём всё холоднее, а ни у Насти, ни у детей ничего тёплого нет. И не купишь. Обменяли ему на границе его крохи. Три рубля сорок восемь копеек. Сейчас смешно: как раз на бутылку водки, а тогда… два рубля ушли в дороге. Дважды брал постель для Насти с детьми. А сам спал, как был. Сапоги под голову, курткой укрылся… Ну, и приехали, рубль с мелочью в кармане, на улице метель, а им ещё до Турова добираться. Сидели в Комитете и ждали, пока до Турова дозвонятся: подтверждают ли те заявку. Страшно было подумать, что может сорваться. Но… пронесло. Подтвердили. И тут сказали, что на Турово автобус идёт. И билеты – рубль пятьдесят. Хорошо, две копейки кондуктор одолжил.
Чолли поставил очередной чурбак, оглядел его. Да, с этим повозишься.
– Бог в помощь, – окликнули его из-за забора.
Чолли оглянулся. А! Это Николай. Они в одной бригаде, и дома по соседству.
– Спасибо.
– Хорошие дрова?
– Во! – Чолли показал Николаю оттопыренный большой палец и развалил чурбак. Сам не ждал, что получится с одного удара.
– Ловко, – одобрил Николай.
– Топор хороший, – Чолли старательно выговаривал русские слова.
Он положил топор на колоду для колки и стал собирать поленья. Из дома выбежала Настя и стала помогать ему. Без куртки, в одном платке на плечах.
– Брысь в дом! – рявкнул на неё Чолли по-английски. – Грудь застудишь!
Настя подхватила охапку поленьев потоньше и убежала в дом. У печки должен запас лежать. Это она ещё с Алабамы помнила, где зимой достаточно намучилась с собранными в парке сырыми сучьями.
Чолли уложил поленницу, натянул на неё чёрную жёсткую ткань и прижал жердями. Все здесь так делают, но надо бы и навес поставить. Подобрал все щепки и пошёл в дом, захватив по дороге топор. Хорош русский, да, правильно, потому и колун, что для колки дров, а для всего другого и топор другой, он уже договорился, что сделают ему с местной особой заточкой. Мишка и Светка исчезли из окна. Встречать побежали – усмехнулся Чолли.
И вправду, не успел он порог в кухню переступить, как они с визгом ткнулись ему в ноги.
– К-куда! – остановил он их по-русски. – Я с холода.
Настя взяла у него щепки, положила к лучинкам.
– Раздевайся. Обедать.
Настя тоже старалась говорить больше по-русски. И получалось у неё неплохо. Всё-таки не впустую они в лагере просидели.
Чолли расстегнул и повесил на гвоздь у двери куртку, стащил сапоги и смотал портянки. Обычно Настя разувала его. Так у них повелось с того далекого дня, когда Настя, а тогда ещё Найси, в первый раз встречала его с работы. Он вошёл и сел на кровать. Просто перевести дыхание. Хозяйская работа отнимала все силы, и он привык, приходя домой, посидеть, а то и полежать, свесив ноги, и только потом, чуть отойдя от усталости, разводить в камине огонь и варить себе кофе и кашу. Но огонь уже горел, и каша булькала в котелке. Он и не понял сначала, зачем Найси села перед ним на полу, когда она вдруг потянула с него сапог. Он дёрнулся, а она сказала:
– Ты же мой муж.
Так и повелось. И здесь Настя делала так же. Но это вечером, а сейчас он пришёл на обед. Ему ещё идти работать. Так что… Чолли пошевелил пальцами ног и босиком пошёл к рукомойнику. Рядом висит полотенце. Холщовое, обшитое по краям красной тканью. Подарили. Им всё тут подарили. Ничего же у них не было. И денег нет. За ссудой он только завтра поедет. И тогда расплатится. За дрова, постели, картошку, крупу, мясо, молоко… всё это он же в долг взял. А ещё купит себе и Насте тёплой одежды, посуды, белья… ссуду обещали большую. И на человека и ещё семейных, всего, да и не сосчитать так сразу. И получается… С ума сойти! Он потому и договорился поехать с другими мужчинами. У них в городе свои дела, но главное – обратно вместе, а то с такими деньгами в одиночку и страшновато.
Мишка и Светка чинно ходили за ним по пятам, но, как только он сел за стол, полезли к нему на колени. Настя поставила перед ним миску с густым супом из мяса и капусты и согнала детей.
– Отец ест. Не мешайте.
Чолли взял лежавшую на столе буханку, отрезал себе ломоть и поднял на Настю глаза.
– А ты? Ела? А они?
– Кормила я их. Всех накормила, – улыбнулась Настя.
– Себе налей, – строго сказал Чолли.
Настя послушно принесла и себе полную миску и села напротив. Малыши, получив по куску хлеба, вгрызались в тёмную ноздреватую мякоть, а Настя ела и рассказывала Чолли, что заходила Макарьиха, принесла Паше одеяльце. Красивое, из треугольников сшитое, и вот, показала, как «щи в печке томить», правда, вкусно? Чолли кивнул. Макарьиху, высокую худую старуху, он уже знал. Из её шести сыновей с войны вернулся только один и больным. Что там у него Чолли из разговоров не понял, но тот мог есть только тёплое жидкое и понемногу, но часто. Так что Макарьиха носила сыну еду прямо в конюшню. И вот, значит, к Насте забежала. Ну, Настя добрая и улыбчивая, местным понравилась, вот ходят, учат. Печь – не камин, и вообще… Нет, жаловаться грех. Приняли их… лучше и не бывает, и не надо. Сразу дали дом. Не дом, а домина, на два этажа, а ещё подпол и чердак. Дескать, вас уже пятеро, а сколько ещё будет? Чтоб ни сейчас, ни потом не тесниться. И они ещё стояли в кухне, озирались, не веря, что это их дом, как постучали. Дрова им привезли. Трое саней аккуратных чурбаков, только поколоть нужно, и отдельно сани уже поленьев, чтоб сразу затопить. Он не знал, что и сказать, куда их сложить. И закрутилось… А ведь когда вышли из того автобуса и зашли в контору к директору, он поглядел, и таким страхом обдало, как увидел эти холодные глаза, чисто выбритое лицо. «Ну, всё, – подумал, – опять попал к такому же». А оказалось…
Чолли доел и вытер миску остатком хлеба.
– Сейчас каши положу, – вскочила Настя.
– Нам! – подала голос Светка.
– И им положи, – кивнул Чолли и улыбнулся.
Были такие тихие, а теперь горластыми стали, не боятся никого. Заходит когда кто, так не прячутся, а ведь соседи все белые.
Каша масленая, жирная. И крупа хоть и тёмная, но чистая. Как её здесь зовут?
– Гречка? – спросил он, проверяя себя.
– Ага, – кивнула Настя. – Чолли, долг большой у нас?
– Ссуду получу и расплачусь, – он сосредоточенно посмотрел на евших из одной миски малышей. – Масло откуда? Купила?
Настя робко кивнула.
– Привезли сегодня. Все брали, ну и я…
– Под запись?
– Ага. Чолли, ты завтра в город поедешь?
– Да. С Николаем, и ещё там мужики собираются. На автобусе.
– А мы? – вдруг спросил Мишка.
– Малы ещё в город ездить, – отрезала Настя. – Ложками ешьте, ишь лапы в миску суют.
С ложками у малышей получалось плохо, и они помогали себе руками.
– Покупать там ничего не буду, – Чолли доел кашу и уже только для порядка и по привычке вытер миску хлебом и кинул его в рот. – Всё домой привезу. И так…
Он не договорил, но Настя кивнула. В поселковом магазине им открыли запись. Берёшь, тебе записывают, а потом платишь. Они уже столько набрали и ни копейки не заплатили, а нужно-то ещё больше. Хорошо ещё, что им надарили всякого. И в лагере, и здесь. Ухват вот, кочергу, полотенце, половичок у кровати, колыбель для Паши… Дом совсем пустой был. Если кто и жил здесь раньше, то после прежних жильцов ничего не осталось. И купили, опять же под запись, шапку и бурки Чолли. Да ещё ему рабочую одежду выдали. Куртку и штаны, ватные, тёплые. И всё новенькое, куда лучше собственных. Настя поставила на стол кувшин и налила молока.
– Тебе-то хватает? – недоверчиво спросил Чолли.
– У меня своего хоть залейся, – засмеялась Настя. – Паша вон плюётся от всего, так насасывается. Тяжеленный стал.
Чолли допил молоко и встал. Подошёл к колыбели. Толстощёкий малыш спал, смешно шевеля во сне пухлыми, как у Насти, губами.
– Ну, пусть спит, – решил Чолли. – Вечером приду, – и щегольнул новым словом, – потетёшкаю.
Настя подала ему носки и портянки, и когда она только успела их на печке пристроить, и вот уже сухие, тёплые, надеть приятно. Чолли натянул опять сапоги – ему сейчас конюшню мыть и чистить, нечего бурки мочить, в них он завтра в город поедет – натянул куртку. Тоже свою старую рабскую. Настя подала ему ушанку и прогретые на печке рукавицы. И проводила до дверей. Дальше её Чолли не пустил: холодно.
Плотно закрыв за собой дверь, Чолли прошёл сенями и вышел на крыльцо. Опять ветер со снегом. Крутит и крутит. Могут завтра автобус отменить, если дорогу занесёт. Тогда он опять в город не попадёт. Хреново.
Чолли спешил, но не смог не оглянуться на свой дом и не махнуть видневшимся в окне лицам. Там, в Алабаме, Найси, провожая его на работу, стояла в дверях и смотрела вслед, пока он не скрывался за деревьями, но здесь холодно.
Его догоняли и обгоняли такие же, как он, ходившие домой обедать. Многих он уже знал в лицо, а свою бригаду и по именам. Да, его взяли конюшенным рабочим, до конюха ему ещё далеко, кони здесь… не чета тем, алабамским. Впервые увидев этих золотистых красавцев, он застыл с раскрытым ртом, забыв обо всём, даже о Насте с детьми. Вышел тогда из конторы, увидел и обмер. И понял, что отсюда не уйдёт, на всё согласится, лишь бы видеть их, работать с ними. Самым красивым, ладным конём считал Байрона, а Байрон – кляча уродская рядом с этими, а о других и говорить нечего. И директор понял его, стоял и курил, не торопя. Сам потом отвёл их в дом и сказал, что это их дом, весь, целиком, с подворьем. И глаза у директора были уже не холодные, а нормальные синие глаза.
Войдя в тёплую, пахнущую конским духом конюшню, Чолли заглянул к своему любимцу – Раскату. Погладить, сунуть посоленную корку. Ходил за Раскатом конюх из другой бригады, и Чолли общался с Раскатом урывками и украдкой, чтоб не нарваться, по старой памяти, как хозяин издевался над ним, заметив привязанность к какой-то из лошадей. Раскат уже узнавал его, приветствовал тихим ласковым ржанием, угощение брал вежливо, не из жадности, а из удовольствия.
Чолли кормил Раската, когда конь вдруг настороженно дёрнул ухом. Чолли вздрогнул и обернулся. Но это был Степан из его бригады.
– Я сейчас, – сказал ему Чолли.
Степан внимательно посмотрел на него, на Раската. Покачал головой и молча ушёл. Чолли похлопал Раската на прощание по шее и побежал в своё крыло. Отлынивать от работы он никогда не отлынивал, а уж здесь-то… к тебе по-человечески, так и ты будь человеком.
Работая, он то и дело ловил на себе взгляд Степана, взгляд непонятный и потому тревожный. Или здесь вовсе нельзя в чужое крыло заходить? Ну, пожалуется Степан на него бригадиру, так тот наложит вычет, не выгонят же за это? За пьянку выгоняют сразу, это ему в первый же день объяснили, а об этом ничего не говорили. Но, всё больше беспокоясь, он продолжал работать. На перекур, правда, пошёл со всеми, но Степан его окликнул:
– Чолли!
– Чего? – обернулся он.
Степан всегда говорил медленно, с расстановкой, а сейчас, когда вдруг, к изумлению Чолли, перешёл на английский, то пауз было больше, чем слов.
– Я видел… как Раскат к тебе… Раскат… на тебя… глаз положил… По душе ты ему… Туровец если… душой… к кому… прилепится… под другим… ходить не будет… Твой он теперь… Его… директору делают… а он твой…
Чолли мгновенно понял, во что вляпался, и похолодел. За это точно выгонят.
– И что мне делать? – глухо спросил он Степана.
– Не ходи к нему… может… и забудет.
Чолли угрюмо кивнул. Степан ушёл, и он снова, не дожидаясь бригадира, взялся за работу. Ну… ну, не мог же он знать этого. И ничем Раскат не лучше других, и… и он просто шёл мимо, и как в душу ему этот конь посмотрел. И вот…вляпался. Байрон тоже хозяйским был, он потому и чистил, и убирал его с особым тщанием, так это он свою спину от плети оберегал, а душа у него к Байрону не лежала. И здесь. Все хороши, все на загляденье, а Раскат… на особицу. Но ладно. Оторвать от сердца и не вспоминать, чтоб не саднило. В первый раз ему, что ли…
Он доработал и вместе со всеми ушёл из конюшни, даже не поглядев в сторону другого крыла.
На улице уже смеркалось. Ветер и снег утихли, значит, автобус будет.
– Значит, как договорились с утра.
– Ну да.
– Смотри, не проспи.
– С молодой-то женой, да…
– Не опаздывай, водила ждать не будет.
– Ну да, у него график.
Так, перекликаясь и переговариваясь, со смехом и весёлой необидной руганью расходились по домам. И снова Чолли радостно увидел, какой у него большой и крепкий дом, не хуже других. И окна светятся. Но у всех из-за занавесок ровным мягким светом во всё окно, а у него жёстким лучом. Ничего, занавески они тоже купят.
Чолли толкнул калитку, по узкой плохо утоптанной, а не расчищенной дорожке подошёл к крыльцу и поднялся по покрытым снегом ступенькам. Надо сейчас взять лопату и расчистить крыльцо и дорожку. Чтоб у него не хуже, да и Насте удобнее ходить. Он вошёл в сени. Сразу открылась дверь в кухню, и выглянула Настя.
– Пришёл?
– Да, я. Сейчас дорожку и крыльцо расчищу.
– Чолли…
– Закрой дверь, тепло выпустишь, – бросил он, уже выходя с лопатой. Тоже соседский подарок. Специально для снега.
Снег мягкий, не слежавшийся, и потому Чолли управился быстро.
А когда вошёл в тёплую, даже жаркую кухню, Настя сразу подбежала к нему и стала расстёгивать на нём куртку, потом усадила на лавку у печки, стащила с него сапоги и портянки и подставила ему под ноги лоханку с горячей водой. Чолли закатал штанины и опустил ступни в воду, пошевелил пальцами, откинулся, опёрся плечами и всей спиной на печку и сидел, чувствуя, как окутывают его тепло и тишина.
– Чолли! – он вздрогнул и посмотрел на улыбающуюся ему Настю. – Ужинать.
Чолли, тоже улыбнувшись, кивнул. Настя подала ему полотенце и, когда он вытер ноги, убрала лохань. Что ж, пол у них чистый, в доме тепло, так что свободно можно и босиком. Мишка со Светкой полезли к нему на колени, наперебой рассказывая о своих делах за день. Он слушал их лепет, дышал запахом их головок, смеялся с ними, и над ними, и над собой. Подал голос и Паша. Чолли ссадил Мишку и Светку на пол и подошёл к колыбели. Улыбнулся малышу и, увидев его ответную улыбку, взял на руки, прижал к себе, подставил лицо крохотным пальчикам, ощупывающим, дёргающим и толкающим.
– Чолли, готово уже, – позвала Настя.
Он положил Пашу обратно в колыбель, где тот сразу недовольно захныкал. Чолли покачал, успокаивая, колыбель и повернулся к столу. Мишка и Светка уже сидели за столом, и Настя расставляла миски с кашей. Тоже по-новому. В Алабаме они все ели из одной. А здесь сразу три купили. Насмотрелись в лагере. Молоко на этот раз Настя налила в кашу. Щедро налила.
– Чолли, врач приходила.
– Что? – нахмурился Чолли. – Зачем?
– Она просто детей посмотрела. Ну и, – Настя смущённо улыбнулась, – похвалила. Что сытые, чистенькие. Что, – Настя набрала полную грудь воздуха и старательно выговорила: – развиваются соответственно возрасту. Вот я запомнила. Чолли, а это что?
– Мг-м, – пробурчал Чолли. – А как сказала? Ну, голос у неё какой был?
– Вроде, похвалила, – не слишком уверенно ответила Настя. – А так-то мне говорили про неё, что она, где дети, сама приходит, смотрит, советует.
– Тогда, ладно, – кивнул Чолли. – Ещё чего сказала?
– Что игрушки нужны, – потупилась Настя.
– Завтра, – решительно сказал Чолли. – Вот будут деньги… а так… ладно, – он хитро улыбнулся и повторил: – Ладно. Вот поем.
– И что, Чолли?
– Увидишь.
Малыши ещё дохлёбывали кашу, а Чолли встал и подошёл к печке, порылся в уложенных для сушки поленьях, выбрал полешко потоньше и достал из кармана нож. И сел у печки. Когда-то, давным-давно, ещё в резервации, был один – имени его Чолли не помнил – умелец. И нож имел и пользовался им… по-всякому. В том числе и вырезая из бросовых деревяшек фигурки. И Чолли – совсем тогда мальцу – как-то достался маленький – в его ладошку – конь. Потом нож нашли на обыске, и умельца расстреляли. Но теперь-то… как же он раньше не сообразил? Давно бы сделал. Ну, так, и ещё так, и ещё вот так. Мишка и Светка уже доели и подбежали к отцу, встали перед ним, завороженно глядя на его руки. Настя вымыла миски и ложки и тоже подошла посмотреть. Села на пол перед ним, и Мишка со Светкой, по-прежнему не отводя глаз, устроились у неё на коленях. Чолли притворялся, что, ну, ничего не замечает, но его губы так и морщились в хитрой улыбке. И наконец, усеяв пол вокруг себя обрезками и стружками, он поставил себе на ладонь конька и так, на ладони, протянул им.
Настя восхищённо ахнула, а Мишка и Светка так заорали, что недовольно раскричался Паша, и Настя побежала его кормить.
Оставив детей играть с коньком, Чолли убрал нож, подмёл и кинул в топку обрезки. Ну вот, хоть что-то. А завтра съездит за деньгами и… ладно, не надо загадывать.
Настя сидела на кровати и кормила Пашу. Чолли надел на босу ногу сапоги, накинул куртку и нахлобучил шапку. Взял лохань с грязной водой.
– Я мигом.
– Не застудись, – ответила Настя.
Когда он вернулся, она уже уложила Пашу и умывала на ночь Мишку и Светку.
– Я дом обойду, погляжу.
– Ага, – кивнула Настя, проводя мокрой ладонью по лицу Мишки.
Дом был пока слишком просторен для них, и они жили практически на кухне. Но каждый вечер Чолли обходил дом, проверяя окна и… и просто приучая себя к тому, что это тоже его. Кухня и три комнаты, здесь их называют горницами, внизу, а те две, что наверху, это светёлки. Всюду вкручены лампочки, полы Настя вымыла, и пустота. Но это пока. А так… ему уже говорили, что нехорошо, когда все в одной комнате спят, да ещё дети с родителями в одной постели. Но… но пока они живут в кухне. Наверху было прохладно, окна закрыты ставнями. Здесь будут жить дети. Не сейчас, потом. Будет много детей. Он не может собрать всех своих детей, он даже не знает, живы ли они, но… но этот дом наполнится детскими голосами и смехом, на полу будут лежать коврики и половики, будет стоять красивая мебель, дом пропитается запахами еды и довольства.
Чолли по лесенке спустился в сени и вошёл в кухню. Дети уже спали, а Настя в рубашке сидела на кровати, расчёсывая волосы, и улыбнулась Чолли.
– Угомонились.
Детей они укладывали пока с собой, как в Алабаме, в ногах общей постели. Отдельной кровати ещё нет, а печная лежанка в горнице, ещё свалятся ночью, ушибутся, испугаются. Кровать большая, всем места хватает. В доме тепло, одеяла ватные, можно, в чём ходишь, и не ложиться. Да и постель не так пачкается. Чолли не спеша разделся, складывая штаны и рубашку на табурет. В лагере, в бане он нагляделся, как одеваются другие мужчины, и здесь купил себе исподнего, сразу две смены. И Насте женщины, тоже ещё в лагере, объяснили. Теперь она спит в рубашке, а кофту и юбку на день поверх рубашки надевает.
– Ложись к стене, мне к Паше вставать.
Чолли кивнул. Настя быстро пробежала через кухню к выключателю и уже в темноте прошлёпала обратно. Чолли уже лежал, и она юркнула под одеяло, прижалась к нему.
– Чолли, занавески бы надо. Мне сказали, плохо, когда луна в дом заглядывает.
– Я не против, – улыбнулся в темноте Чолли.
Он осторожно кончиками пальцев погладил её по лицу.
– Платье тебе купим. И этот… кожушок.
Кожушком здесь называли женский полушубок. Настя вздохнула. Кожушок, большой яркий платок в розанах и с бахромой, сапожки или белые бурочки, да ещё юбка из-под кожушка тоже яркая, и чтоб с оборкой по подолу… Она как увидела это, так и обмерла. Сердце заныло: так захотелось. Ни словечка она Чолли не сказала. Дом гол, у мужа и детей сменки на теле нет, а она о нарядах болеет, а Чолли заметил.
– Дорогой он, – Настя потёрлась щекой о плечо Чолли. – И детям надо сколько всего.
– Хватит, – твёрдо ответил Чолли и впервые выговорил вслух подсчитанную сумму.
Настя приглушенно, чтобы не разбудить детей, рассмеялась.
– Ой, столько не бывает.
Рассмеялся и Чолли.
– Завтра увидишь. Спи.
Настя ещё раз погладила его по плечу и вздохнула, засыпая. Посапывали Мишка и Светка, да иногда причмокивал во сне Паша. Чолли улыбнулся. Завтра у него отгул. К восьми соберутся у конторы, кто едет в город. Николай обещал зайти. В город новую куртку надо надеть. Выдали её для работы, но она лучше его старой. И бурки на ноги. Не замёрзнет. И в городе всё-таки, в Комитете чтоб увидели, что он не шакал подзаборный, что с помойки и жрёт, и одевается. А Насте кожушок нужен и… и всё остальное, чтоб не хуже других смотрелась. И детям одежду, чтоб гуляли. И игрушки. Кроватки ещё три нужны, а то Паше скоро колыбель тесна будет. Пока всех троих в одну нижнюю комнату, тьфу, горницу, вторая – ему с Настей спальня, а третья… третья нарядная будет, гостей принимать, праздники справлять. Как говорят… Да, правильно, зала, сделает он залу. Но это потом, а пока… пока… Голова кру́гом идёт, сколько всего нужно. Ещё и ссуды не хватит. Придётся другую, которая с возвратом, брать. Конюшенному рабочему платят мало. Зарплата, сказали, два раза в месяц. Девятого аванс и двадцать четвёртого под расчёт, а сегодня… не посмотрел у входа в конюшню, там календарь висит, хотя толку-то смотреть, всё равно неграмотный. Шкаф в спальню нужен, гардероб, да комод для белья, на кухню для посуды шкаф, детям… Ещё вёдра нужны, занавески на окна, белья Насте и детям, рубашек бы ещё пару, в старой рабской только навоз выгребать, корыто, нет, это для стирки, а для Паши ванночку, чтоб купать. Он-то сам с мужиками в баню сходит, Настя с бабами, а детвору… дома мыть, так что ванночку большую брать. Мыла бы ещё хорошего, как у Мороза, Настя тот обмылок бережёт, только для лица. Полотенец нет, одно подаренное, а одно старое из мешковины, а здесь таким только полы моют, сапоги обтирать кладут…
Он уже давно спал, продолжая и во сне перебирать нужные покупки. И когда Настя вставала к Паше, он не слышал этого.
Многолетняя привычка вставать на рассвете разбудила его вовремя. Настя уже хлопотала у печи, разводила огонь, негромко звякала вёдрами. Чолли зевнул и осторожно, чтобы не разбудить детей, вылез из-под одеяла и сел на кровати, свесив ноги. Красноватый свет от раскрытой топки, серо-голубой свет от окна. Пора. Он ещё раз зевнул и потянулся.
– Поспи ещё, – сказала от печки Настя.
– Да нет, – Чолли встал и, как был, в исподнем, пошлёпал к умывальнику, умылся и, скинув рубашку, обтёрся до пояса холодной водой, прогоняя остатки сна.
Настя быстро обулась, надела куртку и повязала платок. Он и глазом моргнуть не успел, как она, схватив вёдра, убежала за водой. С водой здесь хорошо – прямо во дворе… как её, да, колонка. А к большому «старому колодцу», что на дальнем от их дома конце, бабы не за водой, а языки почесать ходят. Но это днём, а с утра у всех дел полно. Чолли подошёл к печке, поправил огонь. Со двора вернулась Настя с полными вёдрами. И Чолли уступил ей место у печки. Там, в Алабаме, он тоже в воскресенье, когда не надо было бежать ещё затемно на работу, лежал на кровати и смотрел, как Найси суетится у камина. И дети ползали прямо по нему. Спали тоже все вместе, и Маленький у груди… Чолли подошёл к колыбели, посмотрел на спящего Пашу, потом к кровати, поправил маленькое одеяло, укрывающее детей, и развернул, расправил их с Настей, большое, взбил подушки. Да, перьевые совсем не то, что соломенные, как были там.
– Чолли, – позвала его Настя. – Готово у меня.
Верхний свет она не включала, чтобы не разбудить детей. И чтоб это чёртово колёсико на счётчике в сенях не крутилось, не нагоняло денег. Да и светло уже. От раскрытой топки, где играло пламя, тянуло жаром, и Чолли сел за стол, как был, без рубашки.
Настя поставила перед ним миску с вчерашней разогретой кашей и кружку горячего чая.
– А себе-то, – напомнил ей Чолли, разворачивая тряпку с остатком хлеба.
– И я сейчас сяду, – ответила Настя, ставя себе миску и кружку.
Они ели, сидя напротив друг друга, и Настя влюблённо глядела на его лицо, на красноватые отсветы на сильных бугристых плечах, на мерно двигающуюся челюсть и, на чёрные, жёстко топорщащиеся волосы, припыленные сединой. Чолли встретился с ней глазами и улыбнулся. Улыбнулась и она.
– Ты не беспокойся. Ничего с нами здесь не случится.
– Я знаю, – кивнул Чолли. – Без куртки не выскакивай. Застудишься.
– Ага, – кивнула Настя. – Ты тоже… осторожней там.
– Не один еду.
Чолли доел кашу и стал пить чай. Торопливо доела и допила Настя, заботливо завернула в тряпку хлеб.
– С собой возьми, пожуёшь в дороге.
– Не выдумывай, – отмахнулся Чолли, вылезая из-за стола.
Настя подала ему нагрудную сумку с полученной позавчера справкой из конторы. Ну, что такой-то там-то работает и проживает. А то без неё ссуду и не дадут. Комитету тоже отчитываться надо. Чолли надел сумку и стал одеваться. Не спеша натянул исподнюю рубашку, застегнул. Теперь верхнюю. Всё та же – рабская, выцветшая, заплатанная, зашитая. Да, нужны рубашки, а то стыдоба одна. Штаны тоже рабские, новые ватные пускай полежат, в автобусе тепло. Портянки, бурки. А куртку наденет новую, его рабская совсем страшная, и шапка тоже новая. Настя восхищённо оглядела его.
– Так, дров я подколол, – Чолли уже слышал, как топочет на крыльце, оббивая снег с бурок, Николай. – Аккуратно бери. С ближнего конца, там они потоньше.
– Доброго вам утра, – вошёл в кухню Николай, сдёрнув ушанку.
– И тебе доброе, – старательно ответил Чолли.
– Доброе утро, – улыбнулась Настя.
Вообще-то зашедшего в дом, надо пригласить к столу. Настя уже знала об этом и очень храбро предложила:
– Чаю?
– Спасибо, соседка, сыт, – Николай чиркнул себя по горлу ребром ладони. – Чолли, если готов, пошли. Автобус ждать не будет.
– Да, – кивнул Чолли. – Пошли.
Беря с печки рукавицы, мимоходом провёл ладонью по плечу Насти и вышел. Николай попрощался с ней кивком и вышел следом, надевая шапку. Настя стояла посреди кухни, свесив вдоль тела руки и глядя на закрывшуюся дверь. Потом, ахнув, метнулась к окну, но Чолли уже ушёл. Господи, как же это, он же оглянулся и не увидел её, господи, плохая примета. Господи… Она отошла от окна и старательно, стараясь не сбиться, стала креститься и шептать, как её научили женщины в лагере.
– Господи, спаси и сохрани, помилуй нас. Господи, помоги ему. Господи, спаси и сохрани…
Закряхтел Паша, и Настя, перекрестившись ещё раз, подошла к колыбели.
– Ну, чего ты? Есть захотел? – она достала ребёнка из колыбели. – А, да ты мокрый, ну, сейчас, Паша, сейчас, маленький.
Она положила сына на кровать, прямо на одеяло, подальше от края и распеленала. Пелёнок ей надарили… и в лагере, и здесь. Так что всегда есть во что, сухое да чистое, завернуть. И, как ей говорила врач, развернув и вытерев, опять положила, пусть… на свободе побудет, пока она смену готовит. Тепло, не простудится. Паша довольно загукал, и Настя рассмеялась, глядя на него.
– Мам, утро? – спросил по-русски Мишка.
– Утро, – ответила она тоже по-русски. – Вставайте.
Она вытащила из-под их одеяльца Мишку и Светку, отвела к поганому ведру, умыла, одела в чистые рубашки и трусики и дала по куску хлеба.
– Ешьте. Пашу покормлю и вам дам.
Она сидела на кровати и кормила Пашу, а Мишка и Светка жевали хлеб и глядели на неё. Настя улыбнулась. Её дети… Она старалась не вспоминать тех, четверых, она ничего не могла сделать, была рабыней, хозяин велел ей рожать, и она не смела ослушаться. Как и остальные. А Чолли смотрел на неё и молчал. А тогда – она помнит и всю жизнь будет помнить – хозяин напоил его, и он кричал и звал её. Найси. А потом… потом хозяин построил их, молодых рабынь, и Чолли, Чолли выбрал её. Чолли уже свободный был, мог уйти, вернуться в своё племя, а он остался. Ради неё остался. Она и тогда это понимала.
Паша сосал деловито, изредка кося на неё тёмными строгими, как ей казалось, глазами. Глаза у Паши, как у Чолли, и волосики не кудряшками, а пряменькие, и кожица чуть красноватая. Будет на Чолли похож. А Мишка и Светка – мулатики, ну, ничего от Чолли нет, хотя… у Светки волосы не кудряшками, а волной… Да и ладно, на это здесь совсем не смотрят. А Чолли всех их любит, все они его. А потом ещё будут. Врач в лагере ей говорила, чтоб она года два не рожала, отдохнула. Она кивала и об одном думала: как ей Чолли сказать, что белые им запретили… спать вместе. Но врач с Чолли сама поговорила. Хорошо, видно, говорила. Чолли ни обиделся, ни чего ещё. И здесь, как легли в кровать, так он… ну, без этого. Настя вздохнула. Называть это траханьем или по-господски случкой она не хотела, а других слов ни по-английски, ни по-русски не знала.
Паша наелся и уже сосал, засыпая. Настя высвободила сосок и положила сына на кровать. Полюбовалась ещё его пухленьким сытым тельцем и запеленала. Тоже по-новому, как учила врач в лагере. Сонный Паша позволял себя как угодно поворачивать. Он вообще был молчаливым и орал в исключительных случаях. Скажем, дали грудь и тут же забрали. Или, когда укол делали. Коснувшись губами его щёчки, Настя уложила малыша в колыбель, оправила ворот кофты и захлопотала. Мишку со Светкой накормить, опять умыть и потом мыть, убирать, чистить, стряпать, стирки уже накопилось… Работы не в продых. Но своя работа не тяжела.
И в этих бесконечных хлопотах день катился незаметно, как сам собой.
Зашла молодая весёлая Олеся, жена Олега из бригады Чолли, принесла детям – Мишке со Светкой – яркую цветную игрушку-пирамидку. Колечки на стержне. И поиграла с ними, показала, как её разбирать, собирать. Потом они вместе чая попили и поговорили. У Олеси своих двое. Постарше Мишки и поменьше Паши. Английского Олеся совсем не знает, но Настя уже многое понимает, а когда не робеет, то и говорит.
Потом Олеся убежала, а они обедали.
И только-только она уложила Мишку со Светкой спать, а Пашу опять покормила, как пришёл… В лицо Настя его знала, знала, что из начальства, но по имени – нет. И он только вошёл, как у неё чего-то испуганно заныло сердце.
В щегольском, на рыжем меху, кожаном пальто, в такой же рыжей шапке, краснолицый, он от двери осмотрел всё одним взглядом, как… как хозяин – похолодела Настя и встала перед ним, загораживая собой кровать и колыбель со спящими детьми.
– Та-ак, а мужик где? Как его, Чолли, ну?
Настя судорожно вздохнула.
– Нет Чолли. В город поехал. Отгул у него.
– Только работать начал и уже отгул, – страшный гость недобро усмехнулся. – А может, и загул? Ладно. Скажешь, как вернётся, чтоб на конюшню шёл. Поняла? То-то!
Сказал и ушёл. А Настя обессиленно села на лавку. Господи, неужели что… если Чолли выгонят, ведь велят всё, что им дали, сдать, так куда они зимой с маленькими? Замёрзнут ведь. Господи, за что? Да неужели не видят они, как Чолли на работе уродуется, да… да… Она заплакала. Тихо, чтоб не разбудить, не напугать малышей. Опять им бежать. Господи, куда?! Тогда они знали: к русским. А теперь куда?! Опять к хозяину? Лучше уж смерть. Хозяин не даст ей жить с Чолли, растить детей…
– Настя, ты чего?
Она подняла зарёванное, залитое слезами лицо и увидела Марину, жену Николая.
– Я тебе сковородку для блинов принесла, чего случилось-то? С детьми, не дай бог?
Настя замотала головой. Марина решительно сунула на стол узел со сковородкой, села рядом с Настей и обняла за плечи.
– Ну, и чего ревёшь-то?
Настя, уже не плача, а всхлипывая, путаясь в русских и английских словах, стала рассказывать. Наконец Марина поняла.
– Так это ты Тюхина испугалась? Ну и зря. Он только ревёт медведем, а так-то тюха и есть. Плюнь и разотри. И не реви – молоко испортишь.
Она заставила Настю умыться, потом посмотрела на спящих детей, восхитилась коньком, сделанным Чолли.
– Вот когда у мужика руки правильным концом вставлены, так у него и любое дело ладно. Золотой мужик тебе, Настя, достался. А ты реветь. Давай блины печь. Не пекла раньше? – Настя замотала головой. – Не велика наука, справишься. А на Тюхина плюнь. Ему что директор скажет, то он и сделает.
– Да-а, – вздохнула Настя. – А если директор Чолли…
– А что директор? Он же всё видит. Чолли – мужик работящий, толковый, – Марина засмеялась. – Да если что, директор в два дня выгоняет, а то и быстрее. А вы здесь уже сколько? Ну? И отгул Чолли дали. А если б что, то не видать отгула. Пока в полную силу человек не заработает, то об отгулах и речи нет. Только рот раскрой, так и отправят гулять. За ворота. Давай, утрись и муку доставай.
Блины оказались просто очень тонкими лепёшками из жидкого теста. Настя даже развеселилась, что у неё получается.
– Ну вот, – кивнула Марина. – А то вздумала из-за Тюхина реветь, тюха он и всё тут. Приедет мужик, блинами его накормишь. Ты их в печке пока держи, вот так, сбоку, чтоб не остыли. А это сметана к блинам. Поняла?
– Ой, Марина! – ахнула Настя. – Как это?
– А просто, – откликнулась Марина. – Мы, когда сюда приехали, Николай на фронте был, так и мне все так же помогали. Ещё кто приедет, вы с Чолли помогать будете. Разве не так?
– Так, – кивнула Настя.
Чолли уже говорил ей об этом.
– Ну, тогда побегу я к своим. Кричат, небось, уже, – Марина погладила себя по груди.
Настя поняла и улыбнулась. Да, здесь почти в каждом доме были грудные. Она уже заметила это.
– А, Марина, почему так?
– Что почему? – Марина уже наматывала платок.
– Ну, у каждой маленький? Как Паша. Почему?
– А-а! – Марина звонко рассмеялась. – Да как в Победу мужики вернулись, так и пошло косяком. Дело-то нехитрое. Дети Победы, понимаешь?
Настя закивала и тоже засмеялась. Она уже совсем успокоилась.
В автобусе было тепло, шумно и благодушно. Кто хотел, тот выпил в городе и теперь сосредоточенно жевал чеснок или ещё какую-то пахучую гадость, отбивая спиртной дух. Директор учует – объяснили Чолли – так мало не будет. Лёгкой пташкой за ворота и всё выданное верни. Кто ездил за покупками, теперь обсуждал цены и женские претензии. Семейные ведь все. А семья – первое дело.
Чолли тоже был доволен поездкой. В Комитете к нему отнеслись очень хорошо. Участливо расспросили, как устроился, в чём нужда, сказали, чтоб если что возникнет, то чтоб обращался сразу к ним. Дали деньги, всё полностью, сколько и обещали. Даже удивительно, чтоб белые и так слово держали. Но предупредили, что если гулять начнёт, по-пустому тратить, ну, и сам понимаешь, то и отобрать могут. Не на пьянку и разгул, а для обустройства дают, жить по-человечески и детей растить. Он сам так думал и почти теми же словами. А денег много, большущая пачка, еле в сумку поместилась. Хорошо, куртка просторная, скрыла. Одну тысячную ему тут же разменяли на сотенные, а одну сотенную на десятки, их он засунул во внутренний карман. Это ему в лагере Мороз показал, а он уже рассказал Насте, и она ему такой пришила на старой куртке, а в новой уже есть готовый. Удобно. И как ни давал себе слово, что все деньги, до рубля, привезёт домой, а потратился. Не устоял. Как и остальные… быть в городе и гостинцев не привезти нельзя. Непорядок. Вон как автобус набит. Мешки да коробки, да сумки и под сиденьями, и в проходе, и на коленях. А это ещё так… а вот когда под праздник собираются, то как обратно, то аж на крышу багаж увязывают. И вот, сотню в карман положил, потом ещё одну добавил, а везёт… рубли с мелочью. Но Николаю он долг сразу отдал – тот за него утром за билет заплатил – угостил всех пивом, как положено. Прописка есть прописка, с ним и так по-божески обошлись: по кружке пива каждому поставил и две пачки сигарет в общий круг выложил. Так что и здесь у него всё в порядке. А накупил… И детям, и Насте, и себе, и – самое главное – в дом. Да и кто бы устоял? Небьющаяся посуда. Это с его сорванцами первое дело. Мишка в лагере два стакана на молоке разбить успел. Здесь уже то миску, то кружку со стола столкнёт. А это… И лёгкая, и не бьётся, и нарядная, совсем как… господская. Видел он как-то мельком. Вот и купил большую коробку, где всего по двенадцать, здесь говорят, дюжина. И уж заодно ложки, вилки, ножи тоже по дюжине. Ножи заново наточить надо будет, точильный брусок тоже купил. И сумку купил, и набрал всего. Для всех. В жизни столько не покупал.
За окном медленно синела снежная равнина. За спиной Чолли негромко протяжно пели. Сидящий рядом Николай спал, слегка похрапывая. Чолли удовлетворённо вздохнул и откинулся на спинку сиденья. Он устал, и усталость была новой, незнакомой. Ведь не таскал, не грузил, а тело ломит.
Автобус подбросило на яме, оборвав песню.
– Ну, подъезжаем.
– Да, на фронт уходил, эта ямина была. Вернулся, а она на месте.
– Сказанул! Да я мальцом с отцом ещё в город ездил, так на ней каждый раз и…
– Эй, подъезжаем, мужики.
Николай зевнул и сел прямо.
– Ну как, Чолли, доволен?
– Во! – улыбнулся Чолли. – Завтра с утра?
– Нет, – вместо Николая ответил кто-то сзади. – В ночную завтра.
И сразу зашумели.
– Ты что, перепил? Смены путаешь?!
– Ночная с той недели.
– Сам ты… Завтра ночная…
Чолли посмотрел на Николая.
– Кому там в ночь охота? – спросил Николай. – С утра завтра.
– Ну да… чёрт, обсчитался.
– Вот дьявольщина, проспал бы…
– Бригадир разбудит, – хохотнули впереди.
– Ща спросим.
– Он не ездил.
– Вот и спросим.
– Всё, мужики, приехали!
– Там разберёмся.
Автобус круто развернулся, отчего уже вставшие с хохотом и руганью попадали друг на друга, и остановился. Скрипнув, открылась дверь, и с гомоном, разбирая вещи, повалили наружу. Чолли взял сумку и коробку с посудой и вместе со всеми пошёл к выходу. Ты смотри, темно уже. Весь день проездил. Ну, сейчас сразу домой.
Но сразу домой он не попал. Не успел выйти, как его позвали.
– Эй, Чолли, тебя ищут.
– Меня?! – удивился он.
– А больше индеев нету.
– Редокс здесь?
Чолли узнал голос директора, и сразу по спине пополз неприятный холодок.
– Да, масса, – ответил он по-английски и тут же по-русски: – Я здесь.
– Пошли!
Повелительный жест не оставлял сомнений, но Чолли растерянно оглянулся на Николая.
– А что такое? – спросил Николай.
– Увидите! – хмыкнул директор и повторил: – Пошли, Редокс.
Чолли послушно пошёл за директором, ничего не понимая и стараясь не показать свой страх. Но, оглянувшись, увидел, что Николай и ещё двое из бригады идут следом, и немного отлегло: всё-таки не один. Потом сообразил, что так и несёт в руках сумку и коробку, и подумал… и ничего не успел подумать, потому что подошли к конюшне и вошли… Но это не его крыло, их бригада в другом, а это… здесь же Раскат! Всё-таки, значит, донесли – со злой радостью подумал Чолли. И теперь, значит, расплата.
У входа в отсек их встретил черноусый бригадир, Чолли ещё не знал его имени. Увидев Чолли, бригадир хмыкнул:
– Ага, приехал, значит. Ну, иди, посмотри, чего натворил.
Кони беспокоились. Со всех сторон нервное фырканье, всхрапывания, частый перестук копыт, и впереди злое ржание, взвизги… Чолли узнал голос Раската и невольно прибавил шаг, обгоняя директора. У денника Раската молодой парень с синяком на пол-лица и в разорванной на плече рубашке сразу заорал на Чолли:
– Во, чтоб тебя… иди… сам свою тигру убирай…!
Он бы ещё круче завернул, но, увидев директора, поперхнулся. Чолли, начиная уже догадываться, поставил, почти уронил свою ношу на пол и подошёл к деннику Раската. Прижатые уши, налитые кровью глаза…
– Раскат, – тихо позвал он.
Конь дёрнул кожей на спине, как отгоняя муху, но позы не переменил. Чолли вошёл в денник, мягко взял за недоуздок и повторил уже в растяжку:
– Раска-а-а-ат.
По спине коня волной пробежала дрожь, он переступил с ноги на ногу, потом скосил на Чолли фиолетовый с гаснущим красным огнём внутри большой глаз и фыркнул, потянулся к Чолли, обнюхивая его лицо. Чолли погладил его по морде, провёл рукой по шее.
– Ну, что ты, Раскат? Что ты?
Раскат положил свою большую голову ему на плечо и вздохнул. Вздохнул и Чолли. Вот и всё. Раскат директорский, что теперь ему сделают – это плевать, а Раската жаль, ведь ломать будут. Жалко.
– Редокс.
Он обернулся. Дверь денника он оставил открытой. Директор, черноусый бригадир, парень с синяком, Николай, Степан… вот кто донёс! Ну… и опять ему не дали додумать.
– Отвязывайте коня, – распорядился директор. – Переведёте в другой денник. Савушкин, Грацию передадите Мотину.
Савушкин? Но так зовут его бригадира. Да, вот и он. Что происходит? Но его руки уже отвязывали недоуздок. Раскат ткнул его мордой в плечо, требуя хлеба.
– Нету сейчас. Потом, – ответил он коню.
И уже выводя Раската, вдруг заметил, что глаза у директора весёлые. И остальные улыбаются, не насмешливо, а радостно. И окончательно престал что-либо понимать.
Всё время, пока он вёл Раската в крыло своей бригады, привязывал в указанном деннике, задавал корм и воду – оказывается тот с утра никого ни к себе, ни в свой денник не подпускал – конь был кроток и послушен прямо… прямо… ну, слов нет. Чолли даже про вещи свои забыл и не вспоминал. Когда Раскат уже обнюхавшийся через верхние решётки с новыми соседями, успокоено хрупал овсом, Чолли вышел в проход, закрыл за собой решётчатую дверь и услышал от Савушкина.
– Раската сам обихаживать теперь будешь.
Чолли кивнул, но до него явно не дошёл смысл сказанного. И директор, улыбнувшись, повторил это по-английски, а по-русски сказал:
– Идите домой, Редокс. До утра он вас подождёт.
И все как-то сразу разошлись. А Чолли вспомнил про свои вещи. Но их, оказывается, захватил Николай.
– Держи своё. Пошли.
– Спасибо.
Чолли взял коробку и сумку, поискал глазами Степана, но того уже не было.
– Это Степан настучал, – тихо сказал он Николаю. – Больше некому.
– Не дури, – Николай обвёл взглядом ряд золотистых коней за деревянными решётками и повторил: – Не дури. Все не слепые.
На конюшне было уже тихо, лампы горели через одну и вполнакала. Многие лошади спали.
– Пошли, Чолли, – Николай почему-то вздохнул.
Чолли кивнул.
Они шли по мягко поскрипывающему под ногами снегу, и Николай говорил:
– Туровец, когда глаз на человека положит, когда душу ему отдаст, другого к себе не подпустит. Как забушует туровец, так уже ищем, кто ему на душу лёг. А Степан сказал, чтоб не искали да не перебирали. Так что… твой теперь Раскат.
– Как это мой?
– Тебе его убирать. Ну и, – Николай усмехнулся, – ну и ездить на нём. Объезжать тоже тебе придётся.
Чолли кивнул.
– Понял. А потом? Ну, объезжу я его. А потом он кому?
– Никому. Он твой, Чолли.
Чолли недоверчиво хмыкнул.
– Николай, кто мне его отдаст? Даже если… всю ссуду… если в рассрочку, мне за всю жизнь не выплатить.
– Никто тебе его продавать не будет. По закону нельзя. Но ездить на нём, работать его ты будешь, – Николай усмехнулся. – Захочешь, так к себе во двор на свою конюшню поставишь. Только продать никому не сможешь. И подарить. И по закону нельзя. И туровец дважды не выбирает.
Чолли задумчиво кивнул.
– А… слушай, мне сказали, Раскат директорский, директор как, очень обиделся?
– Михеич – мужик понятливый, – мотнул головой Николай. – И Раскат его не был. Директору две верховых положено, а по душе… Ладно, сам всё увидишь.
Они уже подходили к дому Чолли. С крыльца сорвалась и бросилась навстречу им тёмная фигура с отчаянным криком:
– Чолли!
– Здорово, соседка, – громко сказал Николай. – Ну, до завтра, Чолли. Не проспи, смотри.
– Ага, до завтра, – ответил Чолли.
Руки у него были заняты, и обнять припавшую к его груди Настю он не мог. Николай движением плеча поправил свой туго набитый мешок и пошёл к себе.
Настя шла, прижавшись к Чолли, и заметила его ношу, только поднявшись на крыльцо.
– Ой, Чолли, что это?
– Увидела наконец, – засмеялся Чолли, плечом открывая себе дверь. И щегольнул новым словом: – Гостинцы.
В кухне к нему с визгом кинулись Мишка и Светка. Чолли поставил на пол коробку и сумку и поочерёдно поднял, слегка подбросил и поймал малышей. Потом не спеша разделся. Когда Настя забирала у него куртку и шапку, он пытливо заглянул ей в лицо и нахмурился.
– Ты плакала? Почему?
Настя смущённо улыбнулась и стала рассказывать, перемешивая английские и русские слова. Выслушав её, Чолли кивнул.
– Я знаю, о чём это. Всё в порядке.
– Чолли…
Он улыбнулся ей и повторил:
– Всё в порядке. Я говорил с директором.
– Он… не выгонит нас?
– Нет, – Чолли погладил её по плечу.
Настя, успокоено всхлипнув, прижалась к нему. Он обнял её, погладил по голове.
– Ну, ну что ты, Настя? Всё в порядке.
Наконец она справилась с собой и захлопотала. С горячей водой, ужином, а тут ещё Паша проснулся и потребовал еды. Но вечер уже шёл заведённым порядком. Чолли сидел у печки, пошевеливая пальцами ног в горячей, медленно остывающей воде, и смотрел, улыбаясь, на Настю, кормившую Пашу грудью, на Мишку и Светку, крутившихся вокруг коробки и сумки.
– А что там? – спросила Настя. – Ты купил?
– Конечно, купил. Ссуду я получил. Поговорили со мной, хорошо говорили. Ну, и прошёлся там, – он говорил с деланной небрежностью, – по магазинам, по рынку. Набрал кое-чего.
Настя засмеялась, заколыхав грудью, и Паша недовольно гукнул.
– Завтра в магазин зайду, с долгом расплачусь, – Чолли удовлетворённо откинулся на печку, ощутив плечами и спиной приятное тепло. – И будем обживаться уже всерьёз.
– Как это?
– Мебель купим. Белья, одежды, посуды…
– Чолли…
– Хватит, Настя, – понял он её невысказанные опасения. – На всё хватит. Даже… – и оборвал сам себя, потому что это ещё надо как следует обдумать и посоветоваться с кем из знающих, и сказал уже другое, тоже обдуманное: – Корову купим.
– Ой?! – удивилась Настя.
Чолли кивнул.
– И кур купим. И поросёнка. Саженцы, семена. Сад сделаем, огород. Мы же не на год сюда приехали. На всю жизнь.
Настя кивнула, забрала грудь у заснувшего Паши и уложила его в колыбель. Чолли взял лежавшее на коленях полотенце, вытер ноги и встал. Убрал лохань с грязной водой.
– Я… блинов напекла, – старательно выговорила Настя. – Блины есть будем.
– Ладно, – согласился Чолли. – Поедим, и покажу, что купил.
В самом деле, ему всё выложить, так есть стоя придётся. Блины были тёплыми и оказались очень вкусными. Как Настя ни следила, Мишка со Светкой перемазались. У Мишки сметана даже на бровях оказалась. И Настя вывела их из-за стола умываться. Когда поели, Чолли встал, а Настя быстро убрала со стола и протёрла его тряпкой.
– Ну, – Чолли поставил на лавку сумку и расстегнул молнию, – смотрите.
На стол легли три яркие погремушки, резиновые с пищалками собачка, кошка и непонятный зверь, которого Чолли назвал странным словом:
– Обезьяна.
Потом голубенький нарядный комплект для Паши. Ползунки, кофточка и чепчик. Штанишки с рубашкой для Мишки и красное с белыми оборочками платье для Светки. Потом большой ярко-розовый в цветах платок, зеркальце на ручке, расчёска и щётка для волос, две рубашки в чёрно-зелёную и чёрно-красную клетку… Стол уже завален, а Чолли всё доставал и доставал… пакет с апельсинами и пакет с конфетами… и два куска мыла в ярких обёртках…
– Господи, Чолли…
Настя даже растерялась перед этим великолепием. А Чолли достал из сумки большую и явно тяжёлую коробку, поставил её на стол и торжественно открыл. Блеск уложенных в ровные стопки ножей, вилок и ложек, больших, поменьше и совсем маленьких, ослепил Настю.
– Господи, – растерянно повторяла она, – господи…
Чолли отнёс опустевшую сумку к двери, повесил на гвоздь и вернулся к столу уже с коробкой. Но прежде, чем открыть её, взял апельсин, почистил и дал Мишке и Светке по половинке.
– Ешьте.
И Настя как очнулась. Взяла платок и накинула на плечи, как видела уже у местных женщин, и повернулась перед Чолли.
– Хорошо? – улыбнулся он.
– Ох, Чолли, – выдохнула Настя. И указала на коробку: – А здесь что?
– Посуда.
Чолли развязал верёвку, раскрыл коробку и стал выкладывать на стол. Тарелки, тоже разные, трёх размеров, чашки, блюдца… Все белые, блестящие, в красных розочках по ободку.
– Вот, особая, небьющаяся.
– Чолли, – Настя осторожно протянула руку и тарелке, но не взяла её, а только погладила. – Это ж… это ж… по-господски. У хозяина такая была.
– А чем мы хуже? – победно улыбнулся Чолли.
– Чолли… – на глазах у Насти выступили слёзы. – Это взаправду, Чолли?
– Взаправду, – кивнул Чолли и обнял, прижал её к себе.
Настя обхватила его за шею, прижалась всем телом. И долго бы они так простояли, но Мишка полез на стол за апельсином и столкнул стопку маленьких тарелок. Те оказались действительно небьющимися, но шуму наделали. Проснулся и закричал Паша, заревел отшлёпанный Настей Мишка, а с ним за компанию и Светка. И стали наводить порядок.
Нарядную одежду Настя сложила обратно в сумку: больше же некуда. Игрушки отдали Мишке и Светке, а погремушки положили в колыбель. Конфеты и апельсины Настя положила на окно, а посуду составила на край стола у стены.
– Чолли, шкафчик нужен. Для посуды.
– Завтра, – кивнул Чолли. – Давай, я дом обойду и покурю. А ты их укладывай.
– Ну да, ну да, – закивала Настя.
Чолли натянул сапоги, надел шапку и старую куртку, достал из кармана новой куртки пачку сигарет и вышел на крыльцо. Все эти дни, как уехали из лагеря, он промаялся без курева. В поезде, правда, его пару раз угощали, и уже здесь пачку под запись взял. Но одно дело – одолжено, и совсем другое, когда куплено. И с домом так же, но нет, рано об этом, тут как следует обдумать надо, как бы новую кабалу на себя не повесить. Он с наслаждением закурил. В посёлке было тихо, и окна почти везде тёмные, спят все. О Раскате он Насте не сказал, не смог. Да и… да и незачем ей, наверное, об этом знать. «Твой он теперь». Чолли усмехнулся. Ему уже так давали. Корову. Да что там. И про Найси хозяин тогда ему сказал: «Забирай. Даю её тебе». А потом… И дом… Ладно, может… может, здесь и по-другому будет. Он докурил, тщательно растоптал, растёр на заснеженном крыльце окурок, потом подобрал его и пошёл в уборную. Туда выкинет. И по дому пройдётся.
Когда он вошёл в кухню, Настя уже успокоила и уложила детей. Пирамидка, конёк, собачка, кошка и обезьяна стояли в ряд на подоконнике. На другом лежали зеркальце, щётка и расчёска. Апельсины и конфеты на столе рядом с составленной в стопки посудой. Настя в одной рубашке стояла посреди кухни.
– Ты чего не ложишься?
Чолли повесил на гвоздь у двери куртку и шапку, разулся и подошёл к Насте. Она подняла на него глаза, вздохнула.
– Чолли, а чего ты себе ничего не купил?
– А рубашки? Целых две взял.
Чолли осторожно положил руки ей на плечи, и Настя с готовностью подалась к нему, прижалась грудью. Он обнял её.
– Ох, Настя, я сам не верю, что всё так вышло.
– Я тоже.
– Ладно, – Чолли тряхнул головой. – Давай ложиться, мне завтра рано.
– А что так?
Настя подошла ещё раз к Паше, посмотрела, как он спит, поправила одеяло детям. Чолли разделся, снял нагрудную сумку и засунул её подальше под тюфяк. Больше спрятать некуда.
И, когда они уже потушили свет и легли, он, как всегда, у стены, а Настя рядом и положила голову ему на плечо по алабамской привычке, когда долго спали на одной подушке, он ей ответил:
– Мне коня дают. За этим и искали меня.
– Ага, – шепнула Настя. – И что, вычитать будут или как?
– Не знаю. Но мне его отдельно обихаживать теперь.
– Хороший конь?
– Хороший. Раскат зовут. – Чолли повернул голову, коснувшись лицом её волос. – Всё, Настя. Спим. А то, не дай бог, просплю.
И, уже засыпая, подумал, что надо завтра остаток денег Насте отдать, ну, те, что у него в кармане остались. Чтоб ей было с чем в магазин идти. А дом всё-таки выкупить, чтоб не в аренде, а в собственность был… нет, об этом не сейчас.
Алабама
Графство Дурбан
Округ Спрингфилд
Спрингфилд
Центральный военный госпиталь
Снег пролежал недолго. Прошёл дождь – и снова всё мокрое, серое и противное. Чак поглядел в окно и тихо тоскливо выругался. Выходить наружу в такую погоду – себе дороже. Вот ведь паскудство. Ведь вон вся его одежда на вешалке, всё вернули. Кроме ботинок и перчаток. И ремня. Но другие ботинки, что ему в тюрьме дали, вон тоже стоят, крепкие, армейские. Одевайся, дескать, и иди гуляй. Как в насмешку.
Чак оттолкнулся от подоконника, прошёлся по палате и лёг на кровать. Как был, в пижаме, поверх одеяла. Закинул руки за голову. Вот она – свобода. Ждал, да нет, мечтал. А пришла… холодная пустая ясность, пустота. Даже ненависти у него теперь нет. Даже это… отняли. Тогда, после того разговора с доктором – потом узнал, что больше двух суток валялся – спал и снов не видел, падал в чёрную безмолвную пустоту, а проснувшись, рук не смог поднять, будто опять в параличе. Но испугаться не успел. Кто-то из поганцев напоил его водой с глюкозой, и он опять на сутки вырубился. И проснулся… здоровым? Да, пожалуй, так. Тело здорово. Его слушается каждый мускул. Он всё может. Делает все упражнения. Уже не рискуя представить на месте мишени… человека. Мишень – кружок или точка на поле, и он бьёт в эту точку. И всё получается. И ходит в столовую, сидит за одним столом с белыми, улыбается им, здоровается, желает приятного аппетита, и слышит ответные пожелания. И… и ничего. Холодная пустота. У Гэба задвигались руки. Что-то там доктор Иван сделал. Скоро они с Гэбом опять в паре смогут работать. Интересно, освободил доктор Иван Гэба от тех слов, как он их называл? Да, формула и ещё код, код внушения. Или нет? Но об этом он с Гэбом не говорит. Они вообще теперь мало разговаривают. Ругаться ему с Гэбом неохота, а говорить им не о чем.
Чак вдруг осознал, что лежит, как спальник, это те так валялись в камерах. Как спальника не измордуй, тот, если жив, вот так и ляжет, всё своё хозяйство напоказ выставит. Чак снова выругался уже в голос и с настоящей злобой и сел на кровати. Лениво взял с тумбочки книгу, перелистал. Брехня ведь всё, белая брехня. Но завести себя на злобу не получалось. Он закрыл книгу и положил обратно, встал, опять прошёлся по комнате. К Гэбу, что ли, сходить? Если тот не дрыхнет, то размяться немного… Хоть бы из поганцев кто зашёл, то не продохнуть от них было, а то не дозовёшься. Хотя к чему они ему? Бить он теперь не может, а нарываться на безответную плюху тоже как-то не хочется. Массажа сегодня нет, в тренажёрном он был. Сейчас там как раз поганцы резвятся. Их время. А он – больной, его время другое. Чак подошёл к двери и, помедлив, открыл её. Пустой коридор, тишина. Дверь палаты Гэба закрыта. Дверь в дежурку – тоже. Ладно. Ну их всех… На Цветочный проспект, что ли, или в игровую? Но видеть никого не хотелось, а там полным-полно и одни беляки. Русские, местные… всё равно беляки. Цветные – все местные, в лёжку лежат по палатам или сами по себе колготятся. И тоже не стоит с ними, ведь не знаешь, где и на кого нарвёшься. И чем занять время до ужина совсем неизвестно.
И всё-таки он вышел. Оставаться в палате было ещё хуже. Доказывая самому себе, что он свободен, пошёл на Цветочный проспект – висячий переход между корпусами с витражами вместо окон. Там в любую погоду светло и даже… даже приятно.
Чак шёл не спеша, с привычной настороженностью поглядывая по сторонам. Но его словно никто не замечал. Здесь у каждого свои дела, своя боль. Многих он уже знал в лицо, но… они сами по себе, а он сам по себе.
Он старался не думать о самом главном и самом страшном. Как он будет жить дальше? Когда русским надоест его кормить, и они пинком под зад вышибут его отсюда. Не к поганцам же в напарники проситься, беляков параличных подмывать. Это не по нему. Да и не возьмут его. И куда ему? В грузчики? Но думать об этом не хотелось.
Чак прошёлся несколько раз по переходу, заглянул в зал, где можно было поиграть в шахматы или в шашки, посмотреть газеты… и снова отправился бродить по переходу.
Россия
Ижорский пояс
Загорье
Звонок будильника подбросил Эркина, как удар тока. Он даже не сразу сообразил, что это, и растерялся. Но только на секунду. Женя уже накинула халатик и убежала на кухню. Эркин тоже вскочил, торопливо натянул трусы и, вылетев в прихожую, спросонья заметался, не зная, куда бежать. Когда он вошёл в кухню, на чайнике уже дребезжала крышка, а Женя громоздила на тарелку бутерброды.
– Садись, поешь.
Эркин, молча кивнув, сел к столу. Женя налила ему чая, подвинула сахар. Он только вскинул на неё глаза, и она, понимающе кивнув, налила и себе. Эркин ел быстро, сосредоточенно глядя перед собой. Четыре двойных бутерброда, сложив их сэндвичем, Женя аккуратно завернула в большой носовой платок.
– Вот, возьмёшь с собой. Поешь в перерыве.
Эркин, по-прежнему молча, кивнул, залпом допил чай и встал. Женя, опасаясь, что он из упрямства не наденет тёплого белья, побежала за ним в спальню. Но – слава богу! – обошлось. Он и одевался, как ел, сосредоточенно и быстро. Женя смотрела на его окаменевшее напряжённое лицо и не знала, как его успокоить, утешить. Но, уже стоя у двери, засунув в карман свёрток с бутербродами и надевая шапку, Эркин улыбнулся ей.
– Всё будет хорошо, Женя.
И она обняла и поцеловала его в щёку. У Эркина дрогнули губы. Он молча повернулся и вышел.
Женя вздохнула. Она сама боялась понедельника. Как её ещё примут на новом месте? Эркин хоть видел своего бригадира, да, Медведева, а она своего… как его, да, Лазаря Тимофеевича Лыткарина, нет, а она два месяца скоро, как не печатала, те пару раз в региональном лагере не в счёт, а это как с музыкой, надо каждый день упражняться.
– Мам, а Эрик где?
Она обернулась. Алиса, растрёпанная со сна, в тёплой пижамке, стояла в дверях своей комнаты.
– Он на работу ушёл, – Женя заставила себя улыбнуться. – Ты ещё будешь спать?
– Ну-у, – Алиса зевнула и потёрла кулачками глаза, – я не знаю, – и опять зевнула.
– Тогда ложись, – решила Женя.
В самом деле, ведь ещё совсем темно, пусть спит.
На улице Эркину обжёг лицо холодный воздух, под ногами поскрипывал снег, а в остальном… Вполне терпимо. Через несколько шагов он нагнал группу мужчин явно из их дома и, судя по разговорам, работавших на том же заводе, и потому пошёл с ними. Ещё совсем темно, небо даже не синее, а чёрное, искрящийся в свете фонарей снег под ногами… Чем ближе к заводу, тем больше народу и плотнее толпа. Так вместе со всеми Эркин подошёл к проходной с крупно выписанной над дверью цифрой два.
Пропуск на входе… в раскрытом виде… быстрый взгляд на фотографию и на него… Дальше куда… Первый рабочий… Сюда и направо… Вторая внутренняя проходная, здесь уже женщина… Ей табельный номер… Дальше… Прямо по коридору… Эркин толкнул тяжёлую дверь с забранным деревянной решёткой стеклом и вышел во двор. Утоптанный тёмный снег, слепящие, как в тюремном дворе, прожекторы…
– Ага, пришёл уже.
Эркин вздрогнул и обернулся. Медведев. Не в полушубке, а в чёрной, очень похожей на рабскую, толстой куртке и таких же штанах, чёрных валенках, даже шапка другая – армейская. Медведев оглядел его так же внимательно.
– Ну, пошли.
Эркин молча пошёл за ним. Медведев подвёл его к десятку мужчин, одетых в такие же куртки, штаны и валенки, только шапки у всех разные.
– Что, новенького дали, старшо́й? – встретили их.
– Ну, теперь наработаем…
– Только вождя нам не хватало!
– Эй, вождь, томагавк где оставил?
– Ага, а скальпов много набрал?
– А чего не навесил? Мы бы посмотрели.
Сцепив зубы, Эркин сохранял лицо неподвижным. Такого он никак не ждал.
– Кончай базар, – спокойно сказал Медведев. – Пошли. Ты, ты и ты. На контейнеры.
Эркин молча ждал. Здесь, получается, не работали всей ватагой заодно, как в Джексонвилле, а кому где старшо́й укажет. Да ему самому уже не хотелось становиться с кем-то из них в пару. Но… не ему выбирать. Дошла и до него очередь. Работа оказалась несложной. Мешки. Перегрузить из грузовика на склад и уложить в штабель у этой стены.
– Понял? От угла в один ряд на пять в высоту. Всё понял?
Чего ж тут непонятного, и Эркин молча кивнул. Всё бы ничего, но грузовик не мог подъехать к складу вплотную, и мешки приходилось носить за двадцать больших шагов – это раз, оказались они не слишком большими, но уж очень увесистыми – это два, а три – это напарник. Щуплый, в натянутой на уши вязаной шапочке и с нелепым именем – Ряха. Эркин с невольным сомнением оглядел напарника и спросил:
– Ты подавать будешь или укладывать?
– Ух ты! – восхитился Ряха. – А я-то думал, ты немой. Чего ж ты не поздоровался, доброй работы, понимаешь, не пожелал?..
Он частил, быстро оглядываясь по сторонам, будто искал зрителей. И Эркин понял, что работать ему придётся одному. Толку от Ряхи не будет. Андрей тоже балагурил и языком трепал, как хотел и зачастую без умолку, но и руки прикладывал, а этот… Будь это в Джексонвилле, Эркин бы его уже послал по всем известным адресам или попросту бы врезал, чтоб дошло. А здесь… здесь надо терпеть.
И он терпел. Как под надзирателем, когда ты знай работай и язык держи. Пока Ряха непонятно колупался возле грузовика или курил очередную «остатнюю», Эркин, как заведённая машина, влезал в кузов, подтаскивал к краю мешок, спрыгивал, сваливал мешок на себя, шёл на склад, укладывал мешок в штабель и шёл обратно. Шуточек Ряхи про томагавки и скальпы – что за хренотень такая? – и вообще его трепотни он не слышал. Ряхи для него просто не было. Вдруг Ряха сказал, уже явно обращаясь к нему:
– Слушай, я тут мигом, ты как не против?
Эркин молча кивнул, не оглядываясь, и даже как бы не заметил, что остался один. Мешок за мешком, мешок за мешком… Он не заметил и того, что погасли прожекторы, и как пошёл и прекратился снег. Бездонный этот грузовик, что ли?
– А Ряхов где?
Эркин как раз нёс очередной мешок, когда его остановили. Он даже не сообразил, что Ряхов – это и есть Ряха, а потому продолжил путь, буркнув:
– Не знаю.
И кто это его спрашивал, тоже не посмотрел: не всё ли ему равно? Но вот уже три мешка… два… всё, последний!
Эркин вышел из склада и огляделся. Ух ты, светло уже совсем! И народу что-то не видно. Он уже не спеша вернулся к грузовику, поднял и закрепил борт. И шофёра нет. Ну что ж, своё он отработал, теперь пока, как называли Медведева, Старшо́й ему новую работу не даст, можно и перекусить. Живот уже подводит. Намотался, что и говорить. Эркин смахнул снег с подножки грузовика и сел. Стянул верхние брезентовые рукавицы, варежки и достал из кармана свёрток. Развернул на колене и стал есть.
Он ел, тяжело медленно двигая челюстями, устало глядя на землю, на тёмный затоптанный снег. И, увидев остановившиеся перед ним армейские сапоги, так же медленно, с усилием поднял глаза. И не сразу узнал шофёра, глядевшего на него с каким-то странным удивлением.
– Мешаю тебе? – спросил Эркин.
– Мне ехать надо, – извиняющимся тоном сказал парень.
Эркин кивнул, сунул в рот остаток бутерброда, завернул оставшиеся два и, оттолкнувшись от подножки, встал. Шофёр потоптался, будто хотел что-то сказать, но ограничился кратким:
– Ну, бывай.
Залез в кабину и уехал.
– Бывай, – кивнул ему вслед Эркин, пряча в карман уполовиненный свёрток.
Сейчас бы потянуться, размять мышцы, но… но вон уже Медведев идёт. Эркин вздохнул и опустил глаза: нарываться ему нельзя.
Но неожиданность вопроса заставила его посмотреть в лицо бригадира.
– У тебя что, совсем денег нет?
– Почему нет? – Эркин решил, что речь пойдёт о прописке быстро прикидывал в уме, сколько у него с собой и сколько он сможет выложить. – Есть деньги.
И опять неожиданный вопрос:
– А чего тогда в столовую не пошёл?
Пока Эркин думал, как ему лучше ответить, подошли остальные. И вместо Эркина ответил Ряха:
– А он брезгует нами! Во-о-ождь! – и заржал.
Эркин опустил глаза и не увидел, как, растерянно хлопая глазами, Ряха смотрит на остальных. Никто его смеха не поддержал.
– Работяге с тунеядцем хлеб не делить, правильно, – сказал кто-то.
Что такое «тунеядец», Эркин не знал, но о смысле догадался и искоса поглядел на сказавшего. А тот, неспешно натягивая большие брезентовые рукавицы, продолжил:
– Там контейнеров ещё десятка два. Так мы туда. Ты как, Старшо́й?
– Идите, – кивнул Медведев.
Эркин меньше всего думал, что это и его касается, и потому, когда его дёрнули за рукав, удивился:
– Чего?
– Пошли-пошли, – явно немолодой мужчина, который говорил о тунеядцах, смотрел на него в упор.
Ну, так ведь всё равно с кем. И Эркин пошёл за ним.
Теперь они работали вчетвером. Молодой, чуть старше Андрея, парень, которого остальные называли Колька-Моряк, веснушчатый зеленоглазый Геныч и позвавший Эркина Саныч. Контейнеры оказались большими, тяжёлыми и с придурью. И на колёсах, и с ручками, а с места не стронешь, а поедет – не завернёшь и не остановишь. И опять: со склада на платформу, да не по прямой, а с объездами, спусками и подъёмами. Проклянёшь всё трижды и четырежды. Чем Колька-Моряк от души и занимался. Но злобы в его ругани не было, и Эркина она не трогала. А насчёт крутизны… он от Андрея и похлеще слыхал. Затащенный на платформу контейнер крепили на стопор и растяжки. И шли за следующим.
– Слушай, а вправду, ты чего в обед в столовую не пошёл? – спросил Эркина на обратном пути Колька.
Спросил так, что Эркин честно ответил:
– Я не знал про столовую.
– А-а, – протянул Колька. – А Ряха трепал, что ты из принципа. Дескать, компанией брезгаешь, его прогнал…
Это так удивило Эркина, что он переспросил:
– Я прогнал Ряху?!
– Ну да.
Колька смотрел открыто, без подвоха, и явно ожидая ответа, но ответил вместо Эркина Саныч.
– Про тебя Ряха тоже интересно рассказывает.
Колька заметно смутился, а Геныч коротко хрипло рассмеялся.
И они взялись за следующий контейнер. Саныч шёл впереди, таща серую в рост человека металлическую коробку за неудобную переднюю ручку и коротко командуя им:
– Пошёл… стопори… вправо… пошёл…
И они втроём то толкали эту махину, то повисали на ней, стараясь замедлить, затормозить или повернуть. А уж на платформу затащить… сдохнешь.
– Давайте, мужики, – появился вдруг бригадир. – На вторую смену их нельзя оставлять.
– Давай ещё четверых, – ответил Саныч.
– Откуда я их возьму?! – рявкнул Медведев. – Все при деле!
– И Ряха? – удивился Колька.
И заржал. Засмеялись и остальные.
– Кто освободится, подошлю, – пообещал Медведев, исчезая.
Эркин окончательно убедился, что бригадир здесь не так сам ворочает, как остальных расставляет. Ну, это не его проблема. Его вон стоит, серая, с красными цифрами и буквами на боку. И видно, в них всё дело, потому что Саныч берёт контейнеры не подряд, а с выбором. Но спрашивать ни о чём не стал, молча ожидая, на какой ему укажут. Ага, вон тот, дальний. Ладно, надо ему дорогу освободить, если сдвинуть эти два… а если… если их сейчас перетасовать по-нужному, чтобы потом сразу брать…
– Саныч, – решил рискнуть Эркин, – а после этого какой будет?
– Это тебе зачем? – спросил Геныч.
А Колька засмеялся:
– Наперёд думаешь?
Но Саныч смотрел молча и внимательно, Эркин понял, что надо объяснить.
– Если их сразу по-нужному расставить, потом просто скатывать будем.
– Соображаешь, – кивнул Саныч. – Берёмся, мужики. Этот… теперь тот… на стопор поставь, а то укатится… так… вон тот теперь…
К концу перестановки Эркин приспособился выбивать и вставлять стопор ударом сапога. Саныч только буркнул:
– Полегче. Штырь погнёшь.
Эркин кивнул. Ну вот, расстановка закончена. Можно тащить первый.
– Отчаливай! – весело скомандовал Колька. – Полный вперёд!
И Эркин улыбнулся.
Когда они волокли последний контейнер, прозвенел звонок. Эркин ещё в Джексонвилле на станции привык, что постоянно что-то звенит, гудит, лязгает и громыхает, и потому не обратил звонок внимания, но остальные заметили.
– Во! Управились! – радостно заорал Колька.
– Не кажи гоп, – осадил его Саныч. – Стопори, яма… теперь вправо возьми… на подъём… пошёл…
Они втащили контейнер на платформу и закрепили его.
– Вот теперь всё, – удовлетворённо сказал Саныч.
Геныч стащил рукавицы и закурил.
– Всё, свалили.
Эркин огляделся. По всему двору с весёлым, уже нерабочим гомоном тянулись люди. Что, смена закончилась? Он посмотрел на часы. Три ноль семь.
– Всё, мужики, по домам айда, – Геныч спрыгнул с платформы.
Эркин перевёл дыхание. Да, так, похоже, и есть – конец смене. Он, как все, спрыгнул вниз, снял и засунул в карманы верхние рукавицы и пошёл следом за Санычем и остальными. По дороге рискнул спросить:
– Завтра… как сегодня?
– Ну да, – охотно ответил Колька. – Смена с семи. А что делать, укажут.
Эркин удовлетворённо кивнул. Больше ему ничего и не нужно. А встретившийся Медведев бросил ему на ходу:
– Завтра с семи, не опаздывай.
Эркин ждал, что ему про прописку скажут, но бригадира окликнули, а Саныч с остальными уже ушёл. Во двор входила вторая смена. «Ну, значит, завтра прописка», – решил Эркин, направляясь к выходу. Вот она, та самая, забранная деревянной решёткой дверь, через которую он входил утром. Где вход, там и выход. Нормально. Эркин потянул дверь на себя и вошёл в коридор. Так, теперь… туда, правильно, этот плакат он видел. Коридор пустынен, на стенах ещё какие-то надписи, но Эркин полагал, что это всё не для него.
– Эй, вождь! – окликнули его сзади.
Эркин узнал голос Ряхи и остановился, обернулся через плечо. Ряха, уже без куртки, и потому особенно щуплый и какой-то… дохлый, улыбаясь, подошёл к нему.
– Что ж ты, день отработал, мы тебя, понимаешь, приняли, ты теперь поставить нам должо́н.
Эркин кивнул и полез за бумажником. В бегающих глазах и кривой улыбке Ряхи о чувствовал какой-то подвох, но, не зная здешних порядков, он ничего не мог сделать.
– Сколько?
Ряха быстро облизал бледные тонкие губы.
– Ну, по бутылке каждому, да бригадиру две, ему положено, это… двенадцать бутылок, значитца, да закусь какая-никакая…
Эркин свёл брови, считая. Двенадцать бутылок по три сорок семь – это… это чуть больше сорока, да ещё…
– Пятьдесят рублей хватит?
У Ряхи судорожно дёрнулся кадык.
– А… ага!
Эркин достал деньги. И снова ему не понравилась жадность, с которой Ряха выхватил у него деньги. «Зря они шакала на таком деле держат», – подумал он. А Ряха, скатав купюру в трубочку, засунул её куда-то за пояс штанов и зачастил:
– Ну, и ладненько, ну, и иди себе с богом, значит, не беспокойся, улажу всё, комар носа не подточит, домой ступай, наломался, небось, отдыхай…
Эркин пожал плечами, убрал бумажник и пошёл к выходу. Показалось ему или и впрямь Ряха тихо хихикнул ему вслед? А ну его! Вон уже окошко табельное. Какой номер-то у него?
Но, к его удивлению, круглолицая женщина в чёрной форме с синими нашивками на воротнике сама подала ему жетон – Эркин узнал его по зазубрине у верхнего отверстия – и рассмеялась его удивлению.
– А мы вас всех знаем. Работа такая. Ты у Медведева, что ли?
– Да, – кивнул Эркин.
– Ну, с почином тебя, счастливо отдыхать. До свиданья.
– До свиданья, – ответно улыбнулся Эркин.
И на внешней проходной мужчина в такой же форме, посмотрев на его пропуск, пожелал ему отдыха и попрощался.
На улице Эркин, проверяя себя, посмотрел на часы. Три пятнадцать. И светло. День ещё. Что ж, если и дальше так пойдёт, то у него полдня на подработку есть. Тоже неплохо. Но и порядки здесь!.. Прописка за глаза и дорогая какая. Бутылка каждому. С ума сойти. Хорошо, деньги с собой были. Ну, ладно, это он свалил. Завтра уже будет нормально.
Усталость словно отпустила его, и он шагал широко, свободно, с интересом поглядывая по сторонам. В общем, он был доволен. Работа оказалась тяжёлой, но не сложной, не слишком сложной. Завтра, конечно, куда поставят, но с Санычем работать можно, и с Колькой, и Геныч – нормальный мужик. Ряха вот только… Да ну, что ему Ряха? Ну, придётся за себя и за Ряху, если опять окажутся в паре, работать, ну так что? Переживёт. И раньше такое бывало, и в имении, и в Паласах… Это всё пустяки. А вот денег у него не осталось, а он хотел по дороге домой купить чего-нибудь. Но и это ладно, Женя поймёт. Прописка же. Зато теперь он чист. Нет, всё хорошо, всё нормально.
Обшаривая на всякий случай карманы – вдруг мелочь завалялась, он нашёл свёрток с бутербродами и усмехнулся. Вот и гостинец домой. Так и не съел. А есть здорово хочется. Прямо хоть доставай и на ходу жуй. Ну, да ладно, перетерпим, вон уже… «Корабль» появился. И снег здесь белый, чистый. А вон и магазинчик…
Эркин шёл, подняв голову и обшаривая взглядом окна. Вроде, вон те его, или нет… Да нет, чего искать, уже крыльцо перед ним. Он взбежал по широким низким ступеням и толкнул дверь. Потопал в тамбуре, оббивая снег с сапог, и открыл следующую дверь. На лестнице уже свет горит. Внутренняя дверь. Доставая на ходу ключи, подошёл к своей двери и удивлённо заморгал. Утром этого не было – он помнит. Перед дверью лежал маленький яркий коврик в красную и зелёную клетку. Проверяя себя, посмотрел на чёрный кругляш с белыми цифрами. Номер правильный. Так это что, Женя купить успела? Он осторожно встал на коврик, вытер ноги и открыл своим ключом верхний замок. Попробовал нижний. Открыт. Значит, Женя дома. Он толкнул дверь и вошёл. В неожиданно тёмную после залитого светом коридора, но уже пахнущую жилым теплом прихожую. Захлопнул за собой дверь.
– Кто там? – спросила из кухни Женя. – Эркин, ты?
И сразу – он и ответить не успел – к нему в ноги ткнулась с радостным визгом Алиса.
– Э-эри-ик! Эрик пришёл! Мама, Эрик вернулся!
Эркин включил свет и стал раздеваться. Снял и повесил куртку, шапку, стащил сапоги. Надел шлёпанцы.
– Эркин, – Женя выбежала из кухни и порывисто обняла его, – как ты? Устал? Замёрз?
– Нет, – улыбнулся Эркин. – Даже жарко было. Я… я в душ сначала. Хорошо?
– Ну, конечно. А может, Эркин, может, ванну?
Эркин осторожно, чтобы не разорвать объятие, пожал плечами. Женя поцеловала его в щёку и отпустила.
– Иди, мойся. Я сейчас приготовлю всё. Там ведро, грязное прямо туда кидай.
Алиса попыталась сунуться в ванную следом за Эркином, но её позвала Женя. А в ванной тоже… новое. Большой, в половину его роста белый плетёный ящик. Похожий был в гостинице в Бифпите для грязного белья. А это для чего? Эркин приподнял крышку и увидел на дне что-то пёстрое. Значит, для грязного. А чего ему тогда Женя про ведро сказала? Ладно, разберёмся. Эркин снял рубашку и джинсы. Это стирать не стоит. Джинсы он и раньше каждый день не стирал, креповая рубашка тоже чистая, а вот бельё и носки с портянками… это надо. Он содрал с себя тяжёлое от впитавшегося пота бельё, затолкал в ведро и налил чуть тёплой воды. И уже шагнул было за простынную занавесь в душ, когда в ванную вошла Женя. Эркин растерялся, а она деловито положила на ящик его рабские штаны и тенниску.
– Вот, наденешь потом.
Она не смотрела на него, а он не знал: хочет ли, чтобы посмотрела.
– Вот, мойся, и будем обедать.
Взгляд Жени тепло, мягко скользнул по его телу. Он и ощутил его как прикосновение, будто… будто она потрогала его, погладила. И Женя уже вышла, а он ещё стоял возле душа, не понимая, что с ним. Потом тряхнул головой и вошёл в душ. Его мыло и мочалка уже лежали на бортике. Когда только Женя успела? Женя… Женя не боится его, он не противен ей. И что ему теперь до всего другого?! Эркин крутанул кран и счастливо охнул под туго ударившей его струёй.
И когда он, уже в рабских штанах и тенниске, пришёл на кухню, за окном было совсем темно. А на столе… у Эркина сразу засосало под ложечкой. Женя засмеялась.
– Садись, Эркин. Сегодня настоящий обед. Не из пакетиков.
Счастливая мордашка Алисы, горячий необыкновенно вкусный суп, новенькие тарелки на блестящей клеёнке, а ложки старые, знакомые по Джексонвиллу, и халатик у Жени тот же, и фартук, и… и всё так хорошо.
– Так вкусно, Женя, – поднял он глаза от тарелки.
– Налить ещё? – улыбнулась Женя.
Эркин кивнул. И она налила ему ещё золотистого от жира мясного супа. Полную тарелку.
– Ты не обедал?
– Перекусил. Перерыв был маленький, – Эркин улыбнулся. – Два съел, а два домой принёс.
– Такой маленький перерыв? – расстроенно переспросила Женя. – Эркин, при восьмичасовом рабочем дне час на обед положен.
– Час? – Эркин неопределённо хмыкнул. – Буду знать. Женя, там, мне сказали, столовая есть. Так я завтра там поесть попробую.
– Конечно, – согласилась Женя, собирая тарелки. – Обязательно возьмёшь горячего. О деньгах не думай. Деньги у нас есть.
Эркин почувствовал, что краснеет.
– Женя, я все деньги сегодня потратил.
– Все? Это сколько? – Женя поставила на стол тарелки с картошкой и мясом.
– Сколько взял. Пятьдесят рублей, – вздохнул Эркин. – Это была прописка, Женя.
– Понятно, – кивнула Женя. – Не волнуйся, всё в порядке.
Эркин пытливо вгляделся в её лицо, потом вздохнул и стал есть. Ел уже спокойно: самое тяжёлое он сказал, и Женя поняла его. Конечно, пятьдесят рублей – это очень много, но это же только раз. А в Джексонвилле разве не пришлось ему отдать полпачки сигарет и весь дневной заработок? Отдал же. И не помер. А с Андрея сколько содрали? Везде так.
– Женя, спасибо.
– Ещё?
Он покачал головой.
– Нет, сыт уже.
– Тогда я тебе киселя сейчас налью. Алиса, доедай.
Эркин глотнул густой сладкой жидкости, улыбнулся.
– Я не сказал тебе. Коврик такой красивый. Ну, у двери.
– Тебе понравился? – просияла Женя. – Я вообще сегодня кучу денег потратила. Ну, коврик и ящик в ванной ты видел, – Эркин кивнул. – Ещё я Алисе купила. Сапожки и шубку. Ну, и белья.
– Правильно, – кивнул Эркин.
– И тебе.
Эркин невольно поперхнулся.
– Женя!..
– Что Женя? – Женя шлёпнула Алису между лопаток, чтобы та не горбилась. – Две смены мало. Надо, как минимум, четыре. А лучше шесть. Или мне каждый день стирать, чтобы ты с утра чистое надел?
– Я сам стирать буду, – попробовал возразить Эркин.
– Не выдумывай, – строго сказала Женя. – Мне с понедельника тоже на работу выходить. Давай я тебе ещё киселя налью. Вот так. Алиса, спать будешь?
– Не, я в коридор, – Алиса сделала умильную рожицу. – Можно?
– Можно, – улыбнулась Женя.
Пока она одевала Алису для прогулки в коридоре, Эркин допил кисель и собрал посуду со стола, сложил в раковину. Вбежала Женя и, отодвинув его, стала мыть посуду. Эркин стоял рядом и смотрел на неё, на её руки. А Женя мыла и говорила.
– Я ещё сушку купила, проволочную, как там была.
– Я повешу, – встрепенулся он.
– Ну, конечно, милый, сейчас я закончу и освобожу тебе место. А ещё, Эркин, знаешь, в воскресенье сорок дней Андрею. Сороковины.
– Что? – не понял он. – Как это?
– Ну, помнишь, – Женя взяла полотенце и стала вытирать тарелки, – помнишь, на девятый день мы его поминали? В лагере.
– Помню, конечно, – кивнул Эркин. – А на… сороковины так же?
– Да, – кивнула Женя. – Ну, ещё в церковь ходят. И на могилу.
Эркин вздохнул. Могила в Джексонвилле, в церковь ему идти совсем не хочется, но раз Женя считает, что надо… Да, вот ещё что.
– Женя, а водка обязательна?
Женя расставила посуду в шкафчике и кивнула.
– Я тут поговорила, Эркин, и в лагере… Но водку ты должен купить.
– Хорошо, – согласился Эркин. – Раз надо… Только…
– Что?
– Нет, ничего, Женя. Я тогда за ящиком сейчас схожу, сушку повешу.
И он пошёл за ящиком, злясь на самого себя, что вздумал предупреждать Женю. Дескать, я пьяный языком болтаю. Ни черта с ним не будет, удержит язык.
Эркин принёс на кухню ящик, улыбнулся Жене. И теперь она сидела у стола и смотрела, как он работает.
– Вот так?
– Чуть левее. Ага, так будет хорошо.
Эркин гвоздём пометил места для крючков, отложил сушку на шкафчик и стал их прибивать.
– Тебе нужно пальто, Эркин.
– Для работы куртка удобнее.
– Для работы, Эркин. А потом?
– Нет, – упрямо сказал Эркин. – Пальто мне не нужно.
И Женя догадалась.
– А если полушубок?
И по его дрогнувшим плечам, по быстрому благодарному взгляду через плечо поняла, что угадала правильно.
– Он дорогой, Женя, – тихо ответил Эркин.
– Не дороже денег. А деньги у нас есть.
Эркин проверил, надёжно ли сидят крючки, и надел на них сушку.
– Вот так, Женя, да?
– Да, к так хорошо.
Эркин улыбнулся.
– Ну вот. А деньги нам на квартиру дали, а не на одежду.
– И на одежду. Ты вспомни, как в Комитете сказали. На обустройство. Если бы мы свой дом выкупали или хозяйство завели, то да, все бы деньги туда ушли. А квартира у нас в аренде, наёмная, – рассуждала Женя. – Это и из зарплаты выплачивать можно. А одежда тоже нужна. Как… как посуда. И… не спорь, Эркин. Ну, не хочу я, чтобы ты хуже других ходил. Ты ж не пропойца какой подзаборный. А полушубок тебе купим. И валенки. Да, – Женя оживилась и вскочила из-за стола, – идём, покажу, что я Алисе купила.
Эркин сложил инструменты в ящик и, оставив его на кухне, пошёл за Женей.
Цигейковая – всё-таки что это за зверь? – золотисто-коричневая шубка с капюшоном, зелёные войлочные сапожки на меху и чёрные рейтузы с начёсом очень понравились Эркину и были им безоговорочно одобрены.
– Ну вот, – Женя погладила рукав шубки, – и завтра, когда в магазин пойду, возьму её с собой. А то она совсем воздухом не дышит.
Эркин задумчиво кивнул. Одобрил он и тонкую шерстяную кофточку на пуговицах, которую купила себе Женя, и тёплое бельё.
– А это тебе, – Женя продолжала показ-отчёт. – Ещё четыре смены. Шесть смен – уже нормально. И рубашек тёплых теперь шесть. И носков. Зима долгая. Чтобы хватило на всю зиму. Понимаешь?
Эркин слушал и кивал. Конечно, Женя права. Зима долгая, и, говорят, будет ещё холоднее. Но…
– Женя, ведь мебель ещё покупать. И ремонт делать.
– Да, – кивнула Женя, – я помню. Я думаю, сначала ремонт, а мебель уже потом. И, знаешь, я хочу, – Женя вздохнула, – ну, чтобы было красиво. Я всегда мечтала о гарнитуре. Знаешь, что это такое?
Эркин помотал головой и сел на пол среди разбросанных вещей.
– Я слушаю. Говори, Женя. Так что такое… гарнитур?
– Это когда мебель не по одиночке покупается, а сразу. И всё в одном стиле. Ну… вот спальня, – Женя широким взмахом обвела комнату, в которой они были. – Что нужно в спальню? Кровать, тумбочки у кровати, шкаф, трюмо, хорошо бы трельяж, комод, пуфики…
Эркин слушал и кивал. Он был, в принципе, со всем согласен. Хватило бы денег.
– Ковёр на пол, шторы на окно, – Женя посмотрела на Эркина и рассмеялась. – Вот, понял?
– Понял, – кивнул Эркин. – И всё сразу покупать?
– Хотелось бы, – вздохнула Женя. – Ведь как хорошо, что у нас на кухне стулья такие красивые, правда?
– Правда, – не стал спорить с очевидным Эркин и тут же предложил: – Женя, а ведь и стол можно такой заказать, чтоб и на кухне был… гарнитур.
– Конечно, – обрадовалась поддержке Женя. – Но сначала… сначала ремонт.
Эркин вздохнул.
– Да. Обои поклеить.
– Потолки побелить, а лучше покрасить, – подхватила Женя. – Кухню покрасить, ванную, уборную, кладовку…
Эркин сразу помрачнел: кладовку-то он так и не убрал.
– Женя, я за кладовку возьмусь. Я… я только вещь одну сделаю и тогда за кладовку. Хорошо?
– Ну, конечно, – даже несколько удивилась его горячности Женя.
Он гибким ловким движением вскочил на ноги.
– Я на кухне работать буду. Там светло. И стол.
Когда Женя, сложив вещи, вошла в кухню, клеёнка была убрана, а чтобы не запачкать стол, Эркин расстелил чистую портянку, разложил на ней инструменты и пузырьки из ящика. Женя тихо сбегала за шитьём – чулки на Алиске так и горят – и села на другом конце стола. Эркин быстро вскинул на неё глаза, улыбнулся и снова ушёл в работу. Он давно думал об этом: как сделанную Андреем рукоятку ножа всегда носить с собой, не боясь выронить и потерять. И получалось одно: припаять или приклеить кольцо. Нет, приклеить, конечно. Паять он не умеет, а просить кого-то… нельзя, это он должен сам сделать. Спасибо Жене, что сидит рядом и не спрашивает ни о чём. Зачистить край, протереть едким, пахнущим, как водка, но более резко содержимым вот этого пузырька и больше руками протёртое место не трогать. Теперь кольцо. У Андрея их много запасено было, разных, вот это гладкое, без зазубрин, чтоб не перетёрло ремешок, а здесь наоборот – зашершавить напильником, чтобы стало плоским, а то не схватит, и приложить, как подойдёт… Плохо, надо ещё снять, вот так, и ещё… И надо аккуратно, чтоб самого себя по пальцам не задеть. А вот теперь хорошо, и тоже протереть. Теперь… теперь это всё в сторону, теперь клей… Этот? Да. Про него Андрей говорил, что пулю к стволу приклеит. Так, как это делал Андрей? Ага, помню: намазать, дать подсохнуть и снова намазать… И зажать, и держать так…
Когда Эркин почувствовал, что кольцо уже не «дышит» под рукой, он осторожно положил рукоятку на стол и стал собирать инструменты. Как делал Андрей, тоже протёр всё, разложил по местам.
– Женя, я на подоконник положу, пусть сохнет.
– Конечно-конечно.
Портянку он тоже свернул и убрал в ящик.
– Я в кладовку пойду, посмотрю там.
– Хорошо, – Женя закрепила шов и отрезала нитку. – Я в ванной буду.
Эркин вышел в прихожую, распахнул дверь в кладовку. Чем бы её подпереть? А, вон же чурбак. Вот так. Для начала… для начала вытащим всё в прихожую. Обрезки досок, какие-то то ли палки, то ли тонкие длинные поленья, обломки ящиков. С гвоздями. Хорошо, Алисы нет, а то бы полезла и поцарапалась. Верёвки какие-то, ремешки, ничего, это всё пригодится. А это что?
За плеском воды – Женя полоскала бельё в ванне – она плохо расслышала, но ей показалось, что Эркин закричал. А, выглянув из ванной, увидела его лежащим на полу.
– Эркин?! – бросилась она к нему. – Что?!
Но он уже стоял на четвереньках среди разбросанных досок и палок и тряс головой.
– Ничего, ничего, я сейчас… – перемешивал он русские и английские слова.
Женя опустилась рядом с ним на колени, обняла. Он вздрогнул от её прикосновения и отпрянул.
– Вода! Нет, не надо! – вырвалось у него по-английски.
Женя отдёрнула мокрые руки.
– Да что с тобой?!
– Сейчас… сейчас… – Наконец он продышался, поднял на Женю глаза, неловко улыбнулся и заговорил по-русски: – Я сам виноват, Женя, думал, верёвка, а это… провод.
– Под током? – испугалась Женя.
– Да, – и по-английски: – Током ударило, – и опять по-русски: – Не пускай Алису туда.
Эркин сел, потёр руки от кистей к локтям и виновато улыбнулся.
– Я испугал тебя, да? Прости, Женя. Просто… меня давно током не били, вот я и заорал.
– Ну её, эту кладовку, – заплакала Женя. – Ты же убиться мог.
Эркин глубоко вдохнул и выдохнул.
– Делать всё равно придётся. Я только не знаю, как. Я, – он опустил голову, – я боюсь тока, Женя. Меня… много били током… раньше… до имения…
Женя торопливо обтёрла руки о халатик и обняла Эркина за шею. Положила его голову себе на плечо. И на этот раз он не отпрянул.
– Ничего, – шептала Женя, – ничего, всё будет хорошо, ничего…
И чувствовала, как обмякает, расслабляется его тело. А когда поняла, нет, почувствовала, что он успокоился, поцеловала в висок и встала.
Эркин снизу вверх смотрел на неё затуманенными глазами, потом взмахом головы отбросил прядь со лба и встал.
– Я ещё повожусь здесь, Женя.
– Ты только осторожней, Эркин, – вздохнула Женя.
Она знала, что он не отступит. И, в самом деле, Эркин опять полез в кладовку. На этот раз, правда, он вооружился длинной палкой и сначала трогал ею каждый обломок, отодвигая от лежащего на полу провода. Но как же он здесь пол мыть будет?
Женя закончила стирку, развесила выстиранное бельё на сушке – а ведь для постельного белья сушка маловата будет, надо будет подумать о верёвках – и, поглядев на часы, ахнула:
– Эркин, поздно уже, Алиса!..
Эркин, сортировавший в прихожей вытащенное из кладовки, подошёл к двери, открыл её и выглянул в коридор.
– Алиса!
– Иду-у! – готовно откликнулась Алиса. – Всем до завтра, я домой!
Эркин впустил её в квартиру, и, увидев разбросанный по полу хлам и открытую дверь кладовки, Алиса возмутилась:
– Да?! А меня не позвали?!
Она явно собиралась нырнуть в кладовку, и Эркин еле успел перехватить её.
– Туда нельзя.
Алиса поглядела на него и, мрачно насупившись, стала раздеваться. Когда она ушла в ванную мыть руки, Эркин по-прежнему палкой затолкал провод подальше от двери и стал закладывать в кладовку всё вытащенное оттуда. Укладывал так, чтобы потом при необходимости можно было достать, не касаясь провода.
– Эркин, – позвала его Женя. – Мой руки и садись. Ужинать будем.
– Да, иду, – откликнулся он, закрывая дверь кладовки.
Гвоздём, что ли, её забить, чтобы Алиса туда не залезла? Да, так и сделает. Минутное же дело. Где его ящик?
– Я сейчас, Женя.
Он выбрал большой гвоздь, вбил его двумя ударами на половину длины в угол над дверью. И третьим ударом загнул. Попробовал дверь. Держит! И уже спокойно закрыл ящик, поставил его у двери в кладовку и пошёл мыть руки.
На кухне стол уже накрыт, и его ждала тарелка с картошкой и мясом. Эркин сел на своё место, улыбнулся хитро посматривающей на него Алисе.
– Эрик, а в мозаику поиграем?
– Хорошо, – кивнул Эркин.
– Только недолго, – строго сказала Женя. – Завтра рано вставать.
– На работу, – понимающе кивнула Алиса.
– Вот именно, – улыбнулась Женя.
Они спокойно поели, выпили чаю, и Алиса побежала в свою комнату за мозаикой, а Женя убрала со стола.
Сегодня они начали выкладывать большой – во всю подложку – многоцветный венок. И дошли почти до половины, когда Женя сочла, что Алисе пора идти спать. Алиса покосилась на неё, на Эркина и согласилась. Сопя, собрала мозаику.
– Завтра закончим, да, Эрик?
– Да, – кивнул он.
Когда Алиса ушла, Женя поставила на стол две чашки.
– Сейчас я уложу её, и поговорим. Так? Как тогда?
Эркин счастливо улыбнулся: да, всё, как тогда. Женя ушла к Алисе, а Эркин встал и подошёл к окну, взял рукоятку и попробовал кольцо. Хорошо держит. Теперь… где он видел шнурок? Да, в кладовке, там был как раз подходящий ремешок. Он его положил вместе с верёвками возле двери. Положив рукоятку на стол, он пошёл в кладовку. Отогнул гвоздь и приоткрыл дверь так, будто боялся, что оттуда кто-то выскочит на него. Да, вот она, вся связка. Он вытащил её, быстро перебрал и выдернул нужный ремешок. Узкий, как раз по кольцу, и не слишком длинный. Забросил связку обратно, закрыл дверь и повернул гвоздь.
– Эрик, – сонно позвала его Алиса, – а ты меня вчера на ночь не поцеловал.
Эркин вошёл в её комнату, наклонился и коснулся сжатыми губами её щёчки.
– Вот так, – удовлетворённо вздохнула Алиса. – Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – ответил Эркин.
Когда он пришёл на кухню, Женя уже налила в чашки чай.
– Ты ей дверь не закрыл?
– Нет, – Эркин сел к столу. – Сейчас я только сделаю…
Он продел в кольцо ремешок и связал концы плоским узлом. Женя по-прежнему ни о чём не спрашивала, и он сам сказал:
– Это Андрея. Андрей мне нож делал. А когда нас арестовывали, оружие отбирали, и я отломал рукоятку. Буду теперь с собой носить.
Он говорил, глядя на свои руки, заправлявшие в узел концы. Ремешок крепкий, и узел надёжный. Эркин поднял на Женю глаза и улыбнулся. Положил рукоятку на стол и придвинул к себе чашку. Улыбнулась и Женя.
– Ну, вот мы и приехали.
– Да, – Эркин как-то удивлённо улыбнулся. – В самом деле, приехали. Ты… ты довольна?
– Конечно. Знаешь, – Женя двумя руками поднесла к губам чашку, но не пила, а смотрела на него поверх её краёв. – Знаешь, я как-то не верю, что всё кончилось, что мы дома. Так всё внезапно… квартира, деньги… господи, не верится даже.
– Не верится, – повторил Эркин и кивнул. – Да, так. Женя, ведь… мы… мы не поедем больше никуда, тебе здесь нравится, Женя? Я… я сделаю всё, всю квартиру сделаю. Ты мне покажешь, как обои клеить, и я сделаю.
– Сделаешь, – кивнула Женя. – Конечно, мы никуда не поедем. И с понедельника начнём заниматься ремонтом. А завтра… нет, в субботу пойдём на рынок, купим тебе валенки и полушубок, и… вообще, посмотрим.
– Полушубок – очень дорого, – упрямо свёл брови Эркин. – Женя, а если нам не хватит на квартиру?
Женя рассмеялась.
– Будем делать всё постепенно. Знаешь, я когда-то читала, что, когда дом закончен, пора умирать.
– Д-да, – не очень уверенно согласился Эркин.
– Ну вот. А полушубок тебе нужен. Я завтра узнаю, где лучше его покупать. На рынке или в магазине. И почём они.
– Хорошо, – кивнул Эркин.
Дневная усталость снова накатывала на него, и сил спорить уже не было. Но ему вообще всегда было трудно спорить с Женей.
– Давай ложиться, Эркин.
– Да, – он допил чай, и Женя забрала у него чашку.
Эркин, устало опёршись ладонями о стол, встал.
– Я пойду, Женя.
– Ничего-ничего, иди, ложись. Я уберу здесь и тоже лягу.
Она вымыла и поставила на сушку чашки, протёрла стол. Насколько клеёнка удобнее, просто прелесть! Ну, вот и всё. Женя ещё раз оглядела кухню, выключила свет и вышла. В спальне горит свет, и в прихожей можно не включать. Господи, не квартира, а чудо! Сказочно повезло.
Проходя из уборной в спальню, Женя заглянула к Алисе. Спит. Набегалась, наигралась и спит. Ну, и отлично. Дверь пока пусть открыта, со временем приучится. Она вошла в спальню. Эркин уже спал, как обычно лёжа на спине и закинув руки за голову. Не желая раздеваться на свету – хоть время и позднее, но ведь у дома вполне может оказаться припозднившийся прохожий, и, пока занавесок нет, надо об этом помнить – Женя выключила свет и в темноте сбросила халатик, вытащила из-под подушки и надела ночную рубашку, и осторожно, чтобы не потревожить спящего Эркина, легла. Хорошо, когда квартира тёплая, можно на полу спать. Ну, да ничего, сделаем ремонт и начнём обставлять. Жалко, солнца не было, непонятно, куда окна выходят. Но спальню хорошо бы белую, или нет, лучше розовую. А кухню… Кухню «деревянную, да, стиль „кантри“, а Алисе… Ну, детская – весёлая, в зеленоватых тонах. Как у Андерсена? „Зелёный цвет полезен для глаз“».
Эркин слушал ровное дыхание Жени, стрёкот будильника, урчание и бульканье в трубах и улыбался. Это его дом. «Бегал и добегался?» Да, он добежал. «Не любишь кочевья?» Не люблю. Меня слишком часто продавали. Паласы, камеры, торги… Нет, я сам приехал сюда, нет, больше я не побегу и не дам себя гонять. Тишина и спокойствие вокруг, и шорох снежинок по стеклу. Опять идёт снег. Это уже не страшно. У Жени и Алисы тёплого хватает, квартира тёплая, на еду деньги есть. Интересно, когда на заводе платят? Если каждую неделю, то завтра он получит за два дня. А если нет? Надо будет хоть десятку с собой взять. Нельзя совсем без денег. Будет с работы идти, купит чего-нибудь… Женя рядом, только руку протяни. Если что, нет, не думай об этом. Женя успокоилась, забывает, пусть совсем забудет. А он… он будет ждать. Столько, сколько надо, день, два, неделю, год если надо, но того мгновения, когда Женя сама ему скажет, когда сама позовёт его. А сейчас надо спать… А полушубок, конечно, было бы хорошо, белый, на белом меху, как у старшо́го, и валенки тогда, как он видел, обшитые кожей, да, правильно, бурки. И Жене такие же хорошо бы. Сапоги у Жени теперь есть, пусть будут и валенки. И Алисе валенки. И… и санки, как он сегодня видел, когда шёл домой. У Алисы тёплая одежда есть, будет гулять… В субботу они все вместе пойдут на рынок… В воскресенье сороковины, надо идти в церковь… Интересно, в русской церкви такое же занудство или есть что-то стоящее? В лагере о попах хорошо не говорили, и о церкви тоже, но раз надо… Мысли путались, уплывали, и уже только спокойствие и тишина, и ничего больше нет, и не надо ничего, и дыхание Жени рядом, тепло её тела…
Звонок будильника, мгновенно возникшее ощущение пустоты рядом и ударивший по векам свет разбудили его. Эркин приподнялся на локте. Женя? Жени нет. Уже утро? Пора вставать. За окном темно, а на часах? Да, пора. Эркин откинул одеяло и встал, потянулся, сцепив пальцы на затылке. Оглянулся случайно на окно, увидел своё отражение почти в полный рост во всей красе и, охнув, присел, поняв, что и его с улицы так же видно. Ах ты, чёрт, как же он раньше не сообразил?! Ведь знал же, а не подумал. Занавески нужны. Обязательно. Плотные шторы. А то он как на торгах, даже хуже, на сортировке.
– Эркин, – позвала из кухни Женя. – Уже утро.
– Бегу, – ответил он, сгребая в охапку приготовленную на утро одежду и ползком выбираясь в прихожую.
– Ты чего? – удивилась Женя.
Сидя на полу, Эркин быстро натягивал бельё.
– С улицы всё видно, – мрачно ответил Эркин, вставая и заправляя нижнюю рубашку в джинсы.
Сообразив, Женя рассмеялась, тут же пришлёпнув себе рот ладошкой, чтобы не разбудить Алису.
– Ну, ничего страшного, иди, умывайся, сейчас чайник закипит, чаю выпьешь.
– Да, я мигом.
Через несколько минут он уже сидел за столом и, обжигаясь, пил горячий сладкий чай. Женя подкладывала ему бутербродов.
– Да, – вскинул он на неё глаза, – там у меня в куртке ещё со вчера бутерброды…
– Ты их вчера и съел. Ещё за обедом. Эркин ещё?..
– Хватит, – мотнул он головой, – спасибо, Женя, – и, видя её огорчение, улыбнулся: – С полным животом тяжело работать.
Взял со стола ремешок с рукояткой, надел на шею, заправив под нижнюю рубашку, к телу. Застегнул верхнюю, купленную уже здесь.
– У тебя деньги на еду есть? – Женя протянула ему пять десяток.
– Столько много.
Он попытался взять только одну, но Женя нахмурилась, и Эркин сдался, взял все.
– Может, на обратном пути купишь чего, – говорила Женя, идя за ним в прихожую.
Эркин спрятал деньги в бумажник, сбегал в спальню за своими часами, вернулся, быстро сосредоточенно обулся, натянул куртку и уже взялся за ручку двери, когда Женя быстро поцеловала его в щёку рядом со шрамом.
– Счастливо, Эркин.
– Да, – шевельнул он ответно губами, коснувшись ими её виска, и вышел.
Женя заперла за ним дверь, заглянула в комнату Алисы – нет, сегодня не проснулась, значит, привыкает уже – и вошла в спальню. Да, конечно, нужны шторы. Но пока нет обоев и вообще до ремонта… Да, с понедельника они начнут готовиться к ремонту. Клей, обои, краска, мастика для пола… Женя стала убирать постель, прикидывая в уме предстоящие покупки.
Эркин шёл быстро, обгоняя идущих, как и он, к заводу. Шёл, уже глядя по сторонам, замечая, что в большинстве окон занавески просвечивают, видны силуэты, но толком не разобрать ничего. А вот тоже окно без штор, голое. Ну, всё напоказ. Если его вот так видели сегодня… ладно, вон уже забор заводской. Вокруг окликали друг друга, разговаривали, смеялись. Эркин прислушался, даже головой повертел, но знакомых никого не увидел. Первая проходная… вторая… знакомый коридор… а вот и двор.
Ночью выпал снег, и двор казался светлым. Эркин огляделся. Вроде вчера, когда Старшо́й, да, Медведев, его окликнул, все стояли вон там. Значит, здесь и подождёт остальных. Только чего это он один? Вроде… Эркин посмотрел на часы. Без пяти семь. Ладно. Главное – не опоздал.
– О, уже здесь, здоро́во!
Эркин обернулся, увидел Кольку-Моряка и улыбнулся.
– Здоро́во! А… остальные где?
– А вон идут. Ты как это проскочил, что тебя не заметили?
Эркин пожал плечами. Он уже видел остальных. Саныча, Геныча, рыжебородого, а вон и Ряха суетится, мельтешит, и Медведев идёт…
– Ага, – кивнул Медведев, увидев Эркина. Как и вчера подошёл вплотную, шевельнул ноздрями, принюхиваясь, и кивнул. – Хорош. Все за мной, – и уверенной развалкой пошёл к платформам.
Натягивая поверх варежек брезентовые рукавицы, Эркин шёл рядом с Колькой. Значит, это что, Медведев его на перегар проверял? Ну… правильно, на то он и Старшо́й, Арч, помнится, таких, кто после пьянки припёрся, одним пинком из ватаги вышибал. Ряха там чего-то верещал про вождей и томагавки, но это Эркина не волновало. Он на прописку дал, его прописку приняли, а что в ватаге шакала держат… ладно. Не он старшо́й, так не его проблема. А интересно: что это такое – то-ма-га-вк? У кого бы спросить, чтобы Ряха не пронюхал?
Работа оказалась хитрой. Снимать с платформ ящики и тут же закатывать на их место железные бочки. И менять крепления. Ящики в одно место, бочки из другого… круговерть. А их всего… двенадцать. Четверо на ящиках, четверо на бочках, а двое крепления меняют и сходни двигают. Бочки тяжеленные, их только вдвоём ворочать, а катать нельзя. Ну, не гадство?! Но Эркин был доволен: он попал в пару с Колькой. Колька – не Ряха: и языком треплет, и руки прикладывает. А бочки – такие не такие, но похожие – они ещё тогда с Андреем ворочали, тогда и рукавицы получили. А с Колькой получается. Подладились они друг к другу.
– Пошёл…
– На меня…
– Есть… Давай…
– Пошёл…
Медведев командовал расстановкой ящиков, да суетился и шумел Ряха, а на креплении распоряжался Саныч. Работали споро, без ненужной толкотни. И шум вокруг стоял тоже привычный, как на Джексонвиллской станции, только вот… пересвистывания рабского нет – вдруг заметил Эркин. Хотя, чего ж тут странного? Он который день в городе, а цветных, считай, не встречал. Неужто он на весь город один такой? Смешно даже.
Оглушительно, перекрыв все лязги и грохоты, заверещал звонок.
– Обед? – спросил Эркин у Кольки.
– Ну да. Дотащим её, что ли?
– Не оставлять же здесь, – пожал плечами Эркин.
– Ну, давай, – кивнул Колька и заорал: – Саныч! Нас подожди.
– Давайте по-скорому, – отозвался с платформы Саныч, передвигая сходни вдоль платформы.
Остальные уже уходили. Эркин с Колькой дотащили бочку, подняли её на платформу, вставили в ряд, и Эркин помог Санычу закрепить растяжку. Напарник Саныча уже ушёл.
– Уф! – Колька сдёрнул рукавицы и сбил ушанку на затылок. – Айда обедать, – и посмотрел на Эркина, – С нами?
Эркин кивнул. Саныч спрыгнул с платформы, и они втроём пошли через весь двор к дальнему крыльцу, перешагивая через рельсы.
Было уже совсем светло, под ногами без хруста и скрипа поддавался тёмный истоптанный снег. Поднялись на высокое – в десять ступенек – крыльцо и вошли в просторный, неожиданно светлый зал. Эркин шёл за Колькой и Санычем, памятуя старое правило: «Не знаешь, что делать, делай как все». Как и они, он снял и сдал на вешалку куртку и шапку, переложив бумажник в джинсы, и получил жестяной, похожий на табельный, номерок. В уборной под длинным во всю стену зеркалом ряд раковин, и даже мыло лежит у каждой, а полотенце? Вместо полотенца была сушка. Как в Паласе, но маленькой коробкой и так, что горячий воздух шёл только на руки. А столовая похожа на лагерную. И Эркин почувствовал себя увереннее. Они встали в общую очередь, взяли подносы… Эркин по-прежнему держался за Колькой и Санычем и – на всякий случай – взял себе то же, что и они. Здесь не давали, как в лагере, готовый паёк, а ты сам переставлял себе на поднос тарелки, и не на талоны, а за деньги. Обед стоил рубль. Получив и спрятав сдачу, Эркин взял поднос и пошёл по залу, отыскивая свободное место. И когда Колька призывно махнул ему из угла, радостно поспешил туда.
– Ну, – Колька весело подмигнул сидевшим за этим же столом двум девчонкам в белых косынках и пёстрых кофточках под белыми халатиками, – будем жить, девчата!
Девчонки посмотрели на него, покосились на Эркина, фыркнули, допили компот и встали, собрали свою посуду и ушли.
– Сборщицы-наладчицы, – мотнул головой им вслед Колька, – аристократия, понимаешь ли, а мы – трудяги с первого рабочего. Вот оно как, браток.
Что такое аристократия, Эркин не знал, но общий смысл понял и кивнул.
Ели здесь быстро, но без рабской жадности. Народу много, на место девчонок тут же сели двое мужчин в тёмных рубашках и синих полукомбинезонах. Они увлечённо продолжали свой спор, непонятный Эркину, а потому и неинтересный.
– Ну вот, поели, – Колька, допив компот, вытряхнул себе в рот ягоды, – теперь бы поспать, а надо работать. Ты чего б хотел?
Эркин улыбнулся, и Колька понимающе кивнул.
– Всё ясно. Тогда пошли.
– Давайте, давайте, – поторопила их женщина в тёмно-зелёном халате с полным подносом в руках. – А то ишь, как в ресторане расселись.
И в столовой, и возле вешалки Эркин всё время чувствовал на себе внимательные, любопытные, но… но не враждебные взгляды. Это было, в общем-то, привычно. Всю жизнь он такой… приметный.
Уже у двери во двор Кольку кто-то окликнул, и Эркин, не желая вмешиваться в чужие дела, вышел. Редкий снег, двор пуст и тих. Эркин посмотрел на часы. Без пяти двенадцать. С запасом успели. А ведь они ещё позже других ушли, и в очереди долго стояли, так что… как Колька сказал? Будем жить? Будем! Эркин не спеша, спокойно глазея по сторонам, пошёл к платформам. Вроде, они там ещё не закончили. Ага, вон бочки стоят. И ещё целая платформа ящиков. Это… это получается, им до конца смены хватит. Эркин присел на край платформы, положив на колени брезентовые рукавицы. А хорошее бельё какое. И не холодно в нём, и от пота не липнет. И рукоятка не мешает, ну, если честно, почти не мешает. Всё-таки большая она. Когда куртку снял, заметил в зеркале, как выпирает под рубашкой. Может и впрямь лучше ремешок за пояс зацепить, а саму в карман сунуть? Ладно, вон уже Старшо́й с остальными идёт. Эркин натянул рукавицы и встал. Медведев молчаливым кивком поставил всех по местам, и утренняя карусель снова завертелась. И даже чуть побыстрее. Или это только кажется? Всё-таки, когда сыт, на всё по-другому смотришь, да ещё когда не «кофе с устатку» в закутке с куском хлеба, а нормальный обед за столом в чистоте… нет, будем жить!
– Пошёл…
– Давай…
– Ровней…
– На себя подай…
– Эй, Старшо́й, перекурить бы…
– Сделаем – перекурим…
– Улита едет…
– Давай, шевелись, улита!..
– Лево…
– Крепи…
– На меня…
– Есть…
– Пошёл…
Ящики уже все, и та четвёрка тоже на бочках.
– Давай, мужики, паровоз под парами!
– А пошёл он!..
– Ага, есть!
– Да куды ж ты её пихаешь, мать твою, левее подай!
– Саныч, крепи!..
– Поучи меня!..
Ругань крепче и забористее. Над Ряхиной болтовнёй уже не гогочут. Ну, ещё… и ещё… и ещё… И… и все? Последняя? Да, вон её уже без них волокут. Эркин огляделся, проверяя себя, посмотрел на Кольку.
– Все?
Колька кивнул и заорал:
– Старшо́й, спустить паруса, вёсла сушить!
Его поддержали дружным весёлым гомоном. Медведев махнул рукой куда-то в конец двора.
– Подавай! – и, когда ему в ответ тоненько свистнул маленький паровоз, повернулся к бригаде: – Пошли, мужики.
Эркин пошёл со всеми. Хотя по его ощущению времени до конца смены оставалось совсем немного, и вряд ли им дадут новую работу, но раз бригадир сказал всем идти, то наверняка это и его касается.
Вошли в уже знакомую дверь, но повернули сразу налево, в другой коридор, ещё поворот, и Медведев властно распахнул дверь с крупно нарисованной цифрой пять. Большой стол и табуретки, раковина с краном и маленькое зеркальце в углу, доска с набитыми крючками у двери и узкие дверцы по двум стенам. Эркин растерялся, не понимая, куда и – главное – зачем они пришли. Но остальные по-хозяйски спокойно, уверенно снимали и вешали на крючки куртки и шапки и рассаживались за столом. Некоторые вначале смотрели в дальний правый от двери угол, где висела маленькая тёмная… картинка вроде, и крестились. Эркин снял шапку и расстегнул куртку, но остался стоять у двери, не зная, что делать. Остался стоять и Медведев.
– Ну, что, мужики? – сказал он, когда все сели за стол. – Подобьём бабки или как?
– Подобьём, – кивнул рыжебородый.
– Что надо, всё увидели, – кивнул Саныч.
Все заговорили наперебой.
– Руки есть, и голова варит.
– И не болтун.
– Да уж, чего нет, того нет.
– Не новичок, куда не надо, не лезет.
– Пашет без булды.
– И в паре хорош.
Эркин, начиная смутно догадываться о смысле происходящего, молча следил за говорящими, стараясь не мять, не скручивать ушанку.
– Так что, – когда все замолчали, снова заговорил Медведев, – берём его?
– Берём, – кивнул Саныч.
Закивали и остальные.
– Сто́ящий парень.
– Ладно, пойдёт.
Колька широко улыбнулся Эркину, да и остальные смотрели на него теперь гораздо доброжелательнее.
– Ну, давай знакомиться, – сказал Рыжебородый. – Я вот Антип Моторин. А тебя как звать-величать?
– Эркин Мороз, – ответил Эркин.
Он стоял по-прежнему у двери, но Медведев жестом пригласил его к столу, а остальные кивали и улыбались. Дёрнулся как-то молчавший всё время Ряха, но этого не заметили. И Эркин снял и повесил на ближний крючок куртку, пристроил там же ушанку и подошёл к столу.
– Мороз – это пойдёт, – кивнул Саныч. – А я Тимофей Александрович Луков.
– Саныч он, – перебил его Колька. – Николай Гольдин, будем знакомы.
Имена, прозвища, всё вперемешку, рукопожатия. Жали ему руку крепко, явно проверяя, и Эркин отвечал тем же, соразмеряя силу. В общей суматохе, кажется, и Ряха сунул ему свою пятерню с какой-то жалкой просящей улыбкой, которую Эркин не понял. И вот он уже сидит со всеми за столом, и на стол падают пачки сигарет, и общий разговор про откуда приехал, где поселился, один или семейный. И Медведев кивает ему на одну из дверец.
– Твой будет.
И ему объясняют, что это шкафчик, в понедельник пусть на полчаса раньше придёт и у кладовщицы, Клавка как раз дежурит, ну, рыжая подберёт, а она уже рыжая, да, покрасилась, за пятьдесят бабе, а всё Клавка, да уж старается, ну, робу у неё получишь, куртку, штаны, валенки, и будешь переодеваться, а то чего в рабочем по городу идти, и своё на работе трепать не следовает…
– У меня нет другого, – тихо сказал Эркин.
– Ничо! – хлопнул его по плечу Колька. – Я вон тоже бушлат таскаю.
– Ага, до снега в бескозырке ходил, уши морозил, но чтоб девки об нём обмирали.
Эркин смеялся вместе со всеми. А ему рассказывали заодно и когда смены начинаются и заканчиваются, и сколько на обед положено, и чего можно и нельзя во дворе…
Медведев встал, достал из своего шкафчика и положил на стол две большие толстые замусоленные тетради. Их встретили добродушным гоготом.
– Ага, Старшо́й, бумажка она…
– Сильнее пули бывает.
Медведев с чуть-чуть нарочитой строгостью раскрыл тетради.
– Так, Мороз, грамоту знаешь? Писать умеешь?
– Две буквы, – честно ответил Эркин.
За столом хмыкнули, улыбнулись, но язвить и насмехаться не стали. Даже Ряха, быстро поглядев по сторонам, промолчал.
– Вот, здесь их и напиши, – Медведев дал ему ручку и пальцем ткнул в нужное место. – Это за то, что ты про распорядок и технику безопасности прослушал и понял.
Эркин старательно вырисовал E и M.
– Так, – Медведев закрыл тетрадь и открыл другую. – А это серьёзней. Это о предупреждении о неразглашении.
Эркин недоумевающе вскинул на него глаза.
– Чтоб про завод не болтал, – серьёзно сказал Саныч. – Вышел за ворота, и язык подвязал. Работаешь грузчиком и всё, больше никому и ничего.
И остальные перестали улыбаться, смотрели серьёзно и даже строго.
– Завод не простой, – кивнул Лютыч. – За это так прижмут, что…
– Ну, что круглое таскаем, а квадратное катаем, это можно, – хмыкнул Колька.
– Тебе можно, а ему ещё рано, – отрезал Саныч. – Отшутиться не сумеет, пусть молчит. Всё понял, Мороз?
Эркин кивнул.
– Тогда подписывай, – подвинул ему тетрадь Медведев.
Эркин расписался. Медведев стал убирать тетради, все радостно зашумели, задвигались.
И тут подскочил Ряха.
– Ну что, по домам, мужики? Пятница ведь, бабы, небось, с пирогами ждут.
– Вали, – отмахнулся от него Медведев.
– Без тебя Мороза пропишем, – кивнул Саныч.
Ряха мгновенно выметнулся за дверь, а Эркин удивлённо посмотрел на Саныча.
– Как это?
– Ты что? – удивились его вопросу и стали опять наперебой объяснять: – Про прописку не знаешь? Да не бойсь, по паре пива поставишь… Сейчас переоденемся и пойдём…
– Опять?! – вырвалось у Эркина.
– Чего опять? – не поняли его.
– Я вчера уже дал. На прописку, – тихо сказал Эркин.
Он уже понял, что Ряха тех денег не отдал, и ему теперь придётся платить по новой. Ряху он потом найдёт и морду ему набьёт, но денег-то не вернёшь.
– Кому ты что дал? – спросил Медведев.
Колька вскочил на ноги, опрокинув табурет, и вылетел за дверь.
– Та-ак, – протянул Саныч. – Так кому, говоришь, дал?
– Ряхе, – неохотно ответил Эркин.
– И много?
– Чего он тебе наплёл?
– Когда успел-то?
– А после смены, – Эркин говорил, угрюмо глядя в стол. Злился уже даже не из-за денег, а что таким дураком себя показал. Теперь над ним долго ржать будут. Всей ватагой. А то и заводом. – Сказал, что я должен каждому по бутылке водки, а старшо́му – две. Ну, и на закуску.
Кто-то присвистнул.
– Однако, размахнулся Ряха.
– И сколько ты ему дал?
– Пятьдесят рублей, – вздохнул Эркин.
– Ни хрена себе!
– И взял Ряха?
– А чего ему не взять?! Ряха же!
– Ну, мать его… – Геныч сочувственно выругался.
– А ещё что сказал?
– А ничего, – Эркин взмахом головы откинул со лба прядь, – чтоб я домой шёл и не беспокоился. Он всё сам сделает.
– Так чего ж ты с утра молчал?
– А что, – Эркин наконец оторвал взгляд от стола и посмотрел им в лица. Нет, не смеются. – Всюду свои порядки. Удивился, конечно, за глаза у нас не прописывали, а тут…
Он не договорил. Потому что с грохотом распахнулась дверь, и Колька за шиворот втащил Ряху.
– Во! У центральной проходной поймал. Прыткий, сволочь!
– Так, – встал Медведев. – Прикрой дверь, – Колька тут же выполнил приказ. – Так что ты вчера у Мороза взял?
– Д-да, – выдохнул Ряха, быстро шаря взглядом по сумрачно внимательным лицам. Эркин снова смотрел в стол, и встретиться с ним глазами Ряха не смог. – Так… так я не брал, он сам мне дал. Да вы что, мужики? Ну, он же вождь, ему шикануть надо, ну, чтоб над нами себя поставить, какой он и какие мы. Деньги у него шальные, понимаешь…
– Деньги на стол, – тихо сказал Медведев.
– Да я… да он… да вы что, мужики, ну я ж для смеху, – частил Ряха, – а он дурак дураком, как сейчас с дерева слез, ну, мужики, ну, не успел я вчера, так сегодня ж пропить не поздно…
– На стол, – жёстко повторил Медведев.
Ряха дёрнулся было к двери, но тут же опустил голову, подошёл к столу и вывернул из карманов кучу мятых замусоленных бумажек, высыпал мелочь. Бумажный ворох Медведев подвинул к Эркину.
– Считай.
Не поднимая головы, Эркин разгладил и разложил бумажки.
– Ну?
– Тридцать семь рублей.
– Забирай, – кивнул Медведев. – Ряхов, с тебя ещё тринадцать рублей Морозу долгу. Тоже при всех отдашь.
– И за обиду парню пусть заплатит, – сказал немолодой, с рыжеватой щетиной на щеках, Лютов или Лютыч.
– Он всех нас обидел, – кивнул Саныч. – Ещё десятка с тебя Морозу за обиду и на круг десятка. В получку и отдашь.
– Да… да вы что? – задохнулся Ряха. – Да…
– Против круга пойдёшь? – удивился Геныч. – Ну, тебе решать.
– Всё, – Медведев хлопнул ладонью по столу. – Забирай деньги, Мороз. Всё, мужики. Переодеваемся и айда.
Все дружно встали. Эркин, взяв деньги, отошёл к вешалке и заложил их в бумажник, и уже оттуда смотрел на шумно переодевающихся, умывающихся и причёсывающихся перед зеркальцем мужчин. Ряха сгрёб оставшуюся на столе мелочь. Переодеваться он не стал, оставшись в рабочем.
– Замок свой из дома принесёшь, – сказал Эркину Колька. – И лады́.
– Лады́, – кивнул Эркин.
Переодевались до белья, кое-кто и рубашки менял. Куртка, штаны, валенки в шкафчик, Медведев и ушанку туда же, ну да, для города у него рыжая мохнатая. Грязную рубашку в узелок.
– Баба за выходные отстирает, в понедельник чистую принесёшь, понял?
– В понедельник с утра?
– А то!
– Эй, старшо́й, как на той неделе?
– В утро ж, сказали.
– Уши заложило, так промой.
– Мороз, в полседьмого в понедельник.
– Понял, а кладовка?..
– По коридору налево и до конца.
– Клавка сама тебя окликнет.
– Да уж, не пропустит!
– Это точно. Баба хваткая…
– На новинку падкая!
И дружный гогот.
Со звоном закрываются висячие замки на дверцах, уже не шарканье разбитых валенок, а стук подошв ботинок, сапог, обшитых кожей белых бурок. В ватных куртках только он и Ряха, остальные в коротких пальто с меховыми воротниками, полушубках, у Кольки куртка чёрная с золотыми нашивками и блестящими пуговицами.
– Всё, мужики, айда.
Общей шумной толпой по коридору к проходной, со смехом и шутками разобрали табельные номера и дальше, на пропускной…
– Счастливого отдыха…
– И вам от нас…
Ну, вот уже и улица, лёгкий снежок крутится в воздухе, и под ногами снег. И деревья в снегу, и каждый карниз, изгиб фонаря обведён белой каймой свежевыпавшего снега.
Той же шумной толпой подошли к неприметному одноэтажному дому из тускло-красного кирпича с двумя запотевшими до белёсой плёнки окнами и тёмной почти чёрной дверью между ними. Над дверью вывеска, тоже чёрная с тусклыми, как полустёртыми, золотыми буквами. Шедший первым Медведев властно распахнул дверь. За ней, к удивлению Эркина, открылся просторный зал с высокими круглыми столиками и прилавком в глубине. Здесь не раздевались и даже шапок не снимали, на полу лужицы от стаявшего с обуви снега и кучи мокрых опилок. Но столы чистые, и запах… нельзя было назвать неприятным.
– Ну, Мороз, – улыбнулся Медведев. – Давай. По двойной каждому, так, мужики? – все кивнули. – Ну и там, сосиски, что ли…
– Да ну их… – весело выругался Колька, подталкивая Эркина к прилавку. – Из кошатины у них сосиски.
– Язык у тебя из кошатины, – пузатый белобрысый усач за прилавком внимательно посмотрел на Эркина. – Не знаю тебя. Прописка, что ли?
Эркин кивнул.
– И сколько вас?
– Со мной двенадцать, – ответил Эркин, заметив, что Ряха пришёл со всеми. – Поднос есть?
Одобрительно кивнув, усач поставил на поднос двенадцать пузатых стеклянных кружек с ободком посередине, налил пива и быстро составил стопку из двенадцати картонных тарелок с тремя бутербродами на каждой.
– Держи. Ровно тридцать с тебя.
Эркин расплатился Ряхиными бумажками и понёс поднос к угловому столику, который был побольше остальных, и потому все поместились. Эркина встретили радостным гомоном.
– Во, это я понимаю!
– Ну, даёшь, Мороз.
– Это по-нашенски!
– Гуляй душа!
Когда все разобрали кружки и тарелки, Эркин хотел отнести поднос, но его ловко прямо из-под локтя у него выдернула бродившая между столиками с тряпкой старуха в белом, повязанном по брови, платке и клеёнчатом длинном фартуке.
– Ну, – Медведев оглядел стоявших весело блестящими синими глазами. – Ну, за Мороза, чтоб и дальше ему с нами, а нам с ним работалось, – и, когда все сделали по глотку, строго сказал: – Кому чего сверх надо, то уж сам платит.
– Да ладно, Старшо́й, – поморщился Лютыч. – Чего ты из-за одной… – он забористо охарактеризовал Ряху, – на всех баллон катишь.
Эркин перевёл дыхание: всё, вот теперь настоящая прописка.
В общем разговоре рассказов и расспросов одновременно он узнавал, что две недели с утра, с семи до трёх, а две – с трёх и до одиннадцати, а получка во вторую и четвёртую пятницы… сейчас-то что, а вот в войну в три смены… в две, но по двенадцать… было дело, кто помнит… да ладно, нашёл что вспоминать… ни выходных, ни отгулов… война по всем прошлась… а на фронте… я пять лет отбухал, раненый, а… ладно вам, семья-то большая, Мороз?
– Жена и дочка, – охотно ответил Эркин.
– А поселился где?
– В «Беженском Корабле».
– От Комитета, значит?
– Ну да, туда только через Комитеты.
– Ага, беженский ещё и ветеранский.
– Ага, и этот… жертв и узников…
– Ветеранский отдельно, уж я-то знаю.
– Квартира хорошая-то?
Эркин кивнул.
– Тёплая. И большая.
– С ремонтом?
– Или сам делать будешь?
– Сам, – Эркин кивнул и несколько небрежно бросил: – Не знаю, кто там раньше жил, но ремонт надо делать.
Он рассчитывал, что эта хитрость пройдёт. И прошла. Никто ту троицу и не вспомнил.
– Я тоже в «Беженском», – сказал Миняй в новеньком белом полушубке. – В правой башне. А ты?
– В левом крыле.
– Земляки, – подал наконец голос Ряха, молчавший до этого вмёртвую.
Но его не заметили, и он опять уткнулся в кружку.
– И давно приехал?
– Во вторник.
– Не обустроился ещё?
– Начать и кончить, – усмехнулся Эркин.
– Ага, – кивнул Саныч. – В воскресенье, значит, дома будешь?
– Сороковины у меня в воскресенье, – хмуро ответил Эркин.
– Кого поминаешь-то?
– Брата. Убили его в Хэллоуин.
– Чего?
– Это где?
Эркин удивлённо посмотрел на них. Они не знают про Хэллоуин? Как такое может быть? Смеются, что ли? Да нет, лица серьёзные.
– Это праздник такой. Ну, и на Хэллоуин, – он заговорил медленно, подбирая русские слова, – хотели поворот сделать, назад, как до Свободы, повернуть.
– Реванш называется, – влез было Ряха и опять его не заметили.
– Кто?
– Ну, не мы же…
– Ну, понятно.
– Да чего там, недобитки, значит…
– Да, – кивнул Эркин. – Кого зимой в заваруху, – у него всё-таки начали проскакивать английские слова, но его, судя по лицам и репликам, понимали, – не добили.
– Ну, а вы что?
– Так ты с той стороны, не с Равнины?
– Опомнился!
– До тебя как до того жирафа…
– Давай, Мороз, так вы что?
– А мы отбивались. У них пистолеты и автоматы, у нас ножи да палки с камнями. Ну и…
– Понятно, чего там…
– Палкой пулю не отобьёшь.
– Подстрелили его? Ну, брата твоего?
Эркин покачал головой. Говорить об этом было трудно, но он понимал, что надо сказать.
– Нет, его… он убегал, нет, на себя отвлёк… ну, его догнали, избили, потом облили… бензином… и подожгли. Он ещё жив был… кричал.
Эркин судорожно вздохнул и уткнулся в свою кружку, пряча лицо. Молчали долго. А потом кто-то – Эркин не видел кто – тихо спросил:
– А похоронил его где?
– Там же. В Джексонвилле. Всех наших, ну, цветных, у цветной церкви. Кладбище сделали.
– Ну, земля ему пухом, – вздохнул Лютыч. – И царствие небесное.
– И память вечная.
Глотнули, помолчали ещё немного и повели речь уже о другом, давая Эркину справиться с собой.
Хоть и пили не спеша, за разговором, но кружки опустели, и бутерброды уже съедены. И компания стала потихоньку разваливаться. Кто за повтором пошёл, кто прощаться стал. Эркин понял, что и ему можно уйти. Прописка закончена.
– До понедельника всем.
– До понедельника.
– Бывай, Мороз.
– Ты домой уже?
– Да, а ты?
– Я по второй.
– Ладно, прощевайте, братцы, отчаливаю.
– Бывайте.
– И ты бывай.
На улице было уже совсем темно. Эркин посмотрел на часы. Ну и ну, почти шесть! Надо же, как время прошло. Женя уже волнуется наверняка, а он тут гуляет… ну, ничего, он объяснит, что вчера его обманули, как дурачка купили, а сегодня настоящая прописка была. И Женя поймёт, она всегда понимает. Всё, теперь домой. Да, Женя же сказала, чтоб он купил чего-нибудь в дом. Из еды, наверное, да, вкусненького.
Эркин решительно завернул в ближайший магазин, где на витрине громоздились башни из конфет, печенья и пряников. Здесь пахло… ну, совсем умопомрачительно. И девушка в коричневом, шоколадного цвета платье с маленьким белым кружевным фартучком и с такой же повязкой на голове улыбнулась ему.
– Здравствуйте. Что бы вы хотели?
– Здравствуйте. Мне бы шоколаду, – ответно улыбнулся Эркин.
– Пожалуйста-пожалуйста, – закивала она. – У нас большой выбор. Для друга, в семью? Есть подарочные наборы.
– Мне для девочки, – открылся Эркин.
Она высыпала перед ним несколько плиток в ярких обёртках с изображениями кукол, котят и цветов.
– Или вот, новинка, – эта плитка была чуть побольше, а обёртка не блестящей, а какой-то, по сравнению с другими, блёклой. – Смотрите, это кукла, а внутрь вложен лист. С одеждой. Младенец с приданым. Для девочки чудный подарок, – убеждённо сказала продавщица.
И Эркин взял для Алисы плитку с куклой, а для Жени – большую, в пёстрой красной с золотом обёртке.
– Это «Жар-птица», – девушка быстро завернула обе плитки в изящный красивый пакетик. – Отличный шоколад. Всё? Четыре сорок шесть. Заходите к нам ещё.
Эркин ещё раз улыбнулся ей, пряча пакетик в карман куртки, и вышел. Снова шёл снег, и ветер появился. Он поглубже надвинул ушанку. А… а пропади оно всё пропадом, купит он себе полушубок! Не будет, как Ряха, в рабочем ходить. И бурки. Как у других. Белые, обшитые тёмно-коричневой кожей. Он… он не хуже других.
На белом заснеженном тротуаре цветные пятна от витрин и окон. А вон и «Корабль». Колька заржал сегодня, услышав про «Беженский Корабль», ну и пусть, Колька – безобидный, болтает, а парень хороший. Повезло с ватагой. А Ряха не в счёт. Вот не ждал, что все так на его сторону встанут, накажут Ряху за обман. Надо же… ну, деньги вернуть – это понятно, но десятка за обиду… Чудно! Ряха притих как сразу, тише мышки стал.
– Здравствуй, Мороз.
– Здравствуйте, – весело поздоровался Эркин с участковым, открывая дверь.
Прыгая через три ступеньки, он взбежал на второй этаж, уже гудевший детскими голосами и смехом. Ну да, самое игровое время. Но Алисы нет. Женя уже позвала её домой? Или случилось что? Он открыл своим ключом верхний замок, вытер ноги и вошёл.
В кухне горел свет и чему-то смеялась Женя. У него сразу отлегло от сердца. А тут ещё из своей комнаты вылетела Алиса с неизменным визгом:
– Э-эри-ик! Мама, Эрик пришёл!
– Эркин! – из кухни выглянула румяная улыбающаяся Женя. – Ну, наконец-то!
И чей-то незнакомый голос сказал:
– Ну и слава богу, а пятница – святой день, хоть кружечку мужик да пропустит.
Эркин насторожился. В квартире кто-то чужой? Кто? Зачем? Алиса вертелась перед ним с его шлёпанцами в руках, а он напряжённо смотрел на Женю, ожидая её слов. Женя поняла и быстро подошла к нему.
– Раздевайся, Эркин. Гости у нас. Всё в порядке?
Он кивнул, медленно стягивая куртку.
– Гости? Кто? – тихо спросил он.
– Соседи. Вернее, соседка. Зайди, поздоровайся. Она хорошая.
Эркин наконец разделся и переобулся. И вошёл в кухню. У стола, покрытого красно-белой скатертью, сидела невысокая широкая старушка в накинутом на плечи узорчатом платке.
– Здравствуйте, – не очень уверенно сказал Эркин.
– Здравствуй, здравствуй, – приветливо ответила она. – Будем знакомы. Евфимия Аполлинарьевна я, – и рассмеялась его смущению. – А так-то Баба Фима. Ну, спасибо за чай да сахар, Женя. Теперь тебе его вон кормить, ублажать, с работы пришёл. А я пойду.
– Поужинайте с нами, – предложила Женя.
– Нет уж, – Баба Фима лукаво подмигнула им. – Вам и без меня есть о чём поговорить. Ты заглядывай ко мне, Женя. А тебе доброго отдыха.
Её низкий певучий голос показался Эркину неопасным и даже добрым, и он улыбнулся ей.
– Спасибо, – и после секундной заминки: – Баба Фима.
Она с улыбкой кивнула.
– На здоровье. Как звать-то тебя?
– Эркин.
Она пошевелила губами, явно повторяя про себя его имя, и Эркин, вспомнив многократно уже слышанное: «Мороз – это пойдёт», – повторил, добавив фамилию:
– Эркин Мороз.
Она сразу радостно кивнула:
– Вот и ладно, – и встала. – Доброго вечера тебе, Мороз.
Встав, она оказалась совсем маленькой, едва доставая макушкой с гладко зачёсанными назад и собранными в пучок на затылке седыми волосами до груди Эркина. А длинная, до пола, юбка и лежащий на плечах платок делали её почти квадратной.
– И вам доброго вечера, – провожала её до дверей Женя. – Заходите ещё.
– До свидания, – очень вежливо попрощалась Алиса.
Женя закрыла дверь и подошла к Эркину.
– Ну как? Всё в порядке?
– Да, – наклонившись, он осторожно коснулся губами её виска. – А у тебя?
– Всё хорошо. Мыться пойдёшь? Или просто умойся, переоденься, и сядем ужинать. У меня всё готово.
– Хорошо, – кивнул Эркин, – да, я купил, у меня в куртке, в кармане.
Вертевшаяся рядом Алиса насторожилась.
– А чего ты купил?
– Сейчас принесу, – улыбнулся Эркин.
Он быстро сходил в прихожую и принёс свёрток. Женя взяла его и строго сказала Алисе:
– После ужина, – и посмотрела на Эркина. – Да?
– Да, – кивнул он. – Я сейчас.
– Грязное в ящик кидай, – крикнула ему вслед Женя. – Алиса, помоги накрыть.
– А Эрику полотенце?
– Он сам возьмёт.
Войдя в ванную, Эркин быстро переоделся. И вовремя. Он еле успел на штанах узел затянуть, как явилась Алиса.
– Эрик, ты моешься или умываешься?
– Умываюсь, – ответил Эрик, натягивая тенниску.
– Тогда я тебе полотенце держать буду, – заявила решительно Алиса.
Эркин помог ей стянуть с сушки полотенце и стал умываться. Алиса терпеливо ждала, взвизгнула, когда он, умывшись, брызнул на неё водой, и тихонько спросила:
– Эрик, а ты чего принёс? Оно съедобное или игральное?
– И то, и другое, – ответил Эркин, вешая полотенце.
А вообще-то – подумал он – надо в спальне переодеваться. Раньше ж он это в кладовке делал.
Скатерть Женя уже заменила клеёнкой, на сковородке шипела и трещала яичница с колбасой, в чашках дымился чай.
– Эркин, суп ещё есть. Хочешь?
– Я там обедал, – мотнул он головой, усаживаясь на своё место.
– Мам, а то, что Эрик принёс?
Женя посмотрела на Эркина, и он ответил:
– Это к чаю.
– Значит, вкусненькое, – понимающе кивнула Алиса и занялась яичницей.
– Я сегодня её с собой взяла, – рассказывала Женя, придвигая ему хлеб и масло. – Погуляли заодно. Церковь в Старом городе только. Завтра, когда на рынок пойдём, посмотрим. Ну, и пройдёмся. Я только продукты покупала. А с понедельника начнём всё для ремонта покупать.
Эркин ел и кивал.
– А у тебя как?
– Всё хорошо, – он смущённо улыбнулся. – Меня обманули вчера. А сегодня уже настоящая прописка была. Ватага, нет, бригада меня приняла. Я… пива выпил. Ничего?
– Ничего, ничего, – Женя подложила ему яичницы. – А потом Баба Фима пришла. Я уже беспокоиться стала: темно, а тебя нет. Вдруг что… а она мне объяснила, что по пятницам все мужчины пиво пьют, и тебе нельзя, – она фыркнула, – компанию ломать.
– Всё так, – кивнул Эркин. – Она здесь живёт?
– Да, в башне. Оказывается, в левой башне два этажа маленьких квартир. Для одиноких. Представляешь, у неё никого нет. Все в войну погибли.
Эркин сочувственно кивнул.
– Мам, я всё съела, – напомнила о себе Алиса.
Женя рассмеялась и убрала тарелки. Подала Эркину свёрток. И он не спеша распаковал его. Женя ахнула, а Алиса завизжала. А когда разобрались, что не просто обёртка, а кукла, да ещё – рассмеялась Женя – с «одёжками», то восторгу не было границ и конца. Женя принесла из спальни маленькие ножницы, аккуратно и ловко вырезала куклу и нарисованные на вложенном в плитку листке распашонки, ползунки, чепчики… показала Алисе, как одевать и раздевать куклу. К изумлению Эркина, на обёртке было целое стихотворение про куклу и даже указано её имя. Куклу звали Андрюшей.
– Женя, я не знал…
– Всё хорошо, милый, – она улыбнулась ему, и он сразу ответил улыбкой. – Ты молодец, что купил.
Алиса так занялась новой куклой, что забыла не только про чай, но и про шоколад. Нет, мама раньше и рисовала, и вырезала ей кукол с «одёжками», но те все как-то быстро рвались и терялись, а эта… Женя и Эркин пили чай и смотрели на сосредоточенно шепчущую что-то себе под нос Алису, которая одевала и раздевала Андрюшу.
– Пойдёшь помоешься?
– Да, – кивнул Эркин.
– Я послежу за ней, – улыбнулась Женя.
– Завтра я крючки сделаю, – сказал Эркин, вставая. – Купим, и я прибью.
– Иди мойся, – Женя, улыбаясь, смотрела на него. – А потом я её уложу, и мы всё обсудим на завтра.
– Да, – он счастливо улыбнулся и сказал по-английски: – Костровой час.
И Женя, тихонько рассмеявшись, кивнула.
Эркин зашёл в тёмную спальню, снял и положил на подоконник часы, снял, помедлив, с шеи ремешок с рукояткой и положил рядом. Рукоятка была тёплой и чуть скользкой от его пота. Потёр грудь. Да, лучше, наверное, зацепить за пояс и носить в кармане. Ладно. Андрюша… Он ни разу не назвал так Андрея. Даже не знал. В лагере только услышал, как какая-то женщина называла так сына. Тоже Андрея. Андрей, брат. Андрюша… Ладно. Он тряхнул головой и пошёл в ванную.
Женя играла с Алисой, прислушиваясь к плеску воды в ванной. Хорошо, что завтра ему не надо на работу, сможет выспаться. Как он устал за эти два дня, даже осунулся. Ну, ничего. Два дня выходных, отдохнёт, выспится. Тяжело вставать в темноте.
Эркин вымылся тщательно, но торопливо. Алисе пора спать, а пока он не освободит ванную, Женя не может её уложить. Ну, вот и всё. Он вышел из душа, вытерся и натянул рабские штаны и тенниску. Надо бы зеркало в ванную. И… и с ума сойти, сколько всего нужно. Он ещё раз вытер голову и вышел.
– С лёгким паром, – встретила его Алиса. – Эрик, смотри, Андрюша здесь жить будет.
Эркин узнал коробочку из-под «пьяной вишни в шоколаде» и улыбнулся. И впрямь… удобно.
– Правда, хорошо? – смотрела на него снизу вверх Алиса.
– Да, – кивнул Эркин. – Хорошо.
– Алиса, – позвала Женя. – Убирай игрушки и давай ложиться, спать пора.
– Ладно, – согласилась Алиса.
Эркин отдал ей коробочку с куклой, и она убежала в свою комнату. А Эркин пошёл на кухню. Пощупал чайник. Остыл уже, надо подогреть. Как на этой плите всё остывает быстро. Он осторожно – всё-таки не привык ещё – зажёг газ, снова удивился голубому, а не красному, как в печке, огню и поставил чайник на конфорку. На столе две чашки, на блюдечке квадратики шоколада.
– Э-эрик, – позвала его Алиса.
И он понял, что наступил момент поцелуя на ночь. Алиса так привыкла к этому в лагере, что теперь неукоснительно следила за соблюдением ритуала. Он зашёл в её комнату, где на подоконнике сидели и лежали её игрушки, наклонился и осторожно коснулся губами её щёчки.
– Спи, Алиса, спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – сонно ответила Алиса.
Засыпала она по-прежнему мгновенно.
Эркин вернулся на кухню. Женя разлила по чашкам чай. И когда она подвинула ему шоколад, он заметил у неё на правой руке на безымянном пальце кольцо. Узкое золотое колечко. Гладкое, без камня.
– Женя… что это?
Она покраснела.
– Я купила его сегодня.
Эркин очень осторожно взял её за руку, провёл пальцем по кольцу.
– Это… это я должен был купить, да?
Его голос звучал виновато, и Женя улыбнулась.
– Всё хорошо, Эркин.
Он вздохнул и, потянувшись, осторожно коснулся губами её руки рядом с кольцом и выпрямился.
– Женя, а… а мужчины здесь не носят колец, я ни у одного в бригаде не видел.
– Ну, конечно, у тебя же работа такая. – Женя, улыбаясь, смотрела на него. – А теперь давай на завтра обсудим. Я хочу на рынок сходить.
Эркин кивнул и решился.
– Женя, ты… ты не видела? Полушубки… очень дорогие?
Женя радостно улыбнулась.
– Ну, конечно, Эркин, сначала пойдём, тебе полушубок купим. И бурки. И…
– И больше мне ничего не надо, – вклинился Эркин и стал смущённо объяснять: – Понимаешь, Женя, я посмотрел сегодня. Все переодеваются после работы, полушубки, пальто, есть такой… шакал, так только он и я в куртках. Ну, я и подумал… Мне в понедельник рабочую одежду выдадут, куртку, штаны, валенки, так что…
– Так что ты своё страшилище, куртку рабскую, носить не будешь, – решительно перебила его Женя. – Полушубки в Торговых Рядах есть, и бурки там же, и… – и улыбнулась. – Там посмотрим. Завтра тогда сначала туда. Сразу после завтрака. А на рынок потом.
Эркин кивнул. Конечно, занесут домой его куртку и сапоги, не тащиться же с ними на рынок. Он сказал это вслух, Женя согласилась и сказала, что Алису тогда оставят дома, сходят, купят ему всё, придут домой, возьмут Алису и пойдут на рынок.
– Ну вот, – рассмеялась Женя. – Вот всё и решили. А с понедельника начнём к ремонту всё готовить.
– Да, – кивнул Эркин. – А в воскресенье…
– Да, – подхватила Женя, – и завтра всё купим на воскресенье. И про церковь узнаем.
– Ага, – Эркин допил чай, улыбнулся. – И в самом деле, всё решили.
У него вдруг стали слипаться глаза, клонилась книзу голова.
– Ты иди, ложись, – сказала Женя, собирая чашки. – Я мигом.
Эркин кивнул и встал из-за стола. В самом деле, держался, держался и устал. Уже ни о чём не думая, прошёл в спальню, не включая свет, разделся, расправил постель и лёг. Прохладные простыни, чистота, покой и сытость. Он потянулся под одеялом, ощущая с наслаждением, как скользит простыня по чистой коже, закрыл глаза и уже не услышал, как легла Женя.
Алабама
Графство Дурбан
Округ Спрингфилд
Спрингфилд
Центральный военный госпиталь
В дверь осторожно постучали. И Жариков, узнав этот вкрадчивый и одновременно доверчивый стук, улыбнулся.
– Заходи, Андрей.
С недавних пор Андрей стал приходить к нему поговорить не в кабинет, а в комнату, домой. Пили чай, и Андрей слушал его рассказы о России, о доме, о войне… да обо всём. И иногда, всё чаще, Андрей рассказывал и сам. О хозяевах, Паласах, питомниках… Слушать про это невыносимо трудно, но не слушать нельзя.
Андрей вошёл, улыбаясь и неся перед собой коробку с тортом.
– Вот, Иван Дормидонтович, я к чаю купил. В городе.
Жариков, тоже улыбаясь, покачал головой.
– Ох, Андрей, спасибо, конечно, но сколько у тебя до зарплаты осталось?
– Проживём-наживём, – засмеялся Андрей, ставя коробку на стол. – А этот самый вкусный.
Жариков пощупал гревшийся на подоконнике чайник.
– Ну, давай накрывать.
– Ага.
Андрей уверенно помог ему, вернее, сам накрыл на стол. И точно подгадал: чайник вскипел, и у него всё готово. А заваривал сам Жариков.
Первую чашку по сложившейся традиции пили молча, смакуя вкус чая и торта. Торт Андрей явно выбирал не для себя, а для Жарикова: лимонный, с ощутимой горчинкой. Сам Андрей, как подавляющее большинство спальников, сладкоежка.
– Спасибо, Андрей, – улыбнулся Жариков.
– Я знал, что вам понравится, Иван Дормидонтович, – просиял Андрей. – А… а почему вы сладкое не любите?
– Почему ж, люблю. Но, – он отхлебнул чая, – не в таких масштабах. Я просто старше, а с возрастом вкусы меняются. Я вот в детстве варёную капусту не любил. А сейчас ем с удовольствием.
– Варёная капуста – это щи? – уточнил Андрей и улыбнулся. – А мне всё нравится.
– Ты просто не наелся ещё, – засмеялся Жариков.
Андрей пожал плечами.
– Наверное так. А вот, Иван Дормидонтович, почему…
Договорить ему не дал стук в дверь.
– Однако… вечер визитов, – усмехнулся Жариков и крикнул: – Войдите.
Он ожидал кого-то из парней, Аристова, да кого угодно, но что на пороге его комнаты встанет Шерман…
– Прошу прощения, доктор, – Рассел еле заметно усмехнулся. – Я, кажется, помешал.
– Заходите, Шерман, – встал Жариков.
Жестом гостеприимного хозяина он предложил Расселу войти. И тот переступил порог, вежливо снял искрящуюся от водяной пыли шляпу.
– Я вышел прогуляться и увидел у вас свет…
– Захотелось поговорить, – понимающе кивнул Жариков.
– Да, – Рассел улыбнулся уже более открыто. – В неофициальной обстановке.
– Проходите, раздевайтесь.
Рассел повесил на вешалку у двери шляпу и стал расстёгивать плащ.
– Я пойду, Иван Дормидонтович, – встал Андрей. – У вас работа.
Он старался говорить спокойно, с пониманием. Но прорвалась обида.
– Нет, – спокойно сказал Жариков. – Я не на работе, и ты не помешаешь, – и улыбнулся. – Вы – мои гости. Позвольте представить вас друг другу. Рассел Шерман. Андрей Кузьмин.
– Андре? – переспросил Рассел, внимательно рассматривая высокого молодого, по-мальчишески тонкого и гибкого негра.
Он узнал, не сразу, но узнал того ночного гостя по сочетанию фигуры с пышной шапкой кудрей.
– Рад познакомиться, – наконец сказал Рассел.
Андрей ограничился сдержанным кивком и отчуждённо вежливой улыбкой.
Жариков быстро поставил на стол третий прибор и пригласил Рассела к столу. Губы Андрея тронула лёгкая насмешка, и он решительно занял своё место. Помедлив с секунду, Рассел решил принять не позвучавший, но понятый всем троим вызов и сел. Жариков налил чай.
– Сахар кладите сами.
Рассел несколько стеснённо улыбнулся.
– Благодарю. Чай, насколько я знаю, русский национальный напиток.
– Да, можно сказать и так, – кивнул Жариков. – Хотя он весьма популярен в Англии, и традиции чаепития намного древнее в Китае и Индии.
– Но они слишком далеки от нас, – продолжил тему Рассел. – И русский чай отличается от тех вариантов, не так ли?
– Чай лучше кофе, – сказал Андрей.
Разговор теперь шёл только по-английски, но присутствие Жарикова помогло Андрею обойтись без «сэра» в конце каждой фразы.
– Смотря на чей вкус, – усмехнулся Рассел.
Андрей на мгновение опустил глаза, но тут же вскинул их. Какого чёрта?! Он не отступит. Он шёл поговорить о своём, о чём не мог говорить ни с кем другим, а этот припёрся и всё испортил… Китай, Англия… Да пошли они! Здесь и сейчас живём, об этом и будем говорить.
– У чая вкус свободы.
Взгляд Рассела стал заинтересованным.
– Вот как?
– Да, – кивнул Андрей. И уже подчёркнуто глядя на Жарикова и обращаясь только к нему: – Я думал об этом. Мы любим что-то не само по себе, а… а по тому, что с этим связано, – теперь и Жариков смотрел на него с живым интересом, и Андрей продолжил: – Было хорошо, и об этом хорошо думаем, было плохо…
– Да, субъективность восприятия… – задумчиво сказал Рассел.
Андрей торжествующе улыбнулся: если беляк думал подколоть его учёными словами, недоступными глупому негру, то гад просчитался. Это он и по-английски знает.
– Восприятие всегда субъективно, – гордо парировал он.
Жариков улыбнулся: всё-таки Андрей взялся и за английский. А как спорил… до хрипоты. Упёрся, не нужен ему этот язык, говорить может и хватит с него. И вот, всё-таки…
– Да, – кивнул Андрей, поняв, чему улыбается Жариков. – Да, я взял ту книгу.
– Трудно?
– Очень, – честно ответил Андрей. – Но интересно.
– И что за книга? – чуть более заинтересованнее обычной вежливости спросил Рассел.
Андрей смутился и ответил не так, как хотел – веско и спокойно, а робко, будто извиняясь.
– «Философия знания».
– Рейтера? – изумился Рассел.
Андрей кивнул.
– Но… но это действительно сложно.
– Мне интересно, – буркнул Андрей и уткнулся в чашку с остывшим чаем.
Ему было всё-таки тяжело говорить по-английски без положенного обращения к белому: «Сэр», – и он устал от этого короткого разговора. Рассел смотрел на него удивлённо и даже… чуть испуганно.
– Вы знаете… о судьбе Рейтера?
– Да, – кивнул Андрей. – Он погиб. В лагере, – и посмотрел прямо в глаза Рассела. – Его убили.
– Да-да, – Рассел посмотрел на Жарикова. – Я не думал, что его книги сохранились. Было проведено полное изъятие из всех библиотек, включая личные. Хотя… в России…
– Сказанное переживёт сказавшего, – улыбнулся Андрей. – Это тоже сказал Рейтер.
– Вы читали его афоризмы?!
– В сборнике, – Андрей посмотрел на Жарикова. – «Немногие о многом». Так, Иван Дормидонтович? Я правильно перевёл?
– Правильно, – кивнул Жариков.
– Вы читаете по-русски?
Рассел уже не замечал, что обращается к рабу, спальнику, как… как к равному.
– Да, – Андрей улыбнулся. – И по-русски мне легче читать.
– Вот как? Ну, – Рассел отпил глоток, – разумеется, Рейтер прав. Сказанное переживёт сказавшего, – и посмотрел на Жарикова. – Всё так, доктор.
– Ничто не проходит бесследно, – согласился Жариков.
– И самый прочный след в душе, – подхватил Андрей. – Это тоже Рейтер, я знаю. Но, Иван Дормидонтович, но ведь душа, сознание непрочны, они… субъективны, так? А след объективен. Я понимаю, когда субъективное в объективном, непрочное в прочном. А у Рейтера наоборот. Я чувствую, что он прав, но я не понимаю, как.
Андрей совсем забыл о Расселе и говорил так, как обычно, только что по-английски, а не по-русски.
– Рейтер – мастер парадоксов, – пожал плечами Рассел.
Его тоже захватил этот разговор. Шёл за другим. Просто вышел пройтись перед сном по зимнему дождю и… и вот нарвался: спальник, джи, читает Рейтера по-русски, спорит о гносеологии – мир вверх тормашками! И ведь не натаскан, как натаскивали в питомниках всех спальников на стихи и песни, да и репертуар там был специфический, и Рейтер в него никак не входил, как, впрочем, и другие, даже не запрещённые философы… И нет, не заученное с голоса, явно своё у парня… Вот никак не ждал. И это не подстроено хитроумным доктором для «адаптации пациента в изменившихся социальных условиях», доктор не мог знать, что он придёт, его не ждали, он был не нужен им. Странно, конечно, такое использование спальника, они не для философских бесед делались, но… у доктора могут быть свои причуды. Но… но неужели парня всерьёз мучают эти проблемы?
– Простите, сколько вам лет, Андре?
Андрей удивлённо посмотрел на него.
– Полных восемнадцать. А… а что?
– Самый возраст для таких проблем, – улыбнулся Рассел. – Мой отец считал философию детской болезнью. Вроде кори. Которой надо вовремя переболеть, чтобы получить иммунитет на всю остальную жизнь.
И удивился: так резко изменилось лицо парня. Застывшие черты, маска ненависти…
– Андрей, – предостерегающе сказал Жариков.
– Это доктор Шерман? – медленно спросил Андрей. – Это он так говорил?
– Да, – насторожился Рассел.
Андрей отвёл глаза и угрюмо уставился в свою чашку. Если б не доктор Ваня, он бы уж сказал этому беляку… Не вежливо, а по правде. Философия – детская болезнь?! Так Большой Док не только сволочь, а ещё и дурак к тому же.
– В чём дело? – уже более резко спросил Рассел.
– В чём дело? – переспросил Андрей, поглядел на Жарикова и упрямо тряхнул головой. – Жалко. Жалко, что он не болел этой болезнью. Может, тогда бы он не ставил экспериментов на людях.
Рассел стиснул зубы, пересиливая себя. Значит, доктор рассказал парню… больше ведь знать об этом неоткуда.
– Зачем вам это понадобилось, доктор? – вырвалось у него.
Но ответил Андрей. Не на вопрос, а просто говоря о своём.
– Как он мог? Он же… клятву Гиппократа давал. И такое творил. Не понимаю, никогда не пойму. А с виду… человек.
– С виду? – Рассел начинал догадываться, но… но этого не может быть. – Этого не может быть, – повторил он вслух.
Андрей кивнул. И вдруг – неожиданно для Жарикова – заговорил совсем другим, деловито скучающим тоном. С интонациями, от которых Рассел похолодел.
– Разумеется, по завершению эксперимента материал ликвидируется. Это элементарно. Но в данном случае… реализуйте в обычном порядке.
Он говорил, глядя перед собой, и его лицо было уже просто усталым. Наступило молчание.
– Простите, – тихо сказал Рассел. – Я не знал.
– Прав Рейтер, – Андрей словно не слышал собеседника. – Тело заживёт, а душа – нет. И Чак, уж на что… и то говорит, что нам не на руку, а на душу номер кладут. И бесследного ничего нет, и опять Рейтер прав. Нас и стреляли, и жгли по Паласам, по питомникам, именно чтобы следов не осталось. А мы есть. И память наша есть. И… и я думаю, Рейтера за это и убили, – Андрей закрыл лицо ладонями и тут же убрал их, положил, почти бросил на стол по обе стороны от чашки. – Простите, Иван Дормидонтович, я не хотел, само вот выскочило.
Жариков смотрел на него с грустной улыбкой.
– Скорее, это моя вина, – Рассел вертел чашку с чаем. – Это я помешал вам. И извиняться нужно мне.
Андрей молча покосился на него и стал пить остывший чай. А Жариков тихо радовался, что Андрей не зажался и не сорвался в неуправляемую реакцию. Взрослеет.
Рассел никак не ждал такого оборота. Он сам много спорил с отцом именно об этом, правда, мысленно и уже после капитуляции, и вот… спальник, джи, экспериментальный материал… обвиняет доктора Шермана в измене клятве Гиппократа. Но разве он сам всегда верен ей?
– Андре, вы говорили о клятве Гиппократа. А вы, вы сами давали её?
Андрей кивнул.
– И вы верны ей?
Жариков снова напрягся. И снова Андрей удержал себя.
– Я знаю, о чём вы говорите. Но я не мстил. Я тогда не знал, что вы… его сын. Я спасал другого.
– Кого?
– Алика. Это его вы на День Империи изуродовали. В Джексонвилле.
Рассел зло дёрнул головой.
– Так, понятно. Так если кто его и спас, так это я. У меня не было другого варианта.
Андрей уже полностью успокоился.
– У меня тоже, сэр.
Обращение прозвучало издёвкой, и Жариков строго посмотрел на Андрея. Андрей преувеличенно удивлённо хлопнул ресницами, заставив Жарикова улыбнуться. Не смог не улыбнуться и Рассел. И сказал заготовленные слова, но уже другим тоном.
– Вырастешь – поймёшь.
– Да, – неожиданно легко ответил Андрей. – Ни сортировок, ни выбраковок теперь не будет, так что у меня есть время.
Рассел кивнул.
– Да. Вы уже думали о… своём будущем?
– Конечно, – Андрей допил чай и улыбнулся. – Буду работать и учиться.
– А потом?
– Этого мне хватит надолго, – рассмеялся Андрей и посмотрел на Жарикова. – Уже поздно, Иван Дормидонтович. Самый лучший гость – это тот, что уходит вовремя.
Андрей встал и улыбнулся.
– Спасибо за вечер, Иван Дормидонтович. Спокойной ночи.
– Спасибо и тебе, Андрей, – встал и Жариков. – Спокойной ночи.
Отчуждённо вежливо кивнув Расселу, Андрей вышел. Когда за ним закрылась дверь, Рассел встал.
– Спасибо, доктор. Поверьте, я не хотел мешать.
– Верю, – кивнул Жариков.
– Он… этот парень… – Рассел улыбнулся. – А почему вы не оставили его в медицине? И почему именно философия?
– У него просто появился выбор, – серьёзно ответил Жариков. – И он выбрал сам.
– Да, – Рассел снял с вешалки свои шляпу и плащ, оделся. – Возможность выбора… и ответственность за выбор… – улыбнулся. – Спасибо, что позволили участвовать в беседе. Спасибо, доктор. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – попрощался Жариков.
И, оставшись один, удовлетворённо вздохнул. Удачно получилось. Не думал, не гадал, да нечаянно попал. И стал убирать со стола. Торта осталось… на два чаепития. Позвать, что ли, Юрку, чтобы помог? Но Андрей молодец. Прошёл через кризис. А Шермана можно начинать готовить к выписке. Правда… нет, о делах завтра. А сейчас спать. Засиделись. И у Шермана нарушение режима. Ну, ничего, это не самое страшное.
Алабама
Графство Олби
Округ Краунвилль
«Лесная Поляна» Джонатана Бредли
Снег лежал и не таял уже четвёртый день, и даже ещё подсыпало. Стеф показал, как лепить снеговиков, и двор теперь украшали самые фантастические скульптуры в самых неожиданных местах. Сооружение фургона шло полным ходом. Рол после работы возился, собирая упряжь. Из лошадей отобрали в запряжные двух – Примулу и Серого – и поставили их рядом в соседние стойла, чтоб привыкали друг к другу. Монти повадился, выпив молоко, гонять пустое ведро по своему стойлу, поддавая то головой, то копытами, и Молли приходилось его уговаривать и подманивать лепёшками, чтобы забрать ведро. Джерри попробовал спрятаться в конюшне на ночь, за что Фредди выкинул его аж на середину двора, да ещё и Мамми добавила от души. Марк подрался с Робом и порвал новенькую, привезённую из города рубашку. Дилли стала тише. Живот у неё был уже очень заметен, работать, как прежде, она не могла, а кого из милости кормят, тот голоса не поднимает. Зато Сэмми ворочал за двоих и третий день ходил ошалелый. Дилли сказала ему, что ребёнок уже живой, ворочается, и он сам увидел, как тот наружу просится. Одно из яиц оказалось с двумя желтками. Мамми его так и держала на столе в плошке, пока все не посмотрели, а потом долго думали, какая ж это из кур так отличилась, петух-то точно не причём, раньше ж такого не было.
– Пап! – Марк с разгона ткнулся в ноги Ларри, так что тот едва не уронил мешок.
– Осторожней, Марк, – попросил Ларри, с трудом удерживая равновесие.
– Пап, там… – задыхался Марк.
Ларри, поглядев на встревоженное лицо сына, опустил мешок на землю.
– Что случилось?
– Пап, мы за почтой ходили.
Марк потянулся к нему, и Ларри нагнулся, подставив голову. Обхватив его за шею, Марк зашептал ему в ухо.
– Пап, там письмо, а на письме твоё имя, ты мне показывал, я узнал, вот. Я сумку Робу отдал и к тебе, вот.
Ларри медленно выпрямился, поправил перчатки, которые надевал на «общих работах» и взвалил на плечи мешок.
– Хорошо, Марк.
И пошёл к скотной. Марк трусил рядом, заглядывая снизу вверх в его лицо.
Фредди, сидя на маленьком табурете, сосредоточенно прощупывал вымя Мейбл – крупной рыже-белой коровы. Чуть не плачущая Молли стояла рядом. Мейбл время от времени косилась на Фредди, но лягаться не пробовала.
– Ничего страшного, Молли, – встал наконец Фредди. – Раздоится. Гладь ей вымя, когда моешь, поняла? – Молли кивнула. – И тряпку для неё бери помягче.
– Ага-ага, – обрадованно закивала Молли и похлопала Мейбл по спине.
– Масса Фредди! – влетел в скотную Роб. – Я почту принёс!
Фредди кивнул и вымыл руки в поданном ему Молли ковше с водой, вытер носовым платком. Взял у Роба сумку и вынул почту, а сумку, как всегда, отдал Робу и серьёзно сказал:
– За мной.
– Да, масса Фредди, – улыбнулся Роб.
Молли гордо привлекла его к себе. Фредди быстро перебрал почту. Газета, счета, а это что? Письмо? Джонни? От кого? Он как-то не сразу понял, что письмо адресовано в «Лесную Поляну», но не Джонатану Бредли, а Лоуренсу Левине. Так… так вот почему Роб один, без Марка… Ну да, Ларри сына грамоте учит, это понятно. Чёрт, Джонни по соседям поехал, кто может писать Ларри? Он вспыхнувшего вдруг желания вскрыть письмо у него загорелись щёки. И тут… как специально подгадав, в скотную вошёл Ларри с мешком концентрата. Фредди подождал, пока он пристроит его в штабель, и позвал:
– Ларри!
– Да, сэр, – готовно отозвался Ларри, входя к коровам.
Начав работать в мастерской, Ларри перестал притворяться простым дворовым работягой, вернувшись – насколько это возможно в имении – к прежним привычкам. В том числе и к обращению «сэр» вместо обычного рабского «масса». И остальные как-то сразу согласились с этим.
– Держи, Ларри, – Фредди протянул ему письмо, дождался, пока Ларри снимет перчатки и возьмёт конверт, и сразу ушёл.
Ларри осмотрел письмо, дважды перечитал адрес. Алабама, графство Олби, округ Краунвилль, «Лесная Поляна». И его полное имя. Лоуренс Левине. Ларри поднял глаза и увидел лица Молли и Роба. Рядом часто, как после бега, дышал Марк. Ларри заставил себя улыбнуться и вышел. Марк побежал за ним.
Пошёл мокрый снег. Такой мокрый, что было ясно: сейчас он станет дождём.
– Беги домой, Марк.
– Пап, а?..
– Мне надо закончить работу, – Ларри протянул сыну конверт. – Беги и положи на стол. А то намокнет.
Марк сунул письмо под курточку и побежал в барак. А Ларри, на ходу натягивая перчатки, пошёл за следующим мешком. Фредди отдал ему письмо, но не велел сразу прочитать… письмо запечатано… это первое письмо в его жизни… Что это может быть? Чем это обернётся? Может, лучше вот так, нераспечатанным, и отдать его Фредди или Джонатану? Нет. Нельзя. Он не понимает почему, но знает: нельзя. Он должен это сделать. Но сначала закончит работу. Ещё два мешка. А там ленч. Перед ленчем и прочтёт. А тогда…
Что делать тогда, Ларри не знал. Но вот остался один мешок. И… и всё. Можно идти на ленч. Снег уже стал дождём и довольно сильным. Сразу потемнел, исчезая, сливаясь с землёю, покрывавший двор снег, со свесов крыш капало и текло, стремительно расплывались лужи… И прежде, чем войти в барак, Ларри у двери долго очищал и мыл сапоги.
Мамми уже готовила стол к ленчу. Ларри прошёл в сушку, повесил куртку и шапку, поправил курточку Марка и отправился в их выгородку.
– Пап! – вскочил навстречу Марк.
Ларри кивнул ему, сел к столику и взял письмо. Старый хозяин вскрывал письма специальным ножом из слоновой кости. Ларри вытащил из кармана свой складной и аккуратно разрезал конверт. Вынул сложенный пополам листок. Марк стоял рядом, держась обеими руками за его плечо. Текст отпечатан на машинке, а подпись от руки. Ларри прочитал текст, вздохнул и перечитал. Потом сложил листок, вложил в конверт.
– Пап?.. – тихо спросил Марк.
– Ничего, сынок, – Ларри встал. – Иди на ленч.
– А ты?
– Мне надо поговорить.
– С массой… ой, сэром Фредди?
Ларри кивнул.
– Скажи Мамми, чтобы она оставила мою долю. Я поем потом.
– Да. Пап…
– Беги в кухню, Марк, – твёрдо ответил Ларри.
Уже отправив сына, Ларри сообразил, что и ему не миновать кухни, да и куртку надо взять, дождь сильный, а его в госпитале предупреждали, что ему нельзя простужаться.
Все уже знали, что Ларри получил письмо, и, когда он вошёл в кухню, да ещё с письмом в руке, все повернулись к нему, но, увидев его сосредоточенное лицо и сведённые брови, ни о чём не спросили. Ларри надел куртку и шапку, спрятал письмо под куртку и вышел.
Где ему найти Фредди? Скорее всего, тот в конюшне. Жалко, Джонатана нет. Но… но и тянуть нельзя. Это может обидеть Фредди.
Фредди был в конюшне, заплетал гриву Майору. Ларри подошёл к деннику и вежливо потоптался, привлекая внимание.
– Ты, Ларри? – спросил, не оборачиваясь, Фредди. – Заходи.
– Сэр, – Ларри вошёл в денник. – Сэр, вот… Это письмо.
Он протянул Фредди конверт.
– Я не читаю чужих писем, – ответил, по-прежнему не оборачиваясь, Фредди.
– Я прошу вас, сэр, – тихо, но твёрдо сказал Ларри.
Фредди обтёр ладони о джинсы и взял письмо. Вынул листок из конверта и быстро одним взглядом охватил текст. Затем перечитал уже не спеша и протянул письмо Ларри.
– Ну и что, Ларри?
– Что мне делать, сэр?
Фредди посмотрел на его лицо и наконец улыбнулся.
– Ты хотел бы с ним встретиться?
– Да, сэр. Майкл… он очень хорошо отнёсся ко мне. И… и я рассказывал ему о Марке. Он – хороший человек, сэр. Генерал, а… а был, ну, не как ровня, но…
– Я понял, – кивнул Фредди. – Ну, так и напиши ему.
– Я могу пригласить его сюда, сэр?! – изумился Ларри.
– Это твой дом, Ларри. Кто может запретить человеку приглашать своих друзей?
– Но… а сэр Джонатан? А вы?
– Он же не к нам, а к тебе едет, – усмехнулся Фредди.
– И как мне написать, сэр?
– Просто. Ну, что ты будешь рад его видеть. И напиши, когда. И… Пошли.
Фредди хлопнул Майора по шее и пошёл к выходу. Ларри последовал за ним.
В комнате Джонатана Фредди достал из письменного стола и дал Ларри два конверта и несколько листов хорошей писчей бумаги.
– Вот, держи. Напишешь и положишь в ящик. Почтальон заберёт и отправит.
– Спасибо, сэр, – Ларри вежливо склонил голову. – Я могу приглашать его в любое время?
– Как тебе удобнее, Ларри. Это твой приятель.
Ларри медленно кивнул.
– Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Прошу прощения, что занял ваше время, сэр.
Когда он ушёл, Фредди сел к столу, вырвал из лежащего на столе блокнота для текущих записей листок и быстро написал по памяти обратный адрес с конверта. Цифры военной части показались ему знакомыми. Кажется… кажется… да, точно, это тот же индекс, что и у Алекса. Интересно. Он опять по памяти написал: Rodionov. Перечитал. Скомкал листок и сжёг его в пепельнице. В каких бы чинах ни был знакомый Ларри – в его генеральство они с Джонни сразу не поверили: генералы в общей столовой, даже в госпитале, не едят – но раз он из той же службы, что и Алекс… Неужели к ним второй козырь идёт? Джонни приедет, надо будет обговорить. Варианты тут… разнообразные. Сам Ларри всех этих нюансов не знает, и знать ему о них не надо. Интересно, что Ларри рассказал этому… Майклу о них. Знает Ларри не так уж много, но эта служба умеет… складывать мозаики. Нет, это козырь, в любых руках козырь. Так надо, чтобы мы им сыграли.
Россия
Ижорский Пояс
Загорье
Утоптанный снег поскрипывал под ногами, лёгкий мороз приятно пощипывал нос и щёки. А, в самом деле, когда одежда тёплая и сам сыт, то зима в удовольствие. Эркин шёл, весело оглядывая встречных. Женя просила зайти после работы за обойным клеем. И, если будет, взять краску для труб в ванной. Про краску он говорил с Виктором. Виктор рассказал ему о разных красках и посоветовал ту, что для внутренних работ: и быстро сохнет, и блестит, и опознать её легко даже неграмотному. Банки небольшие, и на крышке нарисован домик с птичкой. Уже смеркалось, и зажгли фонари. Рано как здесь вечер наступает. Но это, говорят, только зимой. А летом наоборот: день длинный, а ночь короткая. Колька смеётся: девку тиснешь и на работу пора.
Эркин улыбнулся. В бригаде ему совсем легко теперь. И одет он не хуже других. В субботу купили хороший полушубок, романовский – интересно, этот Романов их шьёт или только продаёт, или нет, говорила же продавщица, что романовская овчина, от романовской овцы, так что Романов тот, видно, хозяин стада, ну и бог с ним – и ещё бурки, шарф и даже брюки, шерстяные. Женя настояла. И когда на рынок пошли, то во всём новом даже почувствовал себя по-другому. Шёл, гордо вскинув голову, вёл под руку Женю, а на другой руке висела Алиса. Суббота была солнечной, тучи разошлись, открыли бледное небо и такое ж бледное, словно затянутое плёнкой солнце. Но искрился и сверкал снег, улыбались люди. И Женя, останавливаясь, поправляла ему пушистый новенький шарф, закрывая шею, и беспокоилась, не дышит ли ртом Алиса.
Рынок в Старом городе напомнил новозыбковский. Но здесь и вещи, и продукты рядом и даже вперемешку. И деревянные столы-прилавки, и расстеленные на снегу рогожи, и прямо тут же сани, и небольшие машины-полуфургончики, которые называют смешным словом «пегашка». Картошка, яблоки, вёдра и бочки, откуда пахнет непривычно, но аппетитно, связки корзин, от маленькой – Алискин кулачок едва влезет, до больших, куда опять же Алису уложить можно. Круглые и квадратные коробки из древесной коры со странным названием – туески. Деревянные расписные игрушки. Алиса запросила птичку-свистульку с переливом, но Женя решила, что тогда жизни точно не будет, и Алисе купили тоже птичку, но петушка с качающейся головой, так что если его поставить и по хвосту постучать, то он клевать будет. Вообще много накупили. Эркин купил санки, на них положили небольшой мешок картошки, прикрутили, увязали сумку с луком, морковью и чесноком, сверху усадили Алису в обнимку со второй сумкой, где стояли баночки и туески с солёными огурцами, мочёными яблоками и квашеной капустой. И наконец пошли к церкви.
Русская церковь показалась Эркину весёлой и нарядной. На те – алабамские – она совсем не походила. Женя пошла внутрь узнавать и договариваться, а они остались ждать во дворе. Алиса слезла с саней и затеяла с Эркином игру. Отходила, разбегалась и врезалась в него, пытаясь сбить с ног. Но Эркин в последний момент уворачивался, так что Алиса пролетала мимо него прямо в сугроб, и Эркин ловил её за капюшон, не давая упасть. Было очень весело. Но тут какая-то старуха, вся в чёрном, стала на них кричать, что место святое, пост идёт, а они бесовские игрища затеяли. Кто такой пост и чего он здесь ходит, а также, что такое – бесовские игрища, Эркин и сам не понял, и объяснить Алисе не смог. Со старухой он, конечно, не стал ни связываться, ни заводиться, а попросту вышел вместе с Алисой и санками за ограду, встал так, чтобы Женя их сразу увидела, и они возобновили игру. К возвращению Жени Алиса всё-таки упала пару раз. Эркин её отряхнул, но Женя сразу заметила, всё поняла и грозным голосом, но улыбаясь, спросила: