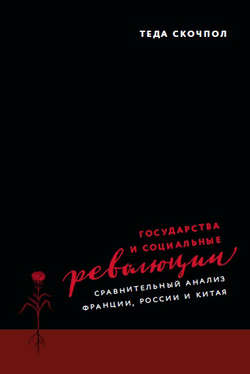Читать книгу Государства и социальные революции. Сравнительный анализ Франции, России и Китая - Теда Скочпол - Страница 3
Введение
Глава 1
Объяснение социальных революций: альтернативы существующим теориям
ОглавлениеСоциальные революции были редкими, но исключительно важными моментами в мировой истории Нового времени. От Франции 1790-х гг. до Вьетнама середины XX в. эти революции трансформировали организацию государств, классовые структуры и господствующие идеологии. Они породили национальные государства, чье могущество и самостоятельность заметно превзошли те, что существовали в их дореволюционном прошлом, и опередили другие страны в сходных обстоятельствах. Революционная Франция внезапно стала завоевательницей континентальной Европы, а русская революция породила индустриальную и военную сверхдержаву. Мексиканская революция придала своей родине политическую силу стать одним из самых индустриализованных постколониальных государств Латинской Америки, наименее подверженным военным переворотам. После Второй мировой войны кульминация давно шедшего революционного процесса воссоединила и трансформировала раздробленный Китай. Новые социальные революции позволили деколонизованным и неоколониальным странам, таким как Вьетнам и Куба, порвать цепи крайней зависимости.
Социальные революции имели не только национальное значение. В некоторых случаях социальные революции породили модели и идеалы, отличающиеся огромным международным значением и влиянием – особенно там, где претерпевшие трансформацию общества были большими и геополитически важными, реальными или потенциальными сверхдержавами. Патриотические армии революционной Франции подчинили значительную часть Европы. Даже до завоеваний и долго после военного поражения, французские революционные идеалы «свободы, равенства и братства» воспламеняли воображение, ищущее социального или национального освобождения. Это воздействие простиралось от Женевы до Санто-Доминго, от Ирландии до Латинской Америки и Индии, оно повлияло на последующих теоретиков революции от Бабёфа до Маркса, Ленина и теоретиков антиколониализма XX в. Русская революция ошеломила капиталистический Запад и обострила амбиции возникающих наций, продемонстрировав, что революционная власть может в течение двух поколений трансформировать отсталую аграрную страну во вторую индустриальную и военную сверхдержаву мира. То, чем русская революция была для первой половины XX в., для второй половины стала китайская. Продемонстрировав, что партия ленинского типа может возглавить крестьянское большинство на экономических и военных фронтах, она «породила великую державу, провозглашающую себя образцом революции и развития для беднейших стран мира»[1]. «Яньаньский путь»[2] и «деревня против города» предложили свежие идеалы и модели и возродили надежды революционных националистов в середине XX в. Более того, как подчеркивал Илбаки Хермасси, важнейшие революции оказывают влияние не только на тех иностранцев, которые хотели бы им подражать. Они также влияют на иностранных противников революционных идеалов, которые вынуждены отвечать на вызовы или угрозы усилившихся национальных государств, порожденных революциями. «Всемирно-исторический характер революций означает, – утверждает Хермасси, – [что они] производят демонстрационный эффект за пределами своих стран, обладая потенциалом вызывать волны революции и контрреволюции как внутри обществ, так и между ними»[3].
Конечно, социальные революции – не единственные силы изменений, действующие в современном мире. В рамках матрицы «Великой трансформации» (то есть всемирной коммерциализации и индустриализации, подъема национальных государств и экспансии европейской системы государств, охватившей весь мир) политические сдвиги и социально-экономические изменения имели место в каждой стране. Но в рамках этой матрицы социальные революции заслуживают особого внимания, не только из-за их чрезвычайной важности для истории государств и всего мира, но также из-за их особой модели социально-политических изменений.
Социальные революции – это быстрые, фундаментальные трансформации государственных и классовых структур общества; они сопровождаются и отчасти осуществляются низовыми восстаниями на классовой основе. От другого рода конфликтов и процессов трансформации социальные революции отличаются прежде всего комбинацией двух обстоятельств: совпадением структурных социальных изменений с классовыми восстаниями и совпадением политических трансформаций с социальными. Напротив, бунты, даже если они успешны, могут включать в себя восстание подчиненных классов – но они не приводят к структурным изменениям[4]. Политические революции трансформируют государственные структуры, но не социальные структуры, кроме того, они не обязательно совершаются путем классовой борьбы[5]. А такие процессы, как индустриализация, могут трансформировать социальные структуры, не обязательно порождая внезапные политические сдвиги или фундаментальные политико-структурные изменения (или не обязательно являясь результатом этих сдвигов или изменений). Уникальной особенностью социальных революций является то, что фундаментальные изменения в социальной структуре и в политической структуре происходят одновременно, взаимно усиливая друг друга. И эти изменения происходят посредством интенсивных социально-политических конфликтов, в которых ключевую роль играет борьба классов.
Такая концепция социальной революции отличается от многих других определений революции в ключевых аспектах. Во-первых, она определяет сложный предмет, требующий разъяснений, исторические примеры которого относительно малочисленны. Она делает это вместо попыток размножить число случаев, подлежащих объяснению, которые сосредоточиваются только на одной аналитической характеристике (такой как насилие или политический конфликт), характерной для массы событий различной природы и с различными последствиями[6]. Я твердо убеждена в том, что аналитическое упрощение не может привести к обоснованным, всесторонним объяснениям революций. Если мы намереваемся понять крупномасштабные конфликты и изменения, как те, что происходили во Франции с 1787 по 1800 гг., то не сможем далеко уйти, начиная с предметов для объяснения, которые фиксируют только аспекты, общие для таких революционных событий и, скажем, бунтов или переворотов. Мы должны рассматривать революции в целом, во всей их сложности.
Во-вторых, это определение делает успешную социально-политическую трансформацию (реальное изменение государственных и классовых структур) частью конкретизации того, что следует называть социальной революцией, а не оставляет изменение необязательным в определении «революции», как это делают многие другие исследователи[7]. Основанием тому служит моя убежденность в том, что успешные социальные революции, вероятно, возникают в иных макроструктурных и исторических контекстах, нежели неудавшиеся социальные революции либо политические трансформации, не сопровождающиеся трансформациями классовых отношений. Поскольку в моем сравнительно-историческом исследовании я намереваюсь сфокусировать внимание именно на этом вопросе (произошедшие социальные революции будут сопоставлены с неудавшимися случаями, а также с не социально-революционными трансформациями), мое понимание социальной революции с необходимостью выдвигает на первый план успешное изменение как фундаментальную характеристику ее определения.
Как тогда следует объяснять социальные революции? Куда нам следует обратиться за плодотворными методами анализа их причин и следствий? На мой взгляд, существующие в социальных науках теории революции не являются адекватными[8]. Так что главной целью данной главы будет представить и обосновать принципы и методы анализа, альтернативные тем, которые являются общими для всех (или большинства) существующих подходов. Я буду утверждать, что, в противоположность способам объяснения, используемым доминирующими в настоящий момент теориями, социальные революции должны анализироваться на основе структурной перспективы, уделяющей особое внимание международным контекстам и внутренним и зарубежным процессам, влияющим на распад государственных организаций старых порядков и построение новых, революционных государственных организаций. Более того, я буду доказывать, что сравнительно-исторический анализ представляет собой наиболее уместный способ разработать такие объяснения революций, которые одновременно и исторически обоснованы, и выходят за рамки единственных в своем роде случаев, давая возможность обобщения.
Чтобы облегчить дальнейшее изложение этих теоретических и методологических альтернатив, целесообразно выделить основные типы теорий революции в социальных науках, вкратце обрисовав важные характеристики каждого из них, воплощенные в исследованиях какого-либо автора, концепция которого служит типичным представителем того или иного типа теорий. Те виды теорий, которые я собираюсь резюмировать таким образом, следует называть «общими» теориями революции – то есть они представляют собой довольно широко сформулированные концептуальные схемы и гипотезы, чтобы их можно было применять для множества конкретных исторических случаев. Данная книга не представляет собой научное предприятие такого рода, к которому стремятся эти общие теории. Напротив, как и другие исторически фундированные сравнительные исследования революций (такие как «Социальные истоки диктатуры и демократии» Баррингтона Мура-младшего, «Крестьянские войны двадцатого века» Эрика Вульфа и «Современные революции» Джона Данна[9]), эта книга в основном посвящена глубокому анализу узкого ряда случаев. Но, так же как и эти родственные работы (и, возможно, даже более целенаправленно, чем последние две из них), эта книга ставит задачу не просто изложить эти случаи один за другим, но прежде всего понять и объяснить общую логику процессов, действующих в рассматриваемом ряду революций. Очевидно, что те виды концепций и гипотез, которые мы находим в общих теориях революции, потенциально применимы для объяснительных задач историка-компаративиста. В действительности, любое сравнительное исследование либо основывается на идеях, выдвигаемых в социальных науках теоретиками революции, начиная от Маркса и вплоть до более современных авторов, либо выстраивается им в пику. Таким образом, из этого следует, что краткий обзор общих теорий, хотя и не позволит нам изучить намного более богатую аргументацию, которой располагают сравнительно-исторические исследования революций, тем не менее, будет экономным способом выявить основные теоретические вопросы для дальнейшего их обсуждения.
Я полагаю, что целесообразно рассмотреть важнейшие современные теории революции социальных наук, сгруппировав их в четыре основных «семейства», к которым я последовательно обращусь. Очевидно, что наиболее релевантной из этих групп являются марксистские теории; ключевые идеи этой группы наилучшим образом представлены в работах самого Карла Маркса. Будучи активными сторонниками такого способа социальных изменений, марксисты выступают социальными исследователями, которые заинтересованы в наиболее последовательном осмыслении социальных революций как таковых. Разумеется, в течение бурного столетия после смерти Маркса в марксистской интеллектуальной и политической традиции возникла масса расходящихся тенденций. Последующие марксистские теоретики революции разнятся от технологических детерминистов, как Николай Бухарин (в «Историческом материализме»[10]), до политических стратегов, таких как Ленин и Мао[11], западных марксистов (Георг Лукач, Антонио Грамши) и современных структуралистов, таких как Луи Альтюссер[12]. Тем не менее, сам исходный подход к революциям Маркса остается непререкаемой, хотя и по-разному интерпретируемой, основой для всех этих позднейших марксистов.
Можно выделить основные элементы теории Маркса, нисколько не отрицая того, что всем этим элементам можно придавать разный вес и по-разному интерпретировать. Маркс понимал революции не как изолированные эпизоды насилия или конфликтов, но как классовые движения, вырастающие из объективных структурных противоречий внутри исторически развивающихся и по своей сути пронизанных конфликтами обществ. Для Маркса ключ к пониманию любого общества лежит в его способе производства (технологии и разделение труда) и классовых отношениях по поводу собственности и присвоения прибавочного продукта. Последние, производственные отношения, особенно важны:
Непосредственное отношение собственников условий производства к непосредственным производителям – отношение, всякая данная форма которого каждый раз естественно соответствует определенной ступени развития способа труда, а потому и общественной производительной силе последнего, – вот в чем мы всегда раскрываем самую глубокую тайну, скрытую основу всего общественного строя, а следовательно, и политической формы отношений суверенитета и зависимости, короче, всякой данной специфической формы государства[13].
Основным источником революционных противоречий в обществе, согласно наиболее общей теоретической формулировке Маркса, является появление разрыва внутри способа производства между социальными силами и социальными отношениями производства.
На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции[14].
В свою очередь, этот разрыв находит выражение в усиливающихся классовых конфликтах. Зарождение нового способа производства в рамках существующего (капитализма внутри феодализма, социализма в рамках капитализма) создает динамичную основу для роста единства и сознания каждого протореволюционного класса в рамках его борьбы с существующим господствующим классом. Таким образом, «средства производства и обмена, на основе которых сложилась буржуазия, были созданы в феодальном обществе»[15], что и привело к европейским буржуазным революциям.
Каждая из этих ступеней развития буржуазии сопровождалась соответствующим политическим успехом. Угнетенное сословие при господстве феодалов, вооруженная и самоуправляющаяся ассоциация в коммуне, тут – независимая городская республика, там – третье податное сословие монархии, затем, в период мануфактуры – противовес дворянству в сословной или в абсолютной монархии и главная основа крупных монархий вообще, наконец, со времени установления крупной промышленности и всемирного рынка, она завоевала себе исключительное политическое господство в современном представительном государстве[16].
Подобным же образом, с установлением капитализма
…прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциации[17].
Пролетариат проходит различные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда в одной местности…
Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь преходящи. Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а все шире распространяющееся объединение рабочих. Ему способствуют все растущие средства сообщения, создаваемые крупной промышленностью и устанавливающие связь между рабочими различных местностей. Лишь эта связь и требуется для того, чтобы централизовать многие местные очаги борьбы, носящей повсюду одинаковый характер, и слить их в одну национальную, классовую борьбу.
[В результате мы имеем] более или менее прикрытую гражданскую войну внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии[18].
Сама революция совершается путем классового действия, возглавляемого обладающим самосознанием, растущим революционным классом (то есть буржуазией в буржуазных революциях и пролетариатом в социалистических). Возможна поддержка революционного класса другими союзническими классами, такими как крестьянство, но эти союзники никогда в полной мере не обладают классовым сознанием и политической организацией национального масштаба. В случае успеха революция знаменует собой переход от предшествующего способа производства и формы классового господства к новому способу производства, в котором новые общественные отношения производства, новые политические и идеологические формы и, в целом, господство нового революционного класса-триумфатора создают подходящие условия для дальнейшего развития общества. Короче говоря, Маркс рассматривает революции как производные от способов производства, основанных на делении общества на классы, и как трансформирующие один способ производства в другой через классовые конфликты.
Три другие семьи теорий революции в основном сформировались намного позже, чем марксизм (хотя все они берут отдельные темы у классиков социальной теории, таких как Токвиль, Дюркгейм, Вебер, а также Маркс). Действительно, в последние два десятилетия наблюдается стремительный рост теорий революции в американской общественной науке. Эта недавняя поросль прежде всего старается понять корни социальной нестабильности и политического насилия, нередко с декларируемой целью помочь существующим властям предотвратить их или улучшить условия внутри страны и за рубежом. Тем не менее, каким бы ни было предполагаемое их применение, эти тщательно продуманные теории разработаны, чтобы либо объяснить революции как таковые, либо открыто отнести их к какому-то более широкому классу явлений, на объяснение которого эти теории претендуют. Большинство из этих новых теорий можно отнести к одному из трех основных подходов: общепсихологическим теориям, пытающимся объяснить революции в категориях психологических мотиваций людей для участия в политическом насилии или присоединения к оппозиционным движениям[19]; теориям системного/ценностного консенсуса, старающимся дать объяснение революциям как ожесточенной реакции идеологических движений на острый дисбаланс в социальных системах[20]; теориям политического конфликта, утверждающим, что конфликт между властями и различными организованными группами, борющимися за власть, должен быть помещен в центр внимания, чтобы объяснить коллективное насилие и революции[21]. Важные и типичные теоретические работы были написаны в рамках каждого из этих подходов: «Почему люди бунтуют» Теда Гарра (общепсихологический); «Революционное изменение» Чалмерса Джонсона (теории системного/ценностного консенсуса) и «От мобилизации к революции» Чарльза Тилли (теории политического конфликта).
В работе «Почему люди бунтуют»[22] Тед Гарр стремится разработать общую, основанную на психологии теорию величины и форм «политического насилия», определяемого как
…все виды коллективных атак против политического режима в рамках политической общины с их участниками, включая соперничающие политические группировки, равно как и их членов, – а также с их политическими курсами. Политическое насилие представляет собой ряд событий, общим свойством которых является реальное или угрожаемое применение силовых действий… Это понятие относится и к революции… Оно включает в себя также партизанские войны, государственные перевороты, бунты и мятежи[23].
Теория Гарра сложна и полна интересных нюансов в своем полном изложении, но ее сущность довольно проста: политическое насилие имеет место тогда, когда многие люди в обществе испытывают гнев, особенно если существующие культурные и практические условия стимулируют агрессию против политических целей. А гневаются люди тогда, когда возникает разрыв между ценными вещами и возможностями, на которые они надеются, и вещами и возможностями, которые они в действительности получают – условие, известное как «относительная депривация». Гарр предлагает особые модели для объяснения основных форм политического насилия. Он выделяет «беспорядки», «заговор» и «внутреннюю войну». Революции включаются в категорию внутренней войны, наряду с крупномасштабным терроризмом, партизанскими войнами и гражданскими войнами. От других форм внутренние войны отличает то, что они более организованны, чем беспорядки, а также носят более массовый характер по сравнению с заговором. Таким образом, революции логически объясняются в основном как следствие широко распространенной, интенсивной и разносторонней депривации в обществе, затрагивающей и массы, и тех, кто стремится пополнить ряды элиты[24].
Работа «От мобилизации к революции» Чарльза Тилли[25] представляет собой, так сказать, теоретическую кульминацию подхода политического конфликта, рожденного в полемическом противостоянии с объяснениями политического насилия на основе гипотезы фрустрации-агрессии, подобными объяснению Теда Гарра. Основные контраргументы убедительны и могут быть легко сформулированы. Теоретики политического конфликта утверждают, что каким бы сильным ни было недовольство массы людей, они не могут участвовать в политическом действии (включая насилие), если не являются частью, по крайней мере, минимально организованных групп с доступом к определенным ресурсам. И даже в этом случае правительства или соперничающие группы могут успешно подавить желание участвовать в коллективном действии, сделав цену этого слишком высокой. Более того, теоретики политического конфликта заявляют, как это звучит в формулировке Тилли,
…что революции и коллективное насилие, как правило, проистекают непосредственно из главных политических процессов населения, а не выражают распространение напряжения и недовольства в нем… что конкретные требования и контртребования к существующему правительству со стороны различных мобилизованных групп важнее, нежели общая удовлетворенность или недовольство этих групп, и что притязания на существующие места в структуре власти имеют решающее значение[26].
На самом деле Тилли отказывается делать насилие как таковое предметом своего анализа, так как считает, что проявления коллективного насилия в реальности суть только побочные продукты нормальных процессов конкуренции групп вокруг власти и взаимоисключающих целей. Вместо этого предметом исследования служит «коллективное действие», определяемое как «совместное действие людей, преследующих общие интересы[27]. Тилли анализирует коллективное действие с помощью двух общих моделей: «модели политической системы» и «модели мобилизации[28]. Основные элементы государственной модели – это правительства (организации, контролирующие основные концентрированные средства принуждения в рамках населения) и группы, участвующие в борьбе за власть, включая как членов политической системы (соперников, обладающих рутинным, дешевым доступом к правительственным ресурсам) так и претендентов на вход в политическую систему (всех остальных соперников). Модель мобилизации включает переменные, разработанные для объяснения образцов коллективного действия, в которое вовлечены данные соперники. Эти переменные описывают групповые интересы, степени организации, количества ресурсов, контролируемых коллективно, а также возможностей и угроз, с которыми данные соперники сталкиваются в своих отношениях с правительством и другими группами, участвующими в борьбе за власть.
Революция для Тилли выступает особым случаем коллективного действия, в рамках которого (все) соперники сражаются за верховную политическую власть над населением и в котором претендентам удается, по крайней мере в некоторой степени, вытеснить обладателей власти из политической системы[29]. Согласно этой концепции, причины революционной ситуации «множественного суверенитета» («многовластия») включают следующие: во-первых, следует принимать во внимание любые долгосрочные социальные тренды, которые перемещают ресурсы от одних общественных групп к другим (особенно если реципиенты были ранее исключены из политической системы). Во-вторых, важно изучать любые среднесрочные события, такие как распространение революционных идеологий и усиление народного недовольства, которые делают весьма вероятным появление революционных борцов за верховную власть, а также поддержку их притязаний большими группами населения. И наконец,
…революционная ситуация наступает, когда ранее кроткие члены… общества сталкиваются с одновременными и полностью несовместимыми требованиями со стороны власти и со стороны альтернативной организации, претендующей на контроль над правительством – и станут подчиняться альтернативной организации. Они будут платить этой организации налоги, снабжать ее армию солдатами, обеспечивать продуктами питания ее функционеров, почитать ее символы, тратить время на службе ей или отдавать иные ресурсы, несмотря на запрет все еще существующего правительства, которому они ранее повиновались. Так начинается множественный суверенитет (многовластие)[30].
Успех революции, в свою очередь, зависит не только от возникновения множественного суверенитета. Он также, вероятно, зависит от «формирования коалиций между членами политической системы и соперниками, выдвигающими исключающие альтернативные притязания на контроль над правительством»[31]. И успех революции определенно зависит от того, сможет ли «революционная коалиция поставить под свой контроль значительные силы»[32]. У революционеров, претендующих на власть, появляется возможность одержать победу и вытеснить из политической системы властей предержащих только при наличии этих дополнительных условий.
Если Тед Гарр и Чарльз Тилли анализируют революции как особый тип политических событий, выражаемый в категориях общих теорий политического насилия или коллективного действия, то Челмерс Джонсон в «Революционном изменении»[33] по аналогии с Марксом анализирует революции из перспективы макросоциологической теории социальной интеграции и изменения. Как и изучение физиологии и патологии, утверждает Джонсон, «исследование революции неотделимо от исследования жизнеспособных, функционирующих обществ»[34] Черпая вдохновение у парсонсианцев, Джонсон постулирует, что нормальное, бескризисное общество должно рассматриваться как ценностно- скоординированная социальная система, функционально адаптированная к требованиям своей среды. Такая социальная система представляет собой внутренне согласованный набор институтов, выражающих и определяющих основные ценностные ориентации общества в нормах и ролях. Эти ориентации также интернализуются благодаря процессам социализации, чтобы служить личными нравственными и определяющими реальность стандартами для огромного большинства нормальных взрослых членов общества. Более того, политическая власть в обществе должна быть легитимирована через общественные ценности.
Революции и определяются, и объясняются Джонсоном на основе этой модели ценностно-скоординированной социальной системы. Насилие и изменение, утверждает Джонсон, – это отличительные черты революции: «совершить революцию означает прибегнуть к насилию в целях изменения системы; точнее, это означает целенаправленную реализацию стратегии насилия с целью повлиять на изменение в социальной структуре»[35]. В случае успеха революции прежде всего меняют ключевые ценностные ориентации общества. И целенаправленная попытка совершить это принимает форму ценностноориентированного идеологического движения, готового использовать насилие против существующих властей. Однако такое движение вообще не может возникнуть, если существующая социальная система не вошла в состояние кризиса. А это происходит, согласно Джонсону, когда ценности и среда становятся серьезно «десинхронизованы» благодаря либо внешним, либо внутренним искажениям – особенно новым ценностям или технологиям. Когда начинается десинхронизация, люди в обществе становятся дезориентированными и, вследствие этого, открытыми для обращения к альтернативным ценностям, предлагаемым революционным движением. Если это происходит, существующие власти теряют свою легитимность и должны все в большей мере полагаться на насилие для поддержания порядка. Тем не менее, они могут успешно делать это лишь в течение некоторого времени. Если правители умны, гибки и искусны, они прибегнут к реформам для «ресинхронизации» ценностей и среды. Но если власти упорно не желают идти на компромисс, тогда системное изменение насильственным путем вместо них осуществит революция. Это происходит, как только появится некий «судьбоносный фактор», который подорвет непрочную и временную способность властей опираться на насилие.
Превосходящая сила может отсрочить всплеск насилия; тем не менее, разделение труда, поддерживаемое силой казаков, больше не представляет собой ценностно скоординированного сообщества, и в подобной ситуации (например, такой, которая сегодня сложилась в Южной Африке [1966]) революции характерны и, ceteris paribus[36], восстание неизбежно. Это факт раскрывает… необходимость изучения структуры ценностей системы и ее проблем для того, чтобы сколько- нибудь содержательным образом осмыслить революционную ситуацию[37].
Успешная революция в конце концов кладет конец десинхронизации ценностей социальной системы и среды, с которой некомпетентные или упрямые власти старого режима были не в состоянии справиться. По мнению Джонсона, именно революция, а не эволюционное изменение, становится возможной и необходимой только потому, что дореволюционные власти терпят фиаско и теряют легитимность. Таким образом, теория общества и социального изменения Джонсона делает ценностные ориентации и политическую легитимность ключевыми элементами для объяснения возникновения революционных ситуаций, возможностей выбора, стоящих перед существующими властями, а также для объяснения природы и успеха революционных сил.
Даже из такого краткого обзора должно быть вполне очевидно, что в социальных науках между основными типами теорий имеют место широкие разногласия не только относительно объяснения революций, но даже в том, что касается их определения. Разумеется, данная книга не претендует на нейтралитет по отношению к этим разногласиям. Вполне очевидно, что концепция социальной революции, используемая здесь, в большой степени базируется на марксистском подходе, придающем большое значение социально-структурным изменениям и классовым конфликтам. Эта концепция не абстрагируется от проблем структурной трансформации, как это делают Гарр и Тилли, и не придает ключевого значения изменению ценностей общества в революционных переменах, как это делает Джонсон. Более того, в моем общем исследовании причин и следствий социальных революций я отклоняю объяснительные гипотезы об относительной депривации и недовольстве – именно потому, что принимаю критику этих идей, разработанную теоретиками политического конфликта. Я также оставляю в стороне (по причинам, которые станут ясны позднее в процессе развертывания аргументации) понятия системной разбалансировки, делегитимации власти и идеологического обращения к революционному мировоззрению. Вместо этого, с целью понять некоторые конфликты, свойственные социальным революциям, я буду в большей степени опираться на определенные идеи, заимствованные из марксистской перспективы и перспективы политического конфликта.
Марксистская концепция классовых отношений, укорененных в контроле над средствами производства и присвоении прибавочного продукта непосредственных производителей непроизводящими группами, на мой взгляд, является незаменимым теоретическим инструментом для выявления одного из базовых общественных противоречий. Классовые отношения всегда являются потенциальным источником структурного социального и политического конфликта, а классовые конфликты и изменения в классовых отношениях действительно играют видную роль в успешных социально-революционных трансформациях. В тех из них, которые будут детально изучаться в этой книге (речь идет о Франции, России и Китае), классовые отношения между крестьянами и помещиками будут проанализированы особенно тщательно. Эти отношения были местом подспудной напряженности, влиявшей на экономическую и политическую динамику дореволюционных старых порядков, даже в те периоды, когда классовые конфликты открыто не вспыхивали. Более того, во время французской, русской и китайской революций крестьяне действительно открыто восставали против классовых привилегий помещиков, и эти классовые конфликты в сельской местности внесли непосредственный и опосредованный вклад в общие социально-политические трансформации, которые были достигнуты в ходе этих революций. Таким образом, ясно, что важно понять, почему и как именно эти открытые классовые конфликты развивались в ходе революций.
Для этого классовый анализ необходимо дополнить идеями теоретиков политического конфликта. Одно дело – выявлять подспудное, потенциальное напряжение, укорененное в объективных отношениях классов, понимаемых на марксистский манер. И совсем другое – понять, когда и как члены классов оказываются в состоянии эффективно бороться за свои интересы. Когда и как подчиненные классы могут успешно сражаться с теми, кто их эксплуатирует? А также когда и как господствующие классы оказываются способны на коллективное политическое действие? Для ответа на такие вопросы особенно плодотворна аргументация теории политического конфликта о том, что коллективное действие базируется на групповой организации и доступе к ресурсам, зачастую включающим средства принуждения. Поэтому в данной книге при анализе исторических примеров я буду не только выявлять классы и их интересы. Я также буду устанавливать наличие или отсутствие (и конкретные формы) организации и ресурсов, которыми располагают члены классов, для борьбы за свои интересы.
Таким образом, в этих конкретных отношениях я нахожу аспекты двух из существующих теоретических подходов релевантными для понимания социальных революций. Тем не менее, как ранее уже было упомянуто, основная цель этой главы не в том, чтобы оценить сильные и слабые стороны различных семейств теорий революции. Она скорее в том, чтобы оспорить ряд концепций, допущений и способов объяснения, которые выступают общими для всех существующих теорий, несмотря на их видимые различия.
В качестве альтернативы общим чертам ныне доминирующих теорий революции необходимо обозначить три основных принципа анализа. Во-первых, адекватное понимание социальных революций требует, чтобы исследователь придерживался не волюнтаристской, а структурной перспективы исследования ее причин и следствий. Все существующие теоретические подходы выстраиваются на основе волюнтаристских представлений о том, как происходят революции. Во-вторых, социальные революции не могут быть объяснены без систематического обращения к международным структурам и всемирноисторическим процессам. Однако существующие теории фокусируют внимание преимущественно или исключительно на внутригосударственных конфликтах и процессах модернизации. В-третьих, для объяснения причин и следствий социальных революций государства необходимо рассматривать как организации контроля и принуждения, потенциально автономные от социально-экономических интересов и структур (хотя и обусловленные ими). Но превалирующие в настоящее время теории революции вместо этого либо аналитически смешивают государство и общество, либо сводят политические и государственные действия к выражению социально-экономических сил и интересов.
Каждое из этих положений обладает фундаментальной значимостью, не только в качестве критики общих недостатков существующих теорий, но также как основа для анализа социальных революций в этой книге в целом. Тем самым каждое из них заслуживает систематической проработки одно за другим.
1
Franz Schurmann, Ideology and Organization in Communist China, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 1968), p. xxxv. Предыдущее предложение о Китае и России также фактически перефразирует Шурманна.
2
Новая стратегия (этап, «Яньаньский период») в борьбе китайских коммунистов с началом гражданской войны после разрыва союза с Гоминьданом и «Великого похода», в широком смысле связанная с переориентацией на крестьян горных районов северного Китая и партизанскую войну. Подробнее см. главу 7. «Яньаньский путь» – термин не устоявшийся, Теда Скочпол заимствует его из работы 1971 г. Марка Селдена «Яньаньский путь в революционном Китае» для обозначения революционной стратегии китайских коммунистов, отличающейся от стратегии большевиков в России. – Прим. пер.
3
Elbaki Hermassi, “Toward a Comparative Study of Revolutions”, Comparative Studies in Society and History 18:2 (April 1976), p. 214.
4
Хорошими примерами являются крестьянские восстания, которые время от времени сотрясали средневековую Европу и имперский Китай. Китайские восстания иногда добивались успеха в свержении и даже смене династий, но фундаментальным образом никогда не трансформировали социально-политическую структуру. Более подробное обсуждение и анализ см. в главе 3.
5
Насколько я понимаю этот исторический случай, английская революция (1640–1650 гг. и 1688–1689 гг. вместе взятые) выступает отличным примером политической революции. Ее фундаментальным достижением было установление власти парламента путем восстания некоторых групп господствующего класса против претендующих на абсолютную власть монархов. Этот случай рассматривается в главе 3 и главе 5. Еще одним хорошим примером политической, а не социальной революции является японская Реставрация Мэйдзи, которая будет рассмотрена в главе 2.
6
В качестве примеров попыток объяснения революции при помощи стратегий аналитического упрощения см. различные работы, приведенные в сносках 19 и 21 к этой главе. Ниже будут подробно раскрыты идеи двух влиятельных теоретиков: Теда Гарра и Чарльза Тилли, которые включают революции в более широкие аналитические категории, хотя и разного рода.
7
Тремя примерами исследователей, которые рассматривают изменение в качестве необязательного, являются: Arthur L. Stinchcombe, “Stratification among Organizations and the Sociology of Revolution”, in Handbook of Organizations, ed. James G. March (Chicago: Rand McNally, 1965), pp. 169–180; Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Reading, Mass.: Addison-Wes-ley, 1978), ch. 7; D. E. H. Russell, Rebellion, Revolution, and Armed Force (New York: Academic Press, 1974), ch. 4. Те, кто хочет оставить изменение необязательным, обычно утверждают, что от этого ничего не теряется, так как после изучения причин всех восстаний – принесших реальные перемены или нет – можно далее начать задавать вопросы о том, какие дополнительные причины объясняют подмножество восстаний, которые действительно привели к успешным переменам. Но чтобы принять такую аргументацию, надо быть готовым исходить из того, что успешные социально-революционные трансформации не имеют отличительных, долгосрочных, структурных причин или предпосылок. Нужно исходить из допущения о том, что социальные революции – это просто политические революции или восстания масс, которые обладают некоторыми дополнительными, краткосрочными компонентами, такими как военные успехи или установка идеологических лидеров на перемены после захвата власти. Вся аргументация в этой книге строится на противоположном допущении о том, что социальные революции на самом деле имеют долгосрочные причины и что они вырастают из структурных противоречий и напряжения, внутренне присущих старым режимам.
8
Здесь я не претендую на то, чтобы дать обзор всей литературы по революциям в социальных науках. Такие обзоры приводятся в двух книгах: A. S. Cohan, Theories of Revolution: An Introduction (New York: Halsted Press, 1975); Mark N. Hagopian, The Phenomenon of Revolution (New York: Dodd, Mead, 1974). Полезную критику можно найти в: Isaac Kramnick, “Reflections on Revolution: Definition and Explanation in Recent Scholarship”, History and Theory 11:1 (1972), pp. 26–63; Michael Freeman, “Review Article: Theories of Revolution”, British Journal of Political Science 2:3 (July 1972), pp. ЗЗ9-359; Barbara Salert, Revolutions and Revolutionaries: Four Theories (New York: Elsevier, 1976); Lawrence Stone, “Theories of Revolution”, World Politics 18:2 (January 1966), pp. 159–176; Perez Zagorin, “Theories of Revolution in Contemporary Historiography, Political Science Quarterly 88:1 (March 1973), pp. 23–52; Theda Skocpol, “Explaining Revolutions: In Quest of a Social-Structural Approach”, in The Uses of Controversy in Sociology, eds. Lewis A. Coser, Otto N. Larsen (New York: Free Press, 1976), pp. 155–175.
9
Barrington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World (Boston: Beacon Press, 1966); Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: роль помещика и крестьянина в создании современного мира. Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016; Eric Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century (New York: Harper & Row, 1969); John Dunn, Modern Revolutions: An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon (Cambridge: Cambridge University Press, 1972).
10
Nikolai Bukharin, Historical Materialism: A System of Sociology, trans. from the 3rd Russian ed., 1921 (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969); Бухарин Н. И. Теория исторического материализма: популярный учебник марксистской социологии. Москва: Госиздат, 1928 (особенно гл. 7).
11
См: Robert C. Tucker, ed., The Lenin Anthology (New York: Norron, 1975), особенно части 1–3; Stuart R. Schram, ed., The Political Thought of Mao Tse-tung, rev. and enlarged ed. (New York: Praeger, 1969), особенно части 2–6. Прекрасное изложение основ ленинской и маоистской теорий революции можно найти в: Cohan, Theories of Revolution, ch. 5.
12
См. в особенности: Georg Lukacs, History and Class Consciousness, trans. Rodney Livingstone (Cambridge: The MIT Press, 1971); Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. Москва: Логос-Альтерра, 2003; Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, ed. and trans. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971); Грамши А. Тюремные тетради (избранное). Москва: Иностранная литература, 1959; Louis Althusser, “Contradiction and Overdetermination”, in For Marx, ed. L. Althusser, trans. Ben Brewster (New York: Vintage Books, 1970), pp. 87-128; Альтюссер Л. Противоречие и сверхдетерминация //За Маркса. Москва: Праксис, 2006. С. 127–186. Обзор исторического развития различных течений «западного марксизма» можно найти в: Perry Anderson, Considerations on Western Marxism (London: New Left Books, 1976); Андерсон П. Размышления о западном марксизме. Москва: Интер-Версо, 1991.
13
Karl Marx, Capital (New York: International Publishers, 1967), vol. 3, The Process of Capitalist Production as a Whole, ed. Frederick Engels, p. 791; Маркс К. Капитал. Т. 3 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 25. Ч. II. Москва: Издательство политической литературы, 1955–1974. С. 354.
14
Lewis S. Feuer, Marx and Engels: Basic Writings on Politics and Philosophy (New York: Doubleday (Anchor Books), 1959), pp. 43–44, 53. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие //К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 13. Москва: Издательство политической литературы, 1955–1974. С. VIII.
15
Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works (New York: International Publishers, 1968), p. 40; Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 4. Москва: Издательство политической литературы, 1955–1974. С. 429.
16
Ibid., p. 37; Там же. С. 426.
17
Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, p. 46; Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 435–436.
18
Ibid., pp. 42–43, 45; Там же. С. 431; 432–433.
19
Веря в то, что революции возникают в сознании людей, эти теоретики полагаются на различные психологические теории динамики мотиваций. Некоторые основывают свои аргументы на когнитивных теориях, например: James Geschwender, “Explorations in the Theory of Social Movements and Revolution”, Social Forces 42:2 (1968), pp. 127–135; Harry Eckstein, “On the Etiology of Internal Wars”, History and Theory 4:2 (1965), PP. 133–163; David C. Schwartz, “A Theory of Revolutionary Behavior”, in When Men Revolt and Why, ed. James C. Davies (New York: Free Press, 1971), pp. 109–132. Однако превалирующий и наиболее полно разработанный вариант общепсихологической теории базируется на теориях фрустрации-агрессии, объясняющих насильственное поведение. Среди важных теоретиков и работ: James C. Davies, “Toward a Theory of Revolution”, American Sociological Review 27 (1962), pp. 5-18; James C. Davies, “The J-Curve of Rising and Declining Satisfactions as the Cause of Some Great Revolutions and a Contained Rebellion”, in Violence in America, eds. Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr (New York: Signet Books, 1969), pp. 671–709; Ivo K. Feierabend and Rosalind L. Feierabend, “Systemic Conditions of Political Aggression: An Application of Frustration-Aggression Theory”, in Anger, Violence and Politics, eds. Ivo K. Feierabend, Rosalind L. Feierabend and Ted Robert Gurr (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1972), pp. 136–183; Betty A. Nesvold, “Social Change and Political Violence: Cross-National Patterns”, in Violence in America, eds. Davies and Gurr, pp. 60–68; Ted Robert Gurr, “A Causal Model of Civil Strife: A Comparative Analysis Using New Indices”, American Political Science Review 62 (December 1968), pp. 1104–1124; Ted Robert Gurr, “Psychological Factors in Civil Violence”, World Politics 20 (January 1968), pp. 245–278.
20
К этой категории (помимо книги Челмерса Джонсона, на которую я ссылаюсь в сноске 33) я отношу: Talcott Parsons, “The Processes of Change of Social Systems”, in The Social System, Talcott Parsons (New York: Free Press, 1951), ch. 11; Anthony F. C. Wallace, “Revitalization Movements”, American Anthropologist 58 (April 1956), pp. 264–281; Neil J. Smelser, Theory of Collective Behavior (New York: Free Press, 1963); Edward A. Tiryakian, “A Model of Societal Change and Its Lead Indicators”, in The Study of Total Societies, ed. Samuel Z. Klausner (New York: Doubleday (Anchor Books), 1967), pp. 69–97.
21
Работы теоретиков политического конфликта включают: Anthony Oberschall, Social Conflict and Social Movements (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973); Anthony Oberschall, “Rising Expectations and Political Turmoil”, Journal of Development Studies 6:1 (October 1969), pp. 5-22; William H. Overholt, “Revolution”, in The Sociology of Political Organization (Cro-ton-on-Hudson, N.Y.: The Hudson Institute, 1972); D. E. R. Russell, Rebellion, Revolution and Armed Force (New York: Academic Press, 1974); Charles Tilly, “Does Modernization Breed Revolution?”, Comparative Politics 5:3 (April 1973), pp. 425–447; Charles Tilly, “Revolutions and Collective Violence”, in Handbook of Political Science, eds. Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975), vol. 3, Macropolitical Theory, pp. 483–556.
22
Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970); Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. Санкт-Петербург: Питер, 2005.
23
Ted Robert Gurr, Why Men Rebel, pp. 3–4; Гарр Т. Р. Почему люди бунтуют. G. 42–43.
24
Ibid., особенно pp. 334-47; Там же. G. 422–436.
25
Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978).
26
Tilly, “Does Modernization Breed Revolution?”, p. 436.
27
Tilly, From Mobilization to Revolution, p. 7.
28
Ibid., ch. 3.
29
Tilly, From Mobilization to Revolution, ch. 7.
30
Tilly, “Revolutions and Collective Action”, in Handbook of Political Science, eds. Greenstein and Polsby, vol. 3, Macropolitical Theory, pp. 520–521.
31
Tilly, From Mobilization to Revolution, p. 213.
32
Ibid., p. 212.
33
Chalmers Johnson, Revolutionary Change (Boston: Little Brown, 1966). В последующем кратком изложении его теории я опираюсь в основном на главы 1–5.
34
Ibid., p. 3.
35
Chalmers Johnson, Revolutionary Change, p. 57.
36
При прочих равных условиях (лат.) – Прим. пер.
37
Chalmers Johnson, Revolutionary Change, p. 32.