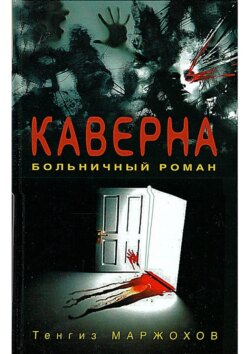Читать книгу Каверна - Тенгиз Maржохов - Страница 2
Часть первая
Оглавление1
Был конец января 2008 года, когда праздники отгуляны, подарки раздарены. Все устали от новогодней суеты и шумных застолий: от алкоголя мутит, от блюд разнообразных тошнит. Хочется поста, отдыха, хоть в работе.
Меня такое состояние охватило после одиннадцати лет жесткого аскетизма. Я ждал конца праздников, чтобы обследоваться. У меня был хронический туберкулез, но точного диагноза я не знал. Там… врачи не говорят правду по странным оперативно-тактическим соображениям. Скрывают настоящий диагноз от пациентов спецконтингента. Я чувствовал себя неплохо, бодрился. Эйфория от свободы, видимо, действовала: новые запахи, вкусы, присутствие женщин, приводили меня в состояние аффекта.
В назначенный час я прибыл в тубдиспансер «Дубки» (больничный городок на окраине города Нальчика) к участковому врачу, с надеждой на положительные результаты, которые должны были дать оптимистичный прогноз, что все заживет под влиянием вольной жизни и хорошего питания.
Однако участковый врач, Эльмира Каюмовна Айсина, проговорила с чувством неловкости:
– Тенгиз, мне тебя порадовать нечем. Нужно срочно в стационар. Я бы не хотела тебя расстраивать, но…
– Почему стационар? Что, настолько серьезно? – нахмурился я.
Она показала рентгеновский снимок. Там, кроме всего прочего, была большая каверна с четкими контурами. Прямо под ключицей, в верхней доле правого легкого, ключица пересекала каверну пополам.
– Мина замедленного действия, – удручено пояснила Эльмира Каюмовна. – Да и в анализах палочка есть. Так что пишу направление и с понедельника ложись. Договорись там, насчет места. Откладывать нельзя.
– Я не думал, что все так серьезно. Ведь чувствую себя неплохо, Эльмира Каюмовна, делаю гимнастику, пробежки по утрам, турник, брусья.
– Никаких брусьев. Ты что? Только прогулки. Беречь себя надо, лечение и покой, – дала мне направление. – Желаю удачи! Ведь от тебя многое зависит. Есть такие, которые не борются и молодыми уходят. Жаль их… – она грустно посмотрела в пол. – Бывают тяжелые, но выкарабкиваются. Никто не ожидал, а побеждают недуг, живут. Так что, побольше оптимизма. Ты парень молодой. Должен справиться. Все будет хорошо.
Я вышел из тубдиспансера задумчивый.
Да… неважные дела, плохо. Мама огорчится – сын вернулся, а здоровья нет. Теперь лежать в больнице. Сколько? Полгода, год?
Ну, а что ты хотел? – повел я внутренний диалог. – Такой срок отмотать без последствий? Так не бывает. Как ты себе там говорил? Когда выйдешь – первые трое суток – шок, потом, несколько месяцев – адаптация. Год надо, чтоб в себя прийти, а чтобы на ноги подняться – лет пять, не меньше. Половина от отсиженного срока должна пройти, чтоб маятник вернулся. Так что, Тенгиз Юрьевич, смирись, до пяти лет вперед, настройся на тяжелую жизнь, не жди праздника, убей самолюбие.
Ничего, Господь поможет.
Дома я рассказал матери о положении дел. Мама слушала внимательно в позе «руки опустились», то задумчиво глядя в пол, то пристально на меня, временами, тяжело вздыхая. Выслушав, махнула рукой и сказала:
– Пойдем, на кухне поговорим. Я тебя покормлю.
Мама поставила передо мной тарелку с соусом, блюдце брынзы, зелень и черный хлеб.
– Ничего, Тенгиз. Что поделаешь? Надо лечиться. Правильно твоя Каюмовна сказала, все от тебя зависит. Твой отец всю жизнь боролся с этой болезнью, – подбадривала она и наблюдала, как я кушаю. – Я позвоню Валерию Николаевичу. Ты его не помнишь, наверно. Бронхолог, давно в «Дубках» работает, еще отца лечил. Я поговорю с ним на родном, осетинском, он поможет.
Я вернулся в комнату и сел в кресло. Ощущение сытости поменяло настроение, все предстало не в таком уж черном свете.
– Мам, все будет хорошо, – начал я громко переговариваться с ней. – Бывало и похуже, я не падаю духом. Просто хотелось начать жить, работать, семью завести. Мне ж тридцать три, мои ровесники детишек воспитывают, – вернулся я на кухню. – Уже не мальчик, мне женщина нужна, – вырвалось с какой-то обидой в голосе.
Мама протирала вымытую посуду.
– Знаешь что?!.. Женщина ему нужна!.. Нечего было в тюрьму садиться! Кто тебе виноват? – Укорила мать. – Я, что ли, не хочу, чтоб у тебя все наладилось? Очень хочу твоих детей понянчить, пока у меня силы есть.
Я почесал затылок. Мать права, по большому счету. Пенять приходится на себя. Мы имеем то, что заслуживаем.
А заслужил я тяжелое социальное положение. Вернулся после одиннадцати лет к матери в однокомнатную квартиру в хрущевке.
Была у нас четырехкомнатная квартира в том же районе. Но, когда отец упокоился, старший брат переселил мать в однушку, а разницу забрал, поехал в Москву, поставил все на свою фантазию и закончил тем, что совесть загнала его обратно в зону на семь лет. Матери оставил после себя внука – проявление силы Всевышнего, что и от таких непутей рождаются лучезарные дети.
К этому «разбитому корыту» и пришел я по возвращению из того мира. Племянник, только начавший разговаривать, назвал меня «деда», потом «папа», на этом мы и поладили. Такие крайности в восприятии ребенка были, потому что я, как больной хроническим туберкулезом, был не допустим до племянника и наши встречи носили случайный характер с большими промежутками.
Короче говоря, старт, с которого предстояло начинать жизнь заново, оказался настолько низким, что поначалу хотелось кричать от безысходности положения. Представлял, что по освобождению будет тяжело, но чтобы настолько, не думал. Нет ничего хуже, чем начать жизнь сначала: «Крепись, – говорил я себе. – Это проверка на прочность. Терпи. На все воля Господа».
Этим же вечером мама позвонила Валерию Николаевичу Цахилову, объяснила ситуацию и положение сына, что надо ложиться в стационар. Валерий Николаевич посоветовал подойти к нему и на месте все решить.
Утром назначенного дня мы прибыли в «Дубки», проследовали к республиканской туберкулезной больнице. Больница располагалась в здании санаторно-курортного типа. Летом, объятая зеленью, она выглядела, как белый кирпич в траве, а сейчас, в конце января, в малоснежную южную зиму, как серый придорожный камень.
Поднялись в отделение диагностики, подождали в коридоре, пока подойдет Цахилов, при этом перемигивались с мамой, стараясь не нарушать покой сидящей на посту строгой медсестры.
Пришел Валерий Николаевич, поздоровался и завел нас в кабинет. Попросил рентгеновский снимок, посмотрел на свет и проговорил со всей серьезностью:
– Да, каверна большая. Надо серьезно лечиться, – смотрел он больше на мать голубыми глазами, закатывающимися под верхнее веко.
– Каюмовна говорила, что возможна операция, – сказала мама, желая продолжить разговор и побольше выслушать от врача.
– Давайте так, – сказал твердо Валерий Николаевич. – Вперед забегать не будем. Надо лечиться, упорно лечиться, минимум полгода. Потом будем делать выводы. Видно, запущенный туберкулез. Может быть, при лечении произойдет чудо, – пошутил он без тени улыбки. – Вообще-то, туберкулез вещь индивидуальная, у каждого протекает по-своему. Я направлю вас во вторую терапию, к Зауру. Под его наблюдением будешь лечиться, понял? – посмотрел на меня строго. – И чтоб без баловства, чтоб я не краснел за тебя.
Валерий Николаевич снял трубку телефона.
– Я не подведу, – начал я уверять его. – Вредных привычек нет: не курю, не пью, не наркоман…
– Салам, Заур! – Цахилов сделал знак, чтоб я помолчал. – Заур, положи к себе парня. Сын моего друга, хороший парень. Да, будет серьезно лечиться. Хорошо, я направляю к тебе, – что-то еще пошутил, посмеялся и положил трубку.
Встал из-за стола, вернул мне снимок и подошел к матери.
– Надеюсь, все будет хорошо. Если что, знаете, где я. Беспокойте по любому поводу. Идите сейчас на четвертый этаж, там к заведующему подойдите, он ждет. Всего доброго!
Во втором терапевтическом отделении мы подошли к кабинету заведующего. На двери красовалась бронзовая табличка: «Заведующий отделением, Хапузов Заур Каральбиевич, кандидат медицинских наук». Табличка выделялась из унылого вида терапевтического отделения. Заставляла уважать дверь, на которой висит. Это как в поле набрести на памятник и удивиться.
Я постучался.
– Здравствуйте, можно?
За столом сидел полный мужчина в очках, походивший на мясника, лишь белый халат говорил о медицине. Он разговаривал по мобильнику и, не отрываясь, показал… Я не понял его пантомимы. Тогда он прикрыл трубку и в полголоса сказал:
– Зайди в ординаторскую к Людмиле Мухадиновне, – при этом замахал рукой, ни слова не давая сказать, мол – знаю, кто ты и зачем пришел.
Я вышел в коридор.
– Почему так быстро? Что он сказал? – спросила мама.
– В ординаторскую послал, – поискал я дальше глазами. – Вот сюда сказал зайти.
За столом, заваленным медицинским бумагами, сидела пожилая женщина в белом халате. Эта женщина и была Людмила Мухадиновна, на которую показал заведующий. Ей было около семидесяти лет, если не больше. Обесцвеченные редеющие волосы. Блуждающий взгляд.
Короче, другого врача-фтизиатра я, как счастливчик, ожидать не мог. Только такой пациент, как я, из числа бедных родственников, отправлялся прямиком к Людмиле Мухадиновне.
– Здравствуйте, – протянул я направление. – Меня к вам направили. Вот снимок и анализы, – положил все на стол перед её носом.
– Вы ложитесь? Кто направляет? Поликлиника? Так… – посмотрела она направление. – Подождите за дверью, – попросила она маму. – Я его опишу пока, потом мы поговорим.
Мама вышла из кабинета.
– Присаживайся, – усадила меня и приступила к процедуре приема больных в стационар. – Противопоказания есть?
– Да, пиразинамид. У меня на него аллергия.
Она записала это в историю болезни. Затем, после процедуры описания, попросила, чтоб я пригласил маму. Вошла мама, и Людмила Мухадиновна поговорила с нами о том – о сем, о жизни, как плохо в наше время болеть туберкулезом и тому подобное.
Было видно, что почтенная старуха, будучи давно уже на пенсии, дожила до столь преклонного возраста в профессии, и по сей день была в строю, по причине отходчивости от горя больных. Она не принимала близко к сердцу все, что происходило с пациентами, лишь бы бумажная отчетность была в порядке. И, по-моему, не только нехватка молодых специалистов, но и бумажная аккуратность держала её на своем месте до глубокого склероза.
– Ложись в 412 палату, там место есть. Остальное девочки подскажут, – имела в виду медсестер Мухадиновна.
Мы с мамой пошли по коридору, считая палаты. Вид был у нас, как у людей, которые занимаются своей проблемой, готовые на всякие сюрпризы. Нам встречались редкие больные, они всматривались в меня, заглядывали в глаза, как будто давно ждали, ждали как последнюю надежду. У большинства только глаза-то и оставались, ну еще носы и уши, остальные части тела чахли и уходили тихо и безвозвратно.
Мы подошли к открытой палате, я посмотрел на номер 412.
– Вот эта, – нехотя показал маме и зашел.
Там, нагнувшись к ведру с тряпкой, санитарка о чем-то оживлено перебранивалась с двумя больными. Те двое, очень разные: один маленький, второй высокий, разводили руками и оправдывались.
Я громко поздоровался. Санитарка выпрямилась и удивлено посмотрела на меня.
– Место есть? Меня сюда направили, – сказал я санитарке. Представился и пожал руки будущим сопалатникам. – Да-а… – оглядел палату, как панораму, – подраматичней «Бородинской» будет.
– Как вас зовут? – обратился я к санитарке.
– Роза, – ответила она и продолжила протирать подобие тумбочки. Потом вышла и принесла комплект белья. – Матрац и подушку сейчас дадут.
Разворачивая белье: простыню, пододеяльник, наволочку, я пришел в ужас. Это было рубище, провонявшее хлоркой. Ткань была застирана до такой степени, что просвечивалась, как марля.
Я серьезно посмотрел на Розу. Это была женщина средних лет, худощавая, глаза понятливые, лицо напоминало ослиную морду из мультфильма «Бременские музыканты».
– Откуда… Роза? – внимательно присматриваясь, спросил я.
– Из Баксана, – ответила она с ухмылкой.
«Все понятно, – подумал я. – Постельные принадлежности, видимо, перекочевали в Баксан».
В этот миг к стоящей в дверях матери, как старуха с косой, подковыляла Людмила Мухадиновна и начала что-то говорить жалобным тоном.
Что? – не понял я и повернулся.
Мама, как рыба на суше, раскрыла рот, а Людмила Мухадиновна высказывала ей соболезнование. Мама прервала её, когда заметила, что я недоуменно смотрю на них.
– Я ложу сына. Вы что? – проговорила мама и хихикнула.
Людмила Мухадиновна тут же пришла в себя. – Ах да, извините, – махнула рукой. – Тогда туда не надо. На том месте сегодня парень умер. Я подумала вы его мать… Идите вот сюда, – подвела нас к 414 палате. – Располагайтесь здесь, – указала на пустую койку.
В палате, на койке у окна, сидел мужчина средних лет.
Я поздоровался. – Тенгиз, – протянул ему руку.
– Володя, – ответил он.
Тут же мощная сестра-хозяйка прикатила на каталке матрац и подушку, занесла и скинула на сетку койки.
– Что это? – поднял я одной рукой подушку, другой развернул матрац. – Сколько человек на этом матраце померло? И какой бедолага захлебнулся кровью на этой подушке? – брезгливо спросил я у сестры-хозяйки и посмотрел на Володю.
Он молчал, как давно не обращающий внимания на такие мелочи. Мама не знала, что сказать. А сестра-хозяйка пробубнила:
– Что, не нравится? Пойдем, сам выберешь… если найдешь, – и повела меня в подсобное помещение. – Выбирай, – стала она в дверях.
Матрацы, подушки, одеяла представляли собой кучу барахла до потолка, в которую я полез, оптимистично засучив рукава. Первая иллюзия разрушилась об факт. Выбирать в этой куче было нечего, все было еще хуже: проссанные, проблеванные кровью насквозь матрацы и подушки. Я побросал туда же, чем замарал руки и недовольный вернулся в палату.
– Ну что? – спросила мама.
Я безысходно посмотрел на постельные принадлежности.
– В тюремной туббольнице сейчас новое белье выдают, – негодовал я. – А это республиканская больница, для свободных людей, не для зэков.
Но факты, как говорится, вещь упрямая. И такое плачевное состояние было в нальчикской больнице. Я был в шоке. Тут же пришло в голову, что это только первое впечатление. В каждом болоте бывают разные омуты… до которых надо еще добраться. Одного водяного я увидел. Посмотрим, что дальше будет?
– Ладно, прорвемся. Не из таких прожарок выбирались, – подбодрил я себя и маму. – Поехали домой.
А Володе, сопалатнику, сказал:
– Вечером вернусь.
Мы вышли из больничного корпуса. Был пасмурный полдень. Горы скрылись в тумане. Стоял легкий морозец, но снега почти не было, лишь небольшими островками лежал кое-где. Земля была покрыта прошлогодним листопадом. Листья тополя, желтые с чернотой, замерзли, как лодочки прогнулись и каждый сохранял снежинку. Все было серо, но на солнце это покрывало отражало яркую картину, только непостоянную и ветрено-холодную.
По дороге мама приставала с вопросами:
– Почему заведующий не поговорил с тобой? Сразу к Мухадиновне направил. Ты сказал, что Валерий Николаевич тебя послал? Что ты от него?
Я что-то машинально отвечал, а сам ломал голову над этими же вопросами. Заведующий не стал со мной разговаривать, потому что сейчас эти звонки ничего не значат. Все решают деньги. Нет денег – ложись на зассанный матрац. Есть деньги – все будет в лучшем виде. И медицинская страховка, в таких случаях, играет как-то не за тебя. На неё врачи смотрят разочарованно: «Вот еще один нахлебник появился. Надо чтобы наличные фигурировали, не эти полисы. – Вы по страховке, да? – и врач заскучал… – Нет! – оживился и предлагает весь спектр услуг. Любой каприз за ваши деньги. Руки потирает. – Сейчас все в лучшем виде сделаем. – Да у вас еще геморрой, кроме всего прочего, найдут. И за поиск геморроя тоже, извините, копеечку. Ведь специалист трудился, искал. А за лечение, это другой тариф». – Паясничал я перед мамой.
Мама покраснела от смеха.
– А Мухадиновна ко мне подходит и соболезнует. Я не поняла. Только что мы с ней в кабинете разговаривали, а тут соболезнование… ха-ха-ха!
– Кстати, плохой знак, – сказал я, прекращая этим веселье. – С дурного начинается.
2
Вечером того же дня я вернулся с вещами перед закрытием отделения. Старый друг, Русик, вызвался подвезти меня до больницы.
Было уже темно. В наших краях зимой темнеет рано. Нет такого плавного, неторопливого заката, как в России, горы скрадывают пару часов. Солнце прячется за главным хребтом и наступает ночь. И город переходит из яркого и веселого, в мрачный и угрюмый.
Контраст усиливается из-за плохого освещения Нальчика. Несколько главных улиц более-менее освещаются, остальная же часть курортного города погружается в темноту. И только одинокие фонари, как ветераны, оставшиеся из разных эпох, появляются в неожиданных углах. Бывают такие – лампочка под металлической шляпкой на бетонном столбе, какие в детстве (во времена Л.И.Брежнева) мы били из рогаток. Вcтречаются более поздние, времен перестройки, или современные, новой конструкции, освещающие, корпоративно, периметр частной земли. А попадаются старые фонари, каких не помнит глаз, как динозавры, дожившие до демократии двухтысячных со сталинских времен курортной привлекательности. И настолько они одинокие в поле войны, что мало меняют общую картину темного города. Где так много бандитских переулков, что не страшно ходить по ночам, потому как на все переулки бандитов не наберется. Короче говоря, в больших городах, таких как Москва, освещение более насыщенное.
За год, что я прожил в Нальчике, вернувшись после долгой разлуки, город показался спокойным. Тут если что-то и происходит, то так шумно и с резонансом, что хватает на пяти, а то и десятилетку. В остальном же, город монотонен, как ритм маршрутов троллейбуса, которые ходят по нальчикским улицам, как носороги. Раньше, из большого транспорта, были желтые слоны – «Икарусы» с гармошкой, теперь же они вымерли, а на их место пришли маршрутные такси – газели. Еще малогабаритные автобусы японско-украинского производства. Они как тапиры, бегают по городу от остановки к остановке в потоке машин.
Мамина квартира находится в противоположной части города от больницы. И ехать с вещами неудобно. Поэтому Русик пришелся, как нельзя, кстати – подвез меня к входу в больницу, помог выгрузить пакеты с вещами.
Попрощавшись, я поднялся на лифте на четвертый этаж. Неуклюже, перехватывая пакеты, чтоб не резало пальцев, дошел до сестринского поста. Там две медсестры готовились к вечерним процедурам. Проходя мимо, меня окликнула та, что постарше:
– Твоя фамилия Замохов?
– Да, Замохов, – остановился я, поставил пакеты на пол и перевел дыхание.
– Вот, возьми… Утром сдашь анализы, – показала на бутылочку, баночку и листок бумаги.
– Одну минуточку, – ответил я. – Занесу пакеты в палату.
Прошел дальше… Коридор освещался частями, было видно, что лампочки в плафонах перегорают без согласования с электриком и его возможностью быстро их менять. Поэтому, немного напрягая зрение, чтоб не пройти палату, я то прибавлял, то замедлял шаг, пока, наконец-то, нужные цифры 414 не появились. Из дверной щели выбивал свет – «ничего, привыкну» – подумал я и открыл дверь коленом. Занес пакеты, скинул куртку и шапку и вернулся на пост.
– Давайте, что тут у вас?
У стола стояла медсестра в халате без маски, она занималась распределением анализов. Ничего особенного в ней не было, кроме строгости и спокойствия.
– Вот, – показала она на тару. – Сюда соберешь мочу, в баночку мокроту, а это, – показала на бумажку, скрученную в трубочку и торчавшую из бутылки с меркой, – общий анализ крови, пойдешь на второй этаж, там спросишь. Все это надо сделать рано утром, – объясняла она, при этом внимательно рассматривала меня и за серьезным выражением лица проскальзывала улыбка.
Слушая, я поглядывал на вторую медсестру, которая подходила к столу, передавала необходимые предметы и отходила к шкафу с лекарствами. Казалось, она прислушивалась к нашему разговору, только старшая начинала что-то искать, тут же подходила и помогала. Это была молодая девушка невысокого роста, одета в медицинский брючный костюм, маску и чепчик. Когда она отходила, через легкую ткань брюк, просвечивались трусики-слипы в цветочек. Кровь притекла к голове… «А здесь хорошо топят», – подумалось мне. Дальше заглядываться я постеснялся и встретился глазами со старшей, в её взгляде была едва уловимая ухмылка, она смутила меня.
– Ладно, я понял, спасибо! – забрав тару, вернулся в палату.
Поставив тару под койку, начал разбирать пакеты. Попутно завязался разговор с Володей.
– А на этой койке кто лежит? – поинтересовался я, заправляя постельное белье, привезенное с собой, под него постелил больничное, чтоб было почище.
– Здесь мужик один числится. Приходит, таблетки на неделю берет и пропадает, – пояснил Володя, показывая на прибранную койку.
Так, понятно: «трехместная палата, одного постоянно нет, хоть в этом повезло, да и Володя не самый худший вариант. А то подложили бы к тяжелобольному с процессом, и слушай круглосуточно кашель и стоны».
– Что тут у нас? – полез я в тумбочку, которая, судя по всему, предназначалась мне.
Тумбочек было три, две возле коек Володи и того мужика (которого, как потом оказалось, звали Борисом) и одна возле раковины, под большим зеркалом. И если я садился на койку с краю, со стороны двери, то мог разглядывать себя в зеркале.
Койка была дурацкая, наследие советского медицинского сервиса – металлическая сетка на спинках с дужками. Сетка была просижена на одну сторону и являлась такой узкой, чтоб, например: человек, поселившийся в одноместный номер, не мог привести подругу. Даже если смог провести вокруг носа вахтера и незаметно прокрасться по лестнице и коридору, койка такая, что мысли об уюте и комфорте покидали голову нарушителя режима проживания в общежитиях, санаториях, пансионатах и больниц времен «совка».
И этот «совок» никуда не делся из нашей больницы, он был такой же реальностью, как и все вокруг.
Ладно, как-нибудь перекантуемся, потом посмотрим, – продолжал я размышлять и знакомиться с палатой. – По меньшей мере, полгода здесь находиться, в этой комнате с попутчиком.
– Тебе анализы уже дали? – спросил Володя.
– Медсестры дали. Рано утром надо поставить. Они объяснили, только я что-то прослушал.
Володя показал куда что поставить утром и улыбался, словно знал меня и был рад моему появлению.
– А что за медсестры дежурят сегодня? Как их зовут?
– Та, что постарше Сима, – поморщился он. – Сука, сам увидишь.
– А вторая кто?
– Мелкая? – уточнил он.
– Да, мелкая… Дженнифер Лопес, – смачно произнес я и сделал удивленное лицо.
Володя, глядя на маня, покатился со смеху.
– В натуре, четко ты подметил – Дженнифер Лопес, – повторил он за мной. – Молодая, глупенькая, Марина зовут, – продолжал он веселиться. – Понравилась?
– Я не разглядел лица, но Дженнифер!.. О Дженнифер! – показал я руками на её красоту и помотал головой, как сокрушающийся.
Юмор нас сблизил, мы быстро нашли общий язык. Манерой нашего общения стали шутки и приколы. Он, как и я, был мужчина с биографией, мы хорошо поладили. Только его биография была подпорчена, а это оставляет своеобразный след и сказывается на поведении.
На следующий день, услышав мою фамилию, Володя спросил:
– А Мурат Замохов не твой брат?
– Мой брат, старший, а что?
– То-то я смотрю, на кого ты похож? Кого-то напоминаешь? Мурика, точно! Особенно голосом вы похожи, – обрадовался он.
«Вот еще!.. – подумал я. – В какой только дыре не знают Мурата. В самых неожиданных местах и самые бесперспективные типы».
– А где сейчас Мурик? – спросил Володя, хихикая своим воспоминаниям. – Ну, Мурик Замохов! – качал он головой.
– Лямку тянет на строгом режиме, – ответил я, поддерживая настроение. – А ты его откуда знаешь?
– Мы с ним в армии служили.
– В Сосновом Бору что ли?
– Да, в Сосновом Бору… – Володя замолчал и призадумался.
Было видно, здесь воспоминания теряли привлекательность.
Я ненавязчиво поддержал тему, рассказал, что приезжал к брату в часть под Питером, два часа на электричке до городка Сосновый Бор. Припомнил некоторые подробности моей поездки. Сугробы исполины. Обледенелый колодец. Сладкий сон на русской печи.
Володя посмеялся и начал рвано, кусками рассказывать.
– Ну, Мурик!.. Пришел меня провожать в гражданке. С девчонкой. В самоволку пошел. Никто не пошел. Только Мурик. Проводил меня до пирона. На поезд посадил. «Что, Вовчик, боишься?» – подкалывал меня. – «Ома дела не в этом!»
– Ты раньше демобилизовался или как там, в армии, говорят? – не совсем понял я.
– Да, раньше… За несколько суток до дембеля убил одного… Мы отмечали… По пьяни получилось. Нервы не выдержали. Убил. Сразу в бега подался. Несколько лет бегал, потом устал – дошёл до состояния, когда боялся каждого шороха, издаваемого мной же. С гор спустился и сдался. Восемь лет получил и поехал кататься по России. Где-то блатовал, где-то приблатовывал. Доехал до Карелии. Слышал?
– Карелия, наслышан. А как же?
– Там мы выдохлись, – подвел черту Володя.
– Выдохлись, – заметил я. – Точное определение – выдохлись.
Я сочувственно посмотрел на Володю. Там и не такие типы выдыхались. Место, про которое говорят – гадюшник. Но надо еще постараться туда попасть, с Кавказа в Карелию. За восемь лет, конечно, можно оказаться и подальше, только такой билет надо заслужить, как говорят – самому выморозить такую «командировку». Дальше, оставшуюся часть срока, мужиковал, ясное дело.
Такие персонажи, как Володя, на серьезных перевалах выдыхаются, а не доводить до этого ума не хватает. Чью-то душу загубил и свою потерял. И живет человек без души, управляемый одним только страхом. Дальше себя губит, и мать свою не жалеет. Я его понимаю, ну да Господь ему судья.
– Ну-у, Мурик! «Что, Вовчик, боишься?» – спрашивает, а сам угорает, – смеялся Володя, тряся головой. Смотрел в пол, крутил в руках сигарету.
Показалось, это такое воспоминание, суть которого он не познал до сих пор. Почему в лихой и тяжелый час, когда надо бежать, скрываться, провожает земляк, сослуживец, привел с собой девку, и этот вопрос: «Боишься?» Делает, вроде бы, доброе дело, но с наивысшим цинизмом.
Такой человек не понимает своего поступка. Показная дерзость против всего на свете. Провокация. Желание пощекотать нервы. На такое страшное вероломство способны лишь молодые. Только молодой ум хочет прогневать Создателя так, чтоб проняло до последних пяток.
Это проводы из одного мира в другой: из мира самоволок, пьянок, девочек; в мир бегов, оскаленных зубов, хищничества, загнанного зверя, где все серьезно. Ошибка – урок. И урок дорогой, болезненный. Такие уроки не жалеют, отнимают здоровье, зубы. После таких уроков видишь в зеркале другого себя. Разглядываешь, как незнакомого человека и находишь следы времени, отпечаток жизни на лице.
И хочется упасть ниц и просить, вымаливать прощение за все… за каждое глупое словцо. Появляется страх перед этой могущественной силой, которая не бьет сразу, не видна молодому, а проявляется с годами, смотрит на тебя седыми волосами. Ты отворачиваешься, машешь на неё рукой, но она упорно не уходит. Смотрит со всех отражений: с витрин, стекол машин, со всех зеркал. И в момент, когда вы снова встретились и молчите, подбегает трехлетний ребенок: «Деда, деда!» – заглядывает в глаза и лукаво улыбается, пытаясь привлечь внимание к проблеме своего младенческого мира. Ты умиляешься… и из глубины души понимаешь, почему Володя мотает головой, чешет затылок, смеется до слез и кашля. – Ну, Мурик Замохов!
– Да ладно, Вов, выбрось это из головы, – махнул я рукой на наш разговор. – Я лучше всех знаю, какой Мурат…
Володя резко повернулся, пытаясь по глазам понять, серьезно я, искренне говорю? И убедившись в чем-то своем, начал хохотать всеми оттенками смеха, через который из него выходило все связанное с этим… Больше он не заговаривал со мной о брате.
3
Утром я проснулся от шума. Дверь была настежь… Провалился в сон, говорят, когда человек крепко засыпает, а я вывалился из сна, как по тревоге. Сел на койку, свесил ноги, протирая глаза, посмотрел по сторонам. В коридоре было хождение, какие-то голоса…
– Что происходит? – спросил я у Володи машинально.
– Обход… старшая медсестра ходит и таблетки дают.
Он сидел на койке и смотрел то ли телевизор, то ли в окно.
Вдруг в палату забежала медсестра, протянула мне четыре таблетки.
– Что это? – не понял я.
– Пиразинамид, – ответила она, её глаза смотрели поверх маски.
– Какой пиразинамид? Вы что издеваетесь? – начал я подниматься.
– Ты Замохов? – недоумевая, спросила она.
– Да, но какой пиразинамид?..
Медсестра выбежала из палаты, поняв – получилось недоразумение. Я вышел в коридор и подошел к тележке с таблетками. Мадина (так звали медсестру, заступившую на смену) листала листы назначения.
– Вот, – показала она пальцем по моему назначению. – Твой лечащий врач прописал, – и посмотрела удивлено-невинными глазами. Только черные глазки и тонкие брови были видны, остальное закамуфлировано под розовым чепцом и маской.
Я поспешил в ординаторскую. Проходя пост, старшая медсестра, после секундного замешательства, закричала в след, чтоб я одел маску.
Здесь было заведено приказом главного врача, чтоб медперсонал и больные носили маски. Заведующий отделением ревностно следил за этим, даже чересчур.
Проигнорировав, я вошел в кабинет, предварительно постучавшись. Не обращая внимание на второго врача (Лидию Федоровну), а только поздоровавшись, я подошел к Людмиле Мухадиновне. Она, по обыкновению, капалась в бумагах, которые аккуратным ворохом захламляли два стола.
– Доброе утро! Людмила Мухадиновна, почему медсестра дала мне пиразинамид? Вы же пометили в истории противопоказание?
– Как? – отвлеклась она. – Принеси-ка, возьми у девочек лист назначения.
Я вернулся к медсестре.
– Мадина, дай мой лист назначения, пожалуйста. Мухадиновна просит.
Мадина вытряхнула из папки лист назначения, и я понес его в ординаторскую.
– Так… Да. Ах да, – посмотрела Мухадиновна на свои же каракули и как будто не узнавала их. Потом подняла голову и уставилась на меня. – Отменить?.. Да. Надо отменить, – спохватилась она и начала что-то черкать.
Я подошел поближе и сам скорректировал назначение, предложив вычеркнуть еще и рифампицин. От него пухнет печень, его прописывают в безнадежных случаях. Лидия Федоровна, глядя поверх очков, наблюдала за этой картиной.
– Ну все. Отнеси девочкам, – протянула обратно исправленный лист назначения Людмила Мухадиновна.
Во мне росло возмущение, захотелось плакать, потом смеяться. Почему я должен делать себе назначение? Что за больница? Что за врачи? Что за отношение? Если назначение больному делается, не заглядывая в историю болезни. Только на днях два раза пометили противопоказание – пиразинамид, но все равно первые же таблетки, которые мне принесли, были те самые… Что это – провокация или что?
А если поступает пациент, который не в состоянии проконтролировать, что ему противопоказано, и дадут препарат? Меня просто обсыплет, как на «Матросской тишине». Стану весь чесаться и вонять аптекой. Нужно будет капать, чистить кровь – мелочи какие-то, а если последствия более тяжелые? В нашем здравоохранении примеров полно. Вывод один – ничего не выпускать из-под контроля.
Я вернул лист назначения Мадине и объяснил коротко причину моей беготни. Она выдала медикаменты. Володя ухмылялся, глядя на меня, ему казалось, что слишком серьезно я ко всему отношусь.
Сонные, вялые и смиренные больные наблюдали с незадачливым видом, они не понимали меня. А я не понимал их, потому что хотел поправиться, а не плыть по течению, сплавляя свое здоровье.
Начинала проявляться картина лечения. Я размышлял так: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Выработаю оптимальный режим, жизненный опыт в помощь, а там – через полгода будет видно – совершу я чудо – одолею каверну или придется лечь на операционный стол. А пока нужно было чем-то себя занять, чтобы время летело, но не пролетало впустую.
Кроме рутины восстановления документов, число которых существенно прибавилось, по сравнению с девяностыми годами, требовалось что-то и для души. Но с моими материальными возможностями для души подходили лишь лирические прогулки и глазенье на девочек. Я заново знакомился с этой загадочной энергией. И тут вырисовывалась такая картина.
Люди перестали знакомиться на улице, в транспорте, в парке. Его величество Случай похоронен без права реабилитации. Все перешло в плоскость материально заинтересованного круга. Либо в виртуальную плоскость – Интернет. Я же пытался познакомиться старым дедовским способом. И сталкивался либо с простым игнорированием, либо с непонимающей чуть виноватой улыбкой, в лучшем случае, либо с чем-то вроде…
– Девушка, извините, не помешаю?
– Помешаешь.
– Чем, если не секрет?
– Своим присутствием.
Вот и поговорили.
По результатам опыта вывелась определенная теория. Делать попытку знакомиться на улице нет смысла, потому что женщина устроена так, что никогда, даже при условии, что мужчина ей нравиться, не пойдет на контакт при первой встрече. А случайная уличная встреча не подразумевает повтора. Это проверено: из ста девушек и женщин девяносто девять не назовут номер телефона, имени, и не согласятся на встречу. «Что он вообразил? Я не такая. У них одно на уме», – думают женщины в такие моменты.
Любое проявление внимание мужчины вызывает реакцию – у них одно на уме. Это у женщин одно на уме, они только об этом думают и этим заботятся, поэтому и приписывают мужчинам свое. Здесь, видимо, играет роль женская физиология. Это сидит в подсознании. Не каждая женщина понимает себя в этом смысле.
Женское блаженство находится внутри и инстинкт заставляет пред тем как пустить мужчину в свою жизнь, в себя, убедиться, что он хороший, чистый, достойный, негрубый, внимательный, не сделает больно и т. д. А для этого нужно время, длительность отношений. Поэтому женщина действует интуитивно, машинально – это не принято, так не положено. И предпочитает ждать и томиться, пока суженый найдет и завоюет. А она будет уклоняться, выдерживать нормы приличия и соблюдать ритуалы. И мечтать, мечтать, мечтать, что он будет или должен быть такой-то и такой-то.
Но не у каждого мужчины хватает терпения завоевывать. Для кого-то в перспективах такого завоевания теряется привлекательность женщины. Слишком дорого это обходится, цель не оправдывает средства. К тому же большинство женщин настроены на счастье только через материальные блага, а не через духовную близость. А такого счастья не бывает.
Наше население долго – на протяжении тысячелетий проживало в плохих социально-бытовых условиях, и сложился материальный комплекс, которому все приносится в жертву.
После выведения этой теории, я бросил попытки случайно познакомиться. И гуляя, наслаждался природой, глазел на девочек, как художник, оценивая: лица, фигуры, походки и, конечно, глаза.
И пришел к другому выводу – как мало светлых, счастливых лиц.
Как-то раз мы с Русиком катались по городу на его джипе. Вспоминали, как он приехал в Воронеж, встретил меня из колонии. Болтали о пустяках, машина неспешно катилась по улицам Нальчика. Город, как мышиный мех – серый, сухой, теплый был залит колким зимним солнцем. Другу было интересно послушать человека повидавшего многое. Он искренне смеялся над моими остротами. Русик ездил кругами по центру города, казалось, что-то обдумывает.
– Теник, – обратился он по-дружески. – Сколько лет без женщин?.. – выругался по-кабардински. – Бедолага. Тяжело, небось?
– Да. Не то слово… Привыкнуть можно ко всему, к прессингу, нервозу, даже к голоду, но к отсутствию женщин не привыкнешь, если ты нормальный мужчина.
– Братан, раз уж я тебя встретил, братика моего, хочу дело до конца довести. Мне псапэ (благое дело) будет. Поехали, девочек возьмем, – и начал звонить «мамочке», не отрываясь от дороги.
В переулке подсадили двух молоденьких девчонок. Они защебетали на заднем сиденье. Салон машины наполнился весельем, приятным ароматом… и смехом белозубой Марго. Кэт была молчаливей, но повкрадчивей.
– Девчонки, вы неместные? – поинтересовался Русик, глядя на них в зеркало. – И сколько вам лет?
– Девятнадцать, – ответила Марго, улыбаясь и смачно жуя жвачку.
– А откуда вы? – повернулся я, чтоб взглянуть на Кэт, которая сидела за мной.
Девушки напустили туман, явно не хотели говорить на эту тему. Кэт выглядела достаточно опытной и изучала нас профессионально. А Марго кокетничала, словно «мамочка» шепнула на ушко, чтоб она понравилась.
Короче говоря, припарковались мы у загородного отеля, каких сейчас предостаточно, и наша веселая компания разместилась в апартаментах. Большую часть произвольной программы я опускаю, за исключением некоторых моментов.
Во-первых, я вновь состоялся как мужчина, что называется «вернулся в строй» после многолетнего перерыва.
Во-вторых, убедился еще раз в истине: «Больше слов – меньше дела». Марго болтала, но комплексы рушили все надежды. А Кэт трудилась и хорошо кушала.
И вообще, мало культуры у нас в этом вопросе. Уровень услуг примитивный, любительский. Наши профессиональные кадры по всему миру зарабатывают и кормят работодателя. А мы не созрели пока, у нас этот рынок погиб в руках правоохранительных органов.
Меня, как холостого человека, интересует вопрос. Вопрос этот из области морали. Не люблю быть циничным, как говорят англичане – джентльмен не должен быть скрягой. Тем не менее, хочется разобраться подробно, уж больно вопрос щепетильный, тонкий, можно сказать. Не с каждым обывателем его обсудишь. Могут быть протесты, несогласия, эмоции. Но все же с точки зрения математики, холодного расчета, здравого смысла, наконец, этот вопрос напрашивается.
Женщины, женщины. Ох уж эти женщины. Вопрос касается подхода общества к женщине и самих женщин к этому вопросу в наше время, да и в прошлом.
По-простому, по-уличному даже, женщин можно разделить на порядочных и непорядочных. Так вот, непорядочных, чья профессия древняя, знают все. Они называются по-разному. В различные эпохи отношение к ним не было однозначным. Но, по большей части, к этой категории женщин общество относилось отрицательно, презрительно, осуждающе. На них принято пенять. С этим социальным явлением боролись всегда, но побороть не могли. И ни кому это не удавалось. Тем не менее, это недостойно, низко, фу!..
А если рассмотреть этот вопрос под другим углом, чисто здравым смыслом. Получается, женщина, будь то жертва обстоятельств, будь то любовь к профессии, начинает зарабатывать деньги, предоставляя услуги определенного свойства. Это услуги, в которых нуждается мужчина. Не может без этого во все времена, во все формации. Женщина оказала услугу мужчине и услуга была оплачена. Чистая рыночная экономика, ни как у коммунистов «за боюсь» – страх перед авторитетом партийного работника. Товар – деньги, деньги – товар. Не устраивает – проходи мимо. Все по-честному.
А теперь коснемся другой категории – порядочных женщин. Рассмотрим вопрос повнимательней. Порядочные женщины, не такие как те… Заработок имеют другой, обстоятельства не толкнули на это. Любовь к профессии заменяется любовью к искусству, но искусству непростому. Оно заключается в том, чтобы накинуть хомут на шею мужчине. Замужество. Законный брак.
И что получается?
Мужчина получает те же услуги, только в более долгосрочной перспективе. И за эти услуги платит не только деньгами, всеми силами. Все внимание должен отдавать, делиться мыслями, эмоциями, подставлять плечо. В случае расторжения отношений, за услуги: полдома, полквартиры, полдачи, половину имущества отдашь порядочной женщине. Взамен получишь спекуляцию собственными детьми.
Что-то дороговато получается. Тут призадумаешься. Не дешевле ли, не надежнее, не определеннее разовый абонемент? Почему разовый непорядочный, пошлый, отвергаемый нравами? Долгосрочный чем порядочнее, чем лучше?
Такая вот арифметика.
И только там эта арифметика не работает, там рушится – где любовь. Где любовь настоящая, чистая. Но как эту любовь найти, распознать? Какие звезды должны сойтись? Чтоб эта любовь проявилась, пришла. Тут только Божественная сила поможет!
Нельзя быть таким прагматиком. Это уровень мальчишеский. Такой опыт показывает, что душевного удовлетворения в этом нет. Это скорей вынужденная физическая необходимость. А с физической составляющей можно работать, мне это известно, как никому.
4
Вообще-то я отошел от темы, пора пойти дальше. С моим распорядком вырисовывалась такая картина: будни я находился в больнице, на выходные ездил домой, к маме. Так поступали многие, кроме тех, кому ездить было далековато или вовсе некуда. За неделю надоедало, и дома я отдыхал от больницы, а в больнице от дома.
Приезжая, я делился с мамой новостями и впечатлениями. Она (инженер и ветеран труда на пенсии) внимательно выслушав, давала советы. Поучала меня с позиции прожитой жизни и опыта. А я понимал – родители в таком возрасте, что большая часть их энергии в детях, через нас они не стоят на месте. И нельзя их ограничивать в этом из-за комплексов и зажимов. Все конфликты в семьях из-за непонимания между поколениями. Недаром говорят – старики, как дети.
Да, они требуют внимания. Так зачем их обходить вниманием? Детям мы дарим внимание, потому что это наше будущее, мы их любим.
А старики как отработанный материал что ли?
Я так не считаю, и подхожу к этому, извлекая немало пользы: «одна голова хорошо – две лучше», мама всегда даст совет или хотя бы направит, и потом, рассказывая, я проговариваю, учусь правильно выражать мысли. Делаю это так, как сам бы хотел слышать от своих детей. А дети, в свою очередь, воспитываются на примере.
Племянник болтает ножками под столом и внимательно перенимает манеры – как я разговариваю с мамой, его бабушкой. Потом и он не допускает небрежности, становится коммуникабельный с бабулей. Делится каждой эмоцией через небольшой запас речи, массу мимики и артикуляции.
Как-то я вернулся из дома после выходных. Володя сказал:
– В субботу Мариночка несколько раз заглядывала. Тебя спрашивала.
– Зачем? – удивился я.
– Замохов… Где Замохов? – попытался передразнить манеру её разговора Володя и засмеялся тому, как это у него получилось. – Не знаю, что она хотела?
Я был заинтригован и начал воображать: «Нашла повод, чтобы… померить температуру или давление. Почему я уехал домой?» – Думал я про себя с укором. – «А откуда я мог знать? Ладно, если она… это проявится, прочитаю по глазам, будет знак». Я подсчитал смены, день, когда она снова заступит, и ждал этого дня, как свидание. Но ловил себя на мысли, что не видел толком лица Марины, и этим интрига только усиливалась, я интуитивно чувствовал в ней сюрприз. Ух, Дженнифер Лопес!
Еще польза от поездок домой была в поддерживаемой чистоте и опрятности. В палате можно было побриться худо-бедно, а вот душ… на всю пятиэтажную больницу на втором этаже только почему-то, да и то, такой душ – туберкулез подмолаживать. Холодно и сквозняк из всех щелей. И кроме выходных, пришлось добавить поездки домой среди недели. Благо Нальчик небольшой городок и из одного конца в другой можно доехать на троллейбусе за полчаса.
Я приезжал домой после полудня, принимал душ и дожидался маму с работы. Она была вынуждена устроиться нянькой, чтоб как-то прокормить меня, что на одну пенсию не представлялось возможным, не считая всего прочего, и возвращалась к пяти – шести часам вечера.
– Ты должен хорошо питаться, – говорила мама и подкладывала добавку. – Что врачи говорят? Побольше белковой пищи. Может творог купить? Будешь творог кушать?
– Буду, – соглашался я. – Иногда.
– Да, иногда, часто и не получится. Творог подорожал, – и она призадумывалась с половником в руках.
Посидев дома еще немного, я возвращался в больницу под вечер.
Как-то раз, в один из таких вечеров, я встретил Володю и Нырова Юрчика. Они были поддатые и что-то шумно обсуждали между собой. Увидев меня, они обрадовались и весело завалились в палату. Я начал переодеваться с дороги, а они наперебой пытались что-то рассказать. Глядя на чистый, прибранный стол, я подумал: «Бухали у Юрчика».
Юрчик как будто сильнее хотел рассказать новости и тараторил беспрерывно. Володя, хорошо подпитый, смотрел в пол и временами перебивал Юрчика, тот махал на него рукой.
– Приколись, Тенгиз, гы-гы-гы! – смеялся Юрчик в нос и продолжал тараторить.
– Юрчик, купи пиво, – вдруг заявил Володя.
– Пошел на х…й! – ответил задорно Юрчик.
Володя довольно долго удивлено смотрел на обидчика. Стало казаться – он пропустил это мимо ушей, потому как мимику его лица хмель поменял несколько раз. Но не тут то было…
Володя встал, подошел к Юрчику, поднял за грудки и начал трясти. – Ты кому это сказал? Кому сказал?
Ныров Юрчик был мал ростом, поджар, похож на мексиканца, разница в весе с Володей составляла, примерно, двадцать килограммов. Володя, держа его одной рукой, стал наносить удары, но, будучи пьяным, не мог попасть. Юрчик так увлекся, что продолжал выплевывать слова и улыбаться, пока первые кулаки пролетали мимо. Только когда голова сотряслась от удара, угодившего в нос, он понял, что происходит и начал давать сдачи.
Они неуклюже дрались, задевая стол, стулья, падая на койки. Могло показаться, что пьяные приятели, кружась в объятьях, разучивают танец.
Я подскочил разнимать их. В голове промелькнуло: «Почему я притягиваю таких типов? Зачем мне этот спектакль?»
Вдруг дверь палаты открылась, на пороге появились две медсестры и уборщица. Первая была Жанна, горластая, стала кричать:
– Хаев!.. Ныров!.. Хаев, отойди от него! Ныров, выходи сюда! – Она решительно прошла в палату, будто хотела помочь разнимать, но, заметив кровь по стенке и на полу, сдала назад и завопила еще сильнее. – Ныров! – выругала его по-кабардински, на предмет того, что он позорит тетю (старшую медсестру). А Володе пригрозила, что все расскажет матери при встрече (они были с одного района). И пообещав скорейшую выписку обоим, перебросившись с подругами парой фраз в полтона, начала смеяться. – Ныров! Он тебя прибьет! Мыдэ къакIуэ! (Иди сюда!) Хаев! – опять сделала строгое лицо. – Отцепись от него! Замохов, кхъыIэ (пожалуйста), разними их! – бойко и весело командовала Жанна и её звонкий голос резонировал по коридору.
Помаленьку запал прошел и я смог растащить драчунов. Володю усадил на койку, а Нырова увели медсестры. Володя тяжело дышал и что-то искал глазами, пока я читал ему нравоучение. Появился Ныров, не прошло и пяти минут, на умытом лице красовались еще не успевшие налиться синяки. Он держался бодро и даже бравировал. Я отослал его спать, от греха… По коридору, обозначая присутствие, курсировали медсестры.
Утром я продолжил начатое вчера нравоучение, уже серьезней. Хмель из Володи вышел и он должен был понимать, хотя, черт его знает, что понимают такие люди? Лекция была на тему: «Неприемлемость хулиганских поступков в больнице». Володя виновато смотрел и оправдывался.
– Я бы не начал, если бы он не послал меня.
– Нечего пить с всякими… Если ты допускаешь садиться за стол в такой компании, то должен знать. Сам виноват.
– А ты бы как поступил?
– Я бы не попал в такую ситуацию.
Володя не понимал фантастичности рассуждений – как можно отказаться от выпивки на халяву? Но ответить не мог и просто посулил, что впредь такого не повторится.
Я пошел на прогулку.
Хорошо, Юрчик был человек не гнилой, да и слабости имел те же, поэтому сделал вид, будто ничего не произошло. Жанна оказалась хорошей женщиной. Короче говоря, инцидент (драка пьяных туберкулезников) не имел последствий, попросту замялся.
5
Вышел на территорию больницы. Солнце укрылось густой периной облачности. Стояла морозная погода, хорошо дышалось. Лежал свежий снег. Нога скрывалась в снегу по щиколотку, и на носке обуви вырастал белый наконечник. Я направился в сосновую рощу – полтора гектара высаженного леса. Сосны, ели, туи росли так густо, что снег не попадал под них, нога ступала на мягкий настил из хвои, осыпавшейся в течение многих лет. Обилие шишек украшало этот ковер. Белки прятали в хвойном ковре орехи, вороны воровали припасы белок.
Если не смотреть в сторону корпуса и не видеть бетонный забор, можно легко представить себя в тайге, далеко от цивилизации. Я так увлекался прогулкой порой, что только светящийся экран зазвонившего вдруг мобильника возвращал в город.
Прогулка по утрам была многолетней привычкой еще с лагеря, и состояла из дыхательных упражнений и гимнастического комплекса. Комплекс упражнений был взят и адаптирован из массы восточной литературы и позволял тренировать суставы, связки и мышцы. Это были упражнения на гибкость и растяжку, статические, которые можно выполнять даже в камере штрафного изолятора. Регулярность и целеустремленность, с которой я занимался, позволяла в течение десяти лет не загнуться от туберкулеза на голом энтузиазме.
После прогулки я приходил на процедуры, состоявшие из уколов и получения таблеток. В процедурный кабинет почти всегда стояла очередь, именно стояла, потому что кушетки или стулья предусмотрены не были. И больные стояли по стеночке вдоль подоконника, как грустные манекены. Лишь какой-то тубический аристократ сидел на вынесенном из палаты табурете.
Я, дождавшись своей очереди, заходил в процедурный кабинет.
– Здравствуй, Света!
– А, здравствуй, проходи. Напомни мне, что ты колешь?
– Канамицин, изониазид внутримышечно.
– Так, хорошо, – и она начинала готовить уколы.
Света любила свою работу и всегда внимательно подходила к каждому пациенту. Она была тем ангелом, который, как луч света в темном царстве. Рука у неё была легкая и колола безболезненно. Нагрубить, обидеть Свету было невозможно даже для больших хамов, это было бы кощунство последней степени.
В коридоре я подошел к группе молодых монотонно беседовавших людей. Аристократ на табурете нехотя интересовался последними новостями, и лениво разглядывал контингент.
Это был его преподобие Пажаров Альберт, позднее нареченный мной Альбой, с кучей прилагательных эпитетов. Бывавший в передрягах, о которых многие не имеют и малейшего представления. Взлетавший на большие высоты к херувимам и падавший в преисподнюю к чертям. А такие нагрузки, как известно, не проходят бесследно, и вот его, в очередной раз, прибило в родную больницу. На этот раз, видимо, на капремонт.
– Заходи, я тут по соседству… в 411 палате. Вчера положили, – сказал Альба, после нашего пятиминутного знакомства и зашел в процедурный кабинет.
Вдруг по коридору раздался грохот – тележка с медикаментами выехала с поста. Её катила перед собой Марина, как проводница по вагону, заглядывая в каждое купе, предлагая таблетки.
Ага, – подумал я, – сегодня её смена, попробую наладить контакт – познакомлюсь. И крутился в коридоре, пока Марина не подъехала к нашей палате.
– 14-ая палата! – прозвучал её голосок. – Таблетки!
Я подошел к тележке. Марина раскрыла папку.
– Как фамилия?
– Замохов.
– Так, Замохов, – повела пальцем по листу назначения, выдала горсть таблеток. – Это в обед, это на вечер.
Я отошел, рассматривая таблетки на ладони.
Кроме формальностей, разговор завязать не удалось. Марина очень ответственно относилась к раздаче медикаментов и как будто учила стихотворение. Бывало, протянет руку с таблетками и вдруг одернет, потом что-то проговорит про себя и снова протянет, уже уверено. Я покрутился еще в коридоре, понаблюдал за ней и зашел в палату.
Володя тоже зашел в палату с таблетками в руках.
– Что, не завязался разговор с Мариночкой? – спросил он, загадочно улыбаясь.
– Нет. Даже не знаю, с чего начать? Какая-то она дикая, что ли? Не пойму… глаза красивые – живые угольки.
– На мордашку она тоже ничего! – заключил Володя со знанием дела.
– Ладно, дальше – больше, попытаю счастье! Ух, Дженнифер!..
Я еще раз выглянул в коридор, перед моим взором предстала картина – Маруся (так я решил называть Марину) катит тележку, играя шикарными бедрами.
Когда первый раз увидел её лицо, меня как будто поразило молнией и заныло в душе от тоски. Ночью приснился сон: Маруся в белой тунике с распущенными волосами, колышущимися на легком ветру.
При виде Маруси я трепетал, лицо расплывалось в сладострастной улыбке, и было бы интересно поглядеть на себя со стороны. Я понимал, что это непроизвольная реакция. Но что вызывало такую реакцию?
Приводил себя в состояние полнейшего покоя, но стоило подойти к Марусе, как я впадал в оцепенение. Сильная волна вихрем поднималась к грудной клетке и начинала метаться внутри. Какая-то высокочастотная вибрация резонировала во мне.
Маруся была настолько сексуальна, что я не мог находиться возле неё равнодушно. Приходилось уходить, потому что дальше становилось невыносимо. Это непостижимое чувство, когда в человеке нравиться все: внешность, походка, голос… И насколько это очевидно, настолько же очевидно, что она не разделяет твоих чувств и просто тебя не понимает, как птица, зажатая в руках.
Но я питал надежды, что ветер переменится, и будут еще теплые дни.
А между тем Володя познакомил меня с Николаем из города Майский. Они подружились как собутыльники и коротали скучные зимние вечера за разведенным спиртом и пивком. Спирт водился у Николая, он привозил его из дома.
Как-то раз, солнечным февральским днем, ко мне заглянул Николай.
– Что лежишь? – спросил он, украдкой озираясь. – А где Вовчик?
– Не знаю, гуляет где-то, – ответил я, не поднимаясь с постели.
– Пойдем, выпьем, – показал Николай жест алкоголиков.
– Нет, Коля, я не пью. Лечусь. Да и горло болит.
– Я тоже лечусь… чистый спирт, сам разбавлял. Пойдем, пойдем, хватит валяться, – он размахивал руками, помогая мне подняться. – По пятьдесят грамм… горло сразу пройдет.
Мы пошли. Только Николай повел меня не в свою палату, а на женскую половину, по ходу приговаривая:
– Мы у моей сидим, пойдем.
– У кого? – не сразу понял я.
– У моей… ну… жены, – невнятно прожевал он слова.
– Ты не говорил, что у тебя жена здесь лежит.
– Проходи на балкон, мы там… – провел меня через пустую женскую палату.
– А где все? – спросил я, показывая на четыре прибранные койки.
– Кто – где, разъехались, не знаю.
Мы вышли на балкон, объединявший две палаты. На нём могло легко разместиться до дюжины персон за большим столом. Эти балконы использовались больными, особенно летом, как веранды. Вид на лесопосадку придавал живописность застолью. И не пугал февраль, согретый спиртом.
Мы уселись за стол, на котором были недопитые напитки, куриные объедки. Я брезгливо посмотрел на этот натюрморт.
Николай налил разбавленный спирт в новый одноразовый стаканчик и передал мне.
– Ну, давай… Будем здоровы!
Мы беззвучно чокнулись.
Я залпом выпил спирт. Горло и внутренности обожгло.
– Хорошо разводишь, пробирает.
Николай сделал гримасу, мол – обижаешь.
Вдруг на балкон вышли две подгулявшие женщины. Одна была в розовом теплом спортивном костюме (по больничному), она сразу плюхнулась за стол. – Коля, а где ты был? – спросила с пьяной бескомпромиссностью.
– Курил. Вот, познакомься, – показал он на меня, – это Тенгиз.
– Ася, – протянула она и расплылась в затяжной, захмелевшей улыбке. – А это моя подруга Настя, – показала на молодую русую девушку, очень худую, с бешеными, как под опийным допингом, глазами.
– Давай еще по одной, – предложил Николай.
Я отказался и он сам, опрокинув через край, занюхал сигаретой и со словами: «Я сейчас», – куда-то ушел.
Ася и Настя начали кого-то оживлено ругать и обмениваться пьяными впечатлениями.
Неожиданно, подытожив словами: «Да пошел он!..» – Ася села мне на коленки. – Можно, я посижу у тебя? – спросила она, при этом сделала умиленную улыбку высшего удовольствия.
У неё были черные вороние глазки, смоляные волосы, как у кореянки, и зубы с золотыми фиксами. Она дышала перегаром паленой водки и пережаренной курицы. Ей было под сорок и морщинки, уже не стесняясь, занимали свои места на смуглой коже.
Ася сидела у меня на колене и продолжала беседу с Настей. Та пританцовывала под музыку мобильного телефона. Временами Ася отвлекалась на меня и ёрзала на колене ягодицами, пытаясь послать какую-то информацию.
– А почему ты к нам раньше не заходил? – спросила она с пьяной обидой. – Ты такой хороший парень.
Я почувствовал себя мебелью и подумал, что это лучше, чем что-то большее; и еще: «Какой странный тип этот Николай. Привел меня, как он сказал, к „своей“, и не успел выйти, она плюхнулась на колени к первому встречному».
Выдержав паузу, чтоб не выглядеть мальчиком, испугавшимся взрослой тети, и подождав пока не устало колено, чтоб знать резерв выносливости в режиме легкого стресса, я согнал Асю, и поблагодарил за гостеприимство. Воспользовавшись замешательством, вызванным возвращением Николая и внезапным спором – куда поставили спирт? Я удалился к себе.
В палате в вечерних сумерках сидел скучающий Володя. Я включил свет и прилег.
– Ты где был? – поинтересовался он.
– Тут, в гостях… – я рассказал про застолье.
У него загорелись глаза.
– Что пили?
– Спирт, – ответил я и откинулся на подушку.
Володя потерял интерес, видимо, спирт ему надоел. Сказал, что был у Гули в первой палате.
Он недавно свел с ней знакомство и захаживал на чай. Я поощрял это культурное времяпровождение, от общения с Гулей он меньше пил и становился немного лучше.
6
О Гуле поговорим позже, а сейчас расскажу о том, как Володя исчез из больницы. Он, как оказалось, был знаком с Альбой, между ними была неприятная история, когда год назад они лежали в терапии. Я заметил, что они не здороваются между собой.
Как-то раз Альба предложил мне потерцить (карточная игра), я отказался, предложив вместо себя Володю. Но Альба противно поморщился, залился хроническим кашлем и смачно сплюнул мокроту в плевательницу. Правда, потом, через несколько дней, я застал их за этим занятием.
Так вот, вернувшись в больницу утром в понедельник, я встретил толстозадую Ларису – вредную медсестру, которая пробубнила недовольно, что пока я отсутствую, происходят ужасные вещи и чуть ли не я в этом виноват. Я остановился, не понимая, и спросил:
– Что случилось?
– А то ты не знаешь, – ответила раздражено через плечо эта муза Рубенса и удалилась, поскрипывая босоножками.
В палате никого не было, Володя где-то пропадал. Постель, несмотря на ранний час, была заправлена.
Я зашел к Альбе. Он курил на балконе.
– Чё случилось? – спросил я.
Альба посмотрел на меня щурясь, пытаясь понять – не глумлюсь ли я над ним? Перемялся с ноги на ногу, поменял стойку и нехотя процедил:
– Вова, гандо… на меня кинулся.
– Как кинулся? – удивился я.
– Так… Сначала у вас в палате, потом у меня. Лариса на шум прибежала, кое-как его от меня оторвали. Здоровый гандо… Ножницы схватил. Знаешь, ножницы у меня возле зеркала висели?
– Ну, ну…
– Чуть ножницами меня не пырнул, пидер… ст.
– Бухой был?
– Да, бухой. Х…й его знает, с кем он бухал?
– А что это вдруг он на тебя кинулся? Ни с того ни с сего, что ли?
– Старое, видимо, вспомнил.
– Что старое? – не понимал я.
– Год назад мы лежали вместе.
– И чё?
– Побили его слегка.
– За что?
Видно было, Альба не хотел вспоминать, но раз уж начал, надо было договаривать.
– Залез в нычку без спроса, лекарство водой разбавил.
– Чьё лекарство?
– Наше: Кента, моё и еще там одного…
– Ничего не взял, а просто водой разбавил?
– Да.
– Вредительство какое-то? Зачем он это сделал? – пытался я понять мотив поступка. – Он что-то объяснял?
– Ничего не объяснял. Просто, когда приперли, сознался, что он и все.
– И что дальше?
– Получил за это. Еще мягко подошли, Кент – либерал. А сейчас по пьяни припомнил.
– Уже месяц как ты лежишь, – сказал я. – Если Вова посчитал, что неправильно к нему подошли тогда, времени было уйма трезвому разговор поднять. Да и вообще, такие рамсы сразу, по горячему, раскидываются. Если правым себя считаешь, зачем год ждать?
Я искал хоть одну причину, оправдывающую поступок Володи, но не находил.
– Гадский поступок, – подвел я итог.
Альба со мной охотно согласился, даже ободрился, найдя понимание в моем лице.
«Надо послушать Володю, – подумал я. – В таких случаях у каждого своя правда».
Я нашел Володю с утра похмелившимся. От него разило перегаром трехдневной попойки. Он был либо алкоголиком и наше знакомство пришлось на период кратковременной завязки, либо понимал, что пока не протрезвеет, серьезный разговор не получится, а без предварительного разговора в больнице не побьют. И заливал глаза, пока была возможность.
– Что тут случилось? – спросил я у него без лишних церемоний.
– Что? – сделал он тупое, непонимающее лицо.
– Как что? Что у вас с Альбой получилось? Не успел я подняться на этаж, Лариса сказала: «Иди, узнаешь». Что я узнаю?
– А-а, я отомстил этому ху… плету! – похихикал Володя и осекся. – А чё, нельзя? Неправильно?
– Конечно, неправильно.
– Почему неправильно? – он попытался рассказать историю, которую я уже слышал.
– Ты лучше ответь на вопросы? – прервал я его.
И задал несколько вопросов. Ответа на вопрос – зачем он разбавил чужое лекарство? – не было даже год спустя.
Володя начал волноваться, видя, что даже приятель (то есть я) осуждает его. Стал говорить, какой Альба негодяй и интриган, и что он практически защищал свою честь.
– А ты бы как поступил? – задал он вопрос последней надежды.
– Я бы не лазил по нычкам, как крыса. Не разбавлял бы лекарства – не гадил бы. И убил бы базар на месте. А не ходил бы поджав хвост целый год, а потом, по буху, кинулся на человека.
– И что мне теперь делать? – челюсть у него отвисла.
– Не знаю, ты уже наломал дров. Но если это сработает?.. По-человечески подойди к Альбе и попроси прощения.
Володя подумал и вышел.
Позже в палату зашли Хус и Володя, с Хусом был молодой крепкий пацан.
Хус был смотрящим в больнице, смотрел за порядком, так как добрая половина больных были сидевшие. Выписка уже поджидала его, но пока позволяла слоняться по отделениям. Хус спокойно выслушал Володю. Молодой пацан – Муха, порывался настучать Володе по башке. Хус спросил:
– К пяти вечера ты протрезвеешь?
– Да, – ответил Володя.
– Тогда и поговорим, – подытожил Хус и они ушли.
Володя подсел ко мне.
– Я подошел к Альбе. Сказал, что только из уважения к тебе прошу у него прощения, что был неправ.
– И что он ответил?
– Ничего. Промолчал.
– Понятно. Значит, он не принял твои извинения.
Я пошел по больнице, хотел послушать мнение мужиков по этому поводу. И когда вернулся в палату, след Володи простыл. Он подмотал вещи и уехал.
Вечером, прознав о бегстве, все негодовали по-разному. Альба сказал, что найдет обидчика и помочиться на него.
– Я знаю, где его искать, – кривил он лицо от злобы. – Поймаю!..
На этом все и улеглось.
7
Между тем вместо сбежавшего Володи поселился Кала – Калабаев Абу. А до него неделю пролежал разлагающийся от цирроза печени тяжелобольной. Трупный запах наполнял палату и я не ночевал в больнице. Потом родные забрали его умирать домой. Я был сильно озадачен новым, внезапным сопалатником и вспоминал Володю крепко… Тяжелобольной жалобно смотрел, ища сочувствия и помощи, лишь на мать покрикивал, которая присутствовала, как сиделка. Она приноровилась засыпать на моей койке, и была за это благодарна.
В эти же дни на место выписанного амбулаторного Бориса положили деда по имени Виктор. Короче говоря, состав палаты поменялся: дед, Кала и я.
Деду было пятьдесят девять лет, он был из-под города Прохладного.
– Моя хозяйка померла, – говорил он. – И я захирел.
– Крепись, дед, – подбадривал я его. – Мы тебя еще женим. Какие твои годы?
На что Виктор вздыхал и продолжал сидеть, сгорбатившись, как юродивый с картины Сурикова «Боярыня Морозова». Он был русским мужичком, и только крючковатый нос выдавал в нем примесь кумыкской крови.
Тогда я рассказал ему такую историю…
Идёт этап, гонят с «Матросской тишины». Пункт назначения неизвестен, конвой молчит. Везут на Павелецкий вокзал.
– Курд, на юга повезут. Как думаешь, куда попадём? – спросил я, хотя, сам понимаю – кто может знать?
– В Сочи не повезут, не переживай, – отвечает Курд, посмеиваясь.
Разгрузили, построили по парам, сковали наручниками, приказали:
– Сидеть! Голову не поднимать!
Сидим на корточках между составами, как в затененной ложбине, на промасленных шпалах. Вокруг конвоиры в бронежилетах с автоматами, с собакой. Восточно-европейская овчарка, злая, пена изо рта течёт, порвала бы, попадись ей.
Кинолог дёргает за поводок. – Фу, фу!.. – Собака тут же замолкает, начинает вилять хвостом, смотрит на хозяина, прижав уши, успокаивается, садится и дышит, вывалив язык из пасти. Малейшая провокация, вскакивает и начинает рвать воздух в клочья.
– Так, внимание! – кричит начальник конвоя.
Подводят к строю, сидящему на корточках, двух малолеток, девочек. Девчат не сажают.
– Пусть стоят, ху… с ними, – распоряжается начальник конвоя.
Собака полаяла, позлилась, успокоилась. Пересчёт.
– Так, все?
– Шестнадцать и две. Восемнадцать.
– Все, – подвёл итог главный конвоир, о чём-то подумал, что-то припомнил. – Та-ак, встали! По моей команде… Пошли!
Строй пошел. Шли колонной меж путей к столыпинскому вагону. Скованные наручниками парами. Несколько раз останавливались из-за немощных – хоть штаны подтянуть. Одной рукой пристегнут к паре, в другой баул, не перехватить; тянешь его, ногой помогая, штаны на высохшем теле сползают. Сзади девочки малолетки, неудобно. Курд причитает:
– Не дергай, бичё… И так ели иду.
Конвоиры заорали.
– Давай быстрей! Шевелись! Что там?!
– Да тут старенький… – объясняет конец колонны в голову.
– Ладно, минута передых.
Собака кидается на бедолагу, если бы не поводок разорвала бы, бестия.
«Что же ты злая такая? – думаю. – Пристрастие или работа? По команде – монстр клыкастый или пёсик пушистый».
Чем профессиональнее кинолог, тем послушнее собака. Если конвой спокоен, зэк неопасный, собака просто присутствует, а если конвой нервничает, является монстр, рвёт и мечет.
Добрались, передают конвою столыпина. Перегрузили, процедура прошла. Девчат в тройник, нас, всех шестнадцать в одно купе.
Меня предпоследним заводили, Курд за мной.
Вижу, ступить некуда, битком… на полу баулы, ногу не поставить. Принимающий орёт:
– Заходи! Заходи скорее!
– Куда, начальник? Не видишь, ногу некуда поставить? Мужики, раскидайте сидора.
Вдруг удар по затылку. Падаю внутрь вместе с баулом. На меня падает Курд. Решка с матом закрывается.
– Чё ты морозишь? Конвой провоцируешь, – недовольно бубнит Курд, пытаясь распутать руки, ноги и приземлиться.
Я тру затылок. По любимой шишке попало. Почему вечно по любимой шишке попадает?
– Курд, чем ты недоволен? Говорю же, ступить некуда!
– Да вижу…
– Ну а чё тогда?! – досадую я. – Мужики, вы тоже… видите, набивают, сидора покидали бы на третий ярус.
Молчат, смотрят и молчат.
«Ну, их! – думаю. – Что с них взять?»
Тронулись, катимся, стало посвежее. А то, июль месяц, жара под тридцать. Недаром бывалые каторжане говорят – по этапу летом лучше не ходить.
Перевели дух, успокоились, полезли по сидорам, чай подаставали.
– Эх, кипяток бы… Ништяк было бы, – проговорил кто-то.
– Попросим, может дадут?
Начались дискуссии, кто должен попросить и у кого из конвоиров. Какой-то неразочаровавшийся начал объяснять:
– Сейчас закон поменялся, кипяток должны носить три раза в сутки. Когда солдатики конвоировали, они не должны были, но кипяток и чай давали. Можно было договориться за деньги и на запрет. Вообще, они сговорчивее были. Им маклю какую подгонишь, они и рады. А эти, вольнонаёмные, контрактники, злые, как собаки, хотя им зарплату платят. Те-то по службе страдали, а эти деньги зарабатывают.
Проходил дежурный.
Неразочаровавшийся, Слава по имени, худой, весь синий, с добрыми голубыми глазами, похож чем-то на Кононова, начал приласкивать:
– Начальник, можно вопросик? Кипяток бы организовать, чаю попить.
– Что?! Какой чай на ху…?! Совсем оборзели кашлюны! Сидите тихо!
– Ну начальник… положено ведь, – поддержал Кононова Горбачев.
– Молчите черти, а то окно закрою! – прокричал дежурный и пошёл дальше, громыхать сапогами по проходу.
Слава просветил взгляд терпением и говорит:
– Злые, не повезло нам.
– А мы чай сушняком будем, – не упал духом Горбачев. – Всегда раньше, по козлячему конвою, сушняком бодрились.
– Как это, сушняком?.. – удивился я.
– Как? Да так. Жуй чай и глотай. Сам поймёшь, – пояснил Горбачев.
– Горбачев знает… Да, Горбачев? – выдохнул безысходно Курд и насыпал заварку чая в ладонь, отобрал брёвна и засыпал в рот.
– Чё за погоняло, Горбачев? Или это фамилия? – поинтересовался я.
Но Горбачев молчал, жевал сушняком чай и молчал.
– Чё ты молчишь? Почему тебя Горбачевым погоняют?
Он поднял голову, убрал чёлку со лба.
– Вот почему…
Я присмотрелся сквозь полумрак. На лбу у него кривым шрифтом было набито «Горбачев», длинная чёлка скрывала это. Причем «Горбач» было набито более-менее ровным шрифтом, а последние две буквы «ев», как при недостатке места в строке, поползли вниз.
– Что, зачем, почему?.. – с трудом сдерживая смех, спросил я.
– Зачем, зачем?.. – недовольно заёрзал Горбачев, сбросив чёлку на лоб, прикрыв лозунг. – А за тем! В 1987 году амнистия была большая, Горбачевская, помнишь?
– Ну и чё?
– А то, что многих коснулось. Я хороший срок оставил. Фартонуло. Тогда и наколол.
Я не знал, как реагировать: «Хоть необиженный, и то хорошо».
Чай сушняком действительно бодрил, спать не хотелось.
Духота текла по телам, квасила нас, как капусту. Сало плавилось, селедка резала запахом.
Шмонать нас не стали, не захотели мараться об тубиков. Просто раскидали по назначению, двенадцать человек в купе, сколько положено, не больше. И мы решили, что едим в одну «командировку». Начали думать, как разузнать у конвоя место назначения: «Средняя полоса России. Если больше двух суток везти будут? И два раза долго стоять? С нами две малолетки едут. А где ближайшая женская малолетка? В Новом Осколе. Ага, понятно. Значит и мы: либо в Белгород, либо в Липецк, либо в Ростов… Может в Воронеж?»
Кто-то подметил:
– Конвой Волгоградский, не дай Бог.
Подозвали дежурного.
– Гражданин начальник, куртка кожаная хорошая есть, очки фирменные… Куда едем, военная тайна что ли? Один черт, догадались уже, – и перечислили нашу догадку.
Дежурный помялся, посмотрел по сторонам.
– Воронеж.
– Уф-ф… – выдохнуло всё купе. – Хорошо не Волгоград. Уф-ф… Воронеж, – перекрестились некоторые.
Курд начал блатовать.
– Воронеж, мака много. Срок пролетит… – и замечтался.
– Курд, а курд, какой у тебя срок? – поинтересовался я.
– Восемь лет.
– За что?
– Разбой.
– А у тебя какой?
– Одиннадцать лет.
– За что?
– Тоже разбой.
– А почему так много дали? Ведь молодой пацан. Труп?
– Нет.
– А что, эпизодов много?
– Да, четыре.
– Понятно… Бандитизм не вменили?
– Вменили.
– А-а… Бандитизм вменили… – удивился он и понимающе покачал головой. – Какая часть?
– Вторая.
– Понятно, – закивал он. – Какой суд судил, братишка?
– Мосгор. А тебя какой?
– Меня Кузьминский судил, – сказал Курд и выругался… Призадумался и начал рассказывать, как дело было, как попал. – Когда в отделе сидел, так меня били, так били… Я не выдержал и кричу: «Не бей, дядя, ничего не знаю!»
Коротая время за разговорами, приехали в Воронеж. Вымотались ужасно, седьмой пот сошёл с нас. Стояли по десять часов на июльском солнцепёке. Столыпинский вагон, отцепляя, не загоняли в тень, а бросали где попало на перегоне.
– Может, под мостом пристанем, чтоб не так жарко, – смотрел Горбачев в оконную щель. – Ну, стой, вот здесь, здесь… проехали, будем загорать.
В смену заступил контролер – шизофреник и садист. Он говорил тихо и по уставу. Садился напротив малолеток и будто бы читал про себя книгу, а сам подслушивал девчачью болтовню.
За то, что мы разговаривали и якобы мешали читать, он закрывал все окна, не оставлял ни щелочки, задраивал, как подводную лодку. И мы томились, как в парилке, в которой было три яруса.
Я сидел внизу и представлял, что творится на верхних полках, где лежали мужики, как шпроты в банке. С них так текло, что через щели в перекрытиях собирались и капали огромные маслянисто-янтарные капли пота. Я наблюдал за каплями и пытался занять такое положение, чтоб не попадать под них.
Этого уставного прохвоста сменял буйный придурок, который ударил меня по затылку. Он ходил по вагону голым торсом и понтовался перед малолетками, гнал жути на изможденных тубиков и покрывал трехэтажным матом.
Я вшей подцепил. Чешутся внутренние поверхности бёдер и пах. Не пойму, в чём дело? Грешил на жару, духоту. Понял, когда жирную вшу поймал. Белая, как отбившаяся от стада овца на склоне холма, ползла по складке моих брюк. За два с половиной года в Бутырке и на Матроске не ловил вшей.
– Раздави ногтями, – посоветовал бывалый каторжанин, – они трещат, как семечки.
Короче говоря, серьезную прожарку прошли мы за трое этапных суток. Но выжили, и мы и вши.
Прибыли в межобластную туберкулёзную больницу в городе Воронеже, зэки её «шестёрка» называют, потому что с шести областей в больницу свозят. Как брикет сыра с дырочками, облепленный муравьями. Побелка облупилась, стал проглядываться патриотический лозунг, как маркировка, говорившая о том, что брикет сыра когда-то давно подавался под иным соусом.
Боцман Юра за положение в больнице отвечал. Человек старой закалки. В общении простой, без манички, поможет в любом вопросе. По поступкам к людям подходил, бедолаг не отталкивал. Болезни не поддавался, крепился, нервы лечил опиумом.
Боцман во мне непотерянное людское достоинство увидел и пошел на откровенный разговор. Получилось так.
Как-то в конце августа, после тёплого дождичка, вышел я в прогулочный дворик. Никого нет, вечерняя проверка только прошла. Сумерки спустились в бетонную коробку, таинственно расселись по углам, прячась от большой «кобры», бросающей обруч света под ноги.
Прогуливаюсь. Слышу, музыка заиграла, тоскливо запел Иван Кучин. Шаги выбивают из арматурной лестницы гул. Гляжу, спускается Боцман. Подходит ко мне. Здороваемся.
Боцман поинтересовался, что да как? Несколько пробросов по жизни сделал. Я ответил… короче, тест прошёл. Поговорили ещё по душам, потом присели на краю дворика, закурили… Боцман обвёл взглядом больницу и говорит:
– Тут людей со всей больницы человек тридцать, может, наберётся. Остальных в топку кидать можно, не ошибёшься. Если человека встретишь в управлении, поймёшь. Их сразу видно, они здесь наперечёт, – показал он пятерню. – Пацан, смотри, срок у тебя большой, ты здесь такого насмотришься. Основная масса хвостатая. Они хвостами сплелись… им легче тебя в грязь втоптать, чем постоянно знать, что ты лучше их.
Я слова Боцмана запомнил.
У кого-то поинтересовался, сколько народу в больнице? Переполнено, больше пяти сотен.
Пробыл я меньше месяца.
Когда в зону заказали, Боцман со мной почту серьёзную отправил. Сказал: «Бураме передашь. Смотри, не Бедному, а Бураме. Понял?»
Я понял и сделал, как он сказал.
Кроме Боцмана в больнице были: Серёга Щербак и дед Пионер. Был ещё Заза, которого в Россоши поломать не смогли.
Приехал я в Кривоборье, посёлок в сорока километрах от Воронежа по московской трассе. Излучина Дона, курортное место. Воздух не хуже кисловодского.
Карантин, неделя стационар, потом в девятый отряд поднялся.
Отряд переполнен, кормят плохо, можно сказать, вообще не кормят. Утром сечка, в обед суп из сечки, вечером уха из сечки. Уха – рыбьи хвосты и головы в бульоне (спинки кому-то, кто поблатнее доставались), ни картошки, ничего, пусто. Перловка пустая, грязный овёс, хлеб сырой – спецвыпечка. Короче, пищеблок оптимизма не вызывает.
Зато режима нет. Хозяин простой понимающий мужик, чего не может дать, говорит прямо. Но и многого не требует, лишь бы ЧП в учреждении не было, а там, Бог всем судья.
Начал я адаптироваться к лагерной жизни, в коллектив вписался нормально, прижился. Не без трения, конечно, нужно было порамсить, показать зубы, как в любом общежитии.
Время потекло. Сроку у меня было еще…
– Сколько привёз? – подходили мужики.
– Восемь, даже восемь с половиной.
Качали головой, отходили.
Вообще, время там имеет другой счёт. Если прировнять по событиям, то можно сопоставить как месяц к году. В тюрьме год прошёл, а вспомнить нечего, всё одно и то же: Новый год, Рождество, дата освобождения, Крещение, день рождения, Пасха. Потом: Науруз-байрам, Ураза, Курбан-байрам, всё, все праздники. Ещё письмо из дома, посылка или передача. На свободе за месяц больше событий происходит, чем там за год. Поэтому считают: «Зима, лето – год долой, восемь пасок и домой».
Богата лагерная жизнь фольклором. Тут уж российская душа вся нараспашку, без цензуры, так сказать, и поэтому правдивая. Все условия для творчества имеются: времени уйма, голод для художника важен – присутствует. Лишения, страдания – через край.
Как-то молодой козлёнок, вернувшись с вахты с обещанием досрочного освобождения, напел такую песню кричалочку:
Жизнь у нас полегче адской, это только на «Двадцатке»,
Хочешь умереть со скуки, приезжайте в «Семилуки»,
Если хочешь хапнуть горе, приезжайте в «Кривоборье»,
Козьих рог увидеть блеск, это к нам в «Борисоглебск»,
Если духом не упал, в «Перелёшино» попал,
Коль смиренья не достиг, только в «Россоши» притих.
Приехал из больницы дед Пионер, Борис Борисыч. Поднялся в отряд, шконка (нара) его родная дожидалась. В отряде праздник, Пионер приехал!
Принесли сидорок, в проход поставили. А деда всё нет. Вышел я в локалку, смотрю – канает с бадиком (тростью) через плац к калитке, мелко семенит. Вокруг него свита из бродяжни, сопровождают.
Зашли в барак, в первую секцию. Народу собралось… Поставили чифир, купец. Достали сладости, конфеты. Что было – всё на стол, надо встретить старого каторжанина. Кто-то подходит, обнимает Пионера, протягивает сигареты с «каблучком», шоколадку. Зажигалок надарили, чая всяко-разного – оказали внимание старику.
Расселись, принялись пить чай…
– Ну что, дед, какие новости? – спрашивает кто-то.
И дед начинает рассказывать… говорит с каждым его языком. С Бедным о серьёзном по строгому, с Буромой по очень строгому. С пацанами по-пацански… Кого-то ругает, кроет последними словами, кого-то хвалит, радуется, смеётся.
Потом принимается выслушивать лагерные новости. Делает серьёзный вид, слушает внимательно, хотя всё и так знает, в больнице новости из Кривоборья никуда не деваются.
Когда арестанты расходятся по отрядам, остаются свои, дед проявляет интерес, что у нас происходит.
– А отрядник что? – спрашивает братву. – А завхоз?.. Настя котят принесла? Хорошо! И сколько? Пять! Ух-ты! А у кого под шконкой окотилась?
Интересует деда всё. Сколько голубей вывелось на крыше барака. Кто из людей появился в зоне. Кто из «шерсти» прибавился. Кто улетел, кто двинул. Надо же все знать.
Утомляется дед ближе к полуночи, раскладывается.
– Пора спать. Гасите свет. Если что интересное – будите, а так, не кантовать, – и мирно засыпает.
Молодёжь в другой секции дурачится допоздна. Бывает, в кухне засядут и травят байки. Кого там только нет. «Кто был в тюрьме, тот в цирке не смеётся».
Пионер, Борис Борисыч, ростовский прошляк, годов ему больше семидесяти. Отмечали, чифирили, по-моему, семьдесят пять, короче, тысяча девятьсот двадцать четвёртого года рождения. Из них больше пятидесяти лет лагерных. Карман, «Калина красная» натуральная. Бриллианта вспоминает – плачет, Мексиканца вспоминает – плачет. Многих людей знал, кладезь преступного мира.
– Дед, а почему Пионер погоняло? – спросишь у него под настроение.
Он посмотрит на тебя внимательно и начинает рассказывать: «В Ростове бегал по карману в пионерской форме с галстуком. Кто на пионера подумает?
Как-то раз в большом магазине, у прилавка, залез в сумку к толстой дуре. Она рюхнулась, поймала меня за руку и давай кричать:
– Ах ты воришка! Сволочь! Милиция!..
Держит крепко, сил нет вырваться. Я начал её просить:
– Тётенька, отпустите, тётенька, я больше не буду…
Она – паскуда: «Какая я тебе тётенька? Милиция!..»
Тут ударил я её ботинком по косточке на голени – ай-ай… она мою руку и выпустила.
Бегу на выход, в дверях ловит меня милиционер.
– Куда… куда бежишь? – спрашивает, а сам в зал магазина смотрит.
– Дяденька, меня старший брат за карандашами послал. Отпустите, пожалуйста…
Толком не разобравшись в ситуации, отпустил меня начальник – пионер же, не шпана какая-то!.. Так и прилипло Пионер».
Кто-то из бродяг спросил у деда, шутя:
– В войну, по карману, продуктовые карточки не попадались?
Борисыч чуть чаем не поперхнулся.
Пионер сохранил, несмотря на годы и тяжёлую тюремную жизнь, человеческое достоинство. Был при твёрдой памяти. Содержал себя в чистоте. Опрятно одевался. Правил седую бороду, подстригал усы, края которых подкрашивала табачная просмолка. Глядя на него, сразу понимаешь – не простой дед, очень не простой. А он и был не простым. Взгляд тяжёлый, насквозь видит человека, смотрит, как сверлит до самого нутра.
Бывало, пришёл этап, мужики стоят у каптёрки знакомятся. Подканает Пионер. С кем поговорит, сигаретой угостит, конфету протянет, вниманием не обойдёт – достойный человек оказывался, а кого прошёл мимо – непуть. Никогда не ошибался старый волк.
Как-то поменялся у нас отрядник. Появился молодой, прямо из учебки, из-за парты, можно сказать. Даже форму ещё не выдали, ходил в вольном, чёрном костюме, с дубинкой наперевес. С контингентом никогда не работал, опыта нет.
Козла (завхоза) не того назначил. И козлина решил – с молодым отрядником прохиляю по-своему – наверну в три оборота без коловорота.
Побили козла, «улетел» в стационар лечиться.
Отрядник нервничает, не поймёт – что делать?
Начал знакомиться с осужденными отрада, но что-то не ладится у него. Вызывает осужденных в кабинет, ни с того начинает, говорит неправильно, всех под одну гребёнку гребёт, а так нельзя, масса неоднородная. Надо понять, кто есть кто в отряде. Для этого смотрящий имеется, он, в том числе, как пресс-секретарь подходит – довести до массы информацию, высказать общее мнение, мужиковское, так сказать. А Сергей Васильевич этот, не так все делает, не уважает уважаемых людей.
Вызывает Пионера, приходит дед.
– Так, за что сидим? Начало срока, конец срока? – задаёт протокольные вопросы, смотрит в карточку.
Пионер не отвечает, смотрит на отрядника пристально.
А тот ему:
– Что, дед, молчишь? Да у тебя уж памяти нет. Небось, позабыл всё? – посмеивается находчивости своей.
А дед вдруг рассказывает ему басню «Лисица и журавль» и в конце подаётся вперёд, поближе, и говорит:
– А виноват ты тем, что хочется мне кушать. Ам-м! – и щёлкает зубами.
Сергей Васильевич аж на стуле подпрыгнул… Не ожидал, представить себе такого не мог.
Ничего, обкатался со временем, до замполита дослужился.
Однажды идёт обход по жилой зоне. Начальник колонии, заместители: по безопасности, по режиму, по оперативной работе, ходят по баракам. Все зэки на мандраже… добром не кончаются такие обходы.
Зашли в наш барак, отрядник и завхоз по струнке. Доклад – в отряде всё в порядке, происшествий нет и тому подобное.
Проходят в жилую секцию, стук тяжёлых сапогов, начальники зашли, большой вес, полы деревянные скрипят, карнавал животов.
Дальше вглубь секции. Там сидит на шконке маленький дед Пионер – седая голова, седая борода, очки, бадик, домашние тапочки.
Остановились в проходе начальники, смотрят по сторонам, на спальные места, на стены: «Всё ли в порядке?»
– Так, это что такое? – проговорил зам. по тылу, огромный, двухметровый мужчина с подростковым лицом. Не подходило подростковое лицо к массивной, пузатой фигуре. Хотя человек он был добродушный, незлой, подлостей не делал. – Почему розетки за аквариумом самодельные? Не положено так… – Зам. по тылу начинает дёргать розетки, проверять, как они крепятся. – Ну, зэки! Что только не придумают…
Остальные «звёзды» мочат, всё вроде бы нормально, не вызывает вопросов по их отделу.
Пионер поднимается со шконки, подходит к переростку и говорит:
– Мне эти розетки разрешил поставить начальник, самый – самый главный, по этой херне! – и смотрит сердито снизу вверх на детину.
Хозяин и большое начальство переглянулось, сложили руки на животах и смотрят, что же дальше будет?
А детина отвечает с ухмылкой:
– Дед, по этой херне самый главный начальник тут я!
– Да? – удивился Пионер.
– Да, – убедительно ответил зам. по тылу и продолжил улыбаться, как ребёнок.
– Не проканало, ну и не надо, – пошаркал дед к шконке, присел.
Начальство какое-то мгновение стояло молча, потом начал хохотать хозяин, за ним все остальные. Хозяин с трудом прекратил смех, подобрал живот руками и говорит:
– Пусть будет, я разрешаю! Ну-у Пионер… борода седая, а он – не проканало…
Начальство весело покинуло барак. Умел старый углы сглаживать.
Интеллектуальные игры любил Борис Борисыч – шахматы и терц, это составляло у него целый ритуал.
– Пацанчик, завари чифирку, – обращается он к помощнику. – Только змейский не вари. И не Байкал. А то ты наваришь порой… змей поить, яд! – и делает противную гримасу. – Свари, короче, от души. Вон того чая возьми, вот этого, да.
Попьёт дед чай, вытрет усы, наденет очки, обведёт взглядом секцию.
– Мусорков там не видать? – удостоверится. – Атас стоит? И ладно. Раздавай… Пулемёт (колоду) где раздобыл? – спрашивает у соперника. – Сам лепил? Марат подогнал. Понятно. Марат подгонит. Под себя точит. Хитрее всех хочет быть, татарин. Ладно, не на корову играем.
И начинается игра в терц, очень мудреная, по арестантским меркам – дворянская. Я, например, за долгий срок так и не овладел этой замысловатой карточной игрой. Это не рамс и не бандитская сека, терц – это карточные шахматы, если можно так сравнить.
И вот Пионер играет, подкидывает баланы, а сам приговаривает или напевает:
– Дров привёз четыре воза, а дрова, одна берёза! – смотрит поверх очков на соперника. – Что, не привёз?.. Куда туза притырил? Где дама хорошая? Ты кого перехитрить пытаешься, а?.. Лесной карманник, – шутит дед. – Я, говорит, лесной карманник. Дубиной по голове бью, деньги сами сыпятся.
Проигрывать не любил, но и сильно не балагурил, забывал быстро.
В шахматы любил играть с достойными соперниками. Если услышит, что кто из арестантов в шахматы горазд, зовёт.
– В шахматы играешь?
– Да так, дед… давно не играл.
– Ну, фигуры передвигать можешь? Пойдём, – достаёт доску, прячет две пешки. – Отгадывай… Ага, белые мне, чёрные тебе.
Расставляет фигуры, поправляет очки, упирается руками на бадик, думает… фигуры переставляет характерно, тремя перстами. Если выигрывает, поёт что-то, если проигрывает, причитает.
Как-то раз играл Пионер с Пашей штангистом. Того расхваливали как Каспарова. Пару партий сыграли.
– Говорили – чемпион. А я не пойму, чемпион ты или шпион? На чемпиона, вроде, не похож… – посмотрел дед на пацанов.
– Ладно тебе, дед, – смеётся Паша. – Может и шпион… что уж тут, за то работаю чисто.
– Я думал чемпион, оказался он шпион! – веселится дед. – А где тот пацанчик? – спрашивает у молодёжи.
– Какой пацан?..
– Ну тот, который армяна обыграл из десяти партий. На армяна тоже говорили – чемпион, оказался он шпион. Слабенький, чифирит только и курит много.
Дед приходит ко мне в проход.
– Ты где, сынок, пропадал? – смотрит приятельски.
– На больнице был, дед, на шестёрке.
– Пойдём, фигуры подвигаем… Хорошо играешь? – смотрит серьёзно. – Давай, посмотрим.
Начали играть… Я проиграл одну партию, потом вторую. Дед доволен, напевает что-то, шутит.
– Сдаюсь, дед, всё… – встаю я из-за стола, и на всю секцию говорю. – Сильно играет Пионер, не выиграешь у деда!
Пионер захлопывает доску раздражённо, бормочет что-то, потом подзывает меня.
– Сынок, не поддавайся когда играешь. Понял? Если уважаешь соперника, не поддавайся. Здесь так – у картишек нет братишек. Я, может, искал сильного, злого противника. А ты в поддавки играть надумал, расстраиваешь старика.
– Ладно, дед, понял, – говорю я.
Не ожидал, что так воспримет, но дед огорчился.
– Хочется видеть молодняк дерзкий, бойкий, который нас превзойдёт. Порадует старшее поколение. Смелее будет, находчивее. – Начинает вспоминать старину, былых воров, фраеров, пацанок, как было тогда…
Его лицо просветляется. По щекам текут слёзы, а он говорит, не останавливается, машет рукой, говорит и плачет. Сентиментальный становился Пионер с годами.
Сидит как-то Пионер на шконке. Настроение хорошее, играет М. Круг, песня «…Па-да-ба-да-ба-да-ба-дам… мадам…»
Солнечный день бьется в зарешеченные окна из предзонника.
Дед слушает музыку, дирижирует руками и подпевает:
– Мадам, мадам.
Молодёжь сидит в соседнем проходе, чифирят, курят. Пацанчик показывает глазами.
– Гля… гля на деда, – смеётся.
Все смотрят на Пионера. Дед видит, что привлекает общее внимание и ещё сильнее входит в образ – дирижирует и подпевает.
– Дед, а, дед… Круг тебе нравится? Круга уважаешь, Мишку? – спрашивает весело пацанчик.
Борисыч, не переставая дирижировать, отвечает:
– Я Ивана Кучина уважаю.
– А Круг что?.. – удивляется братва.
– А Круг хулиган, – отвечает дед и продолжает кривляться.
– Как хулиган, дед, почему?.. – не поняли пацаны.
– А есть же у него песня: «Он нёс тебе розы, а я ему съездил от всей души с левой крюка!» – пропел Пионер и сделал характерный жест рукой.
Все захохотали.
– Ну-у дед! Красиво подвёл!
Шалман продолжился, проход затарахтел дальше, кто о чём.
Я подумал: «А ведь дед принципиальный какой. Это же просто песня, уличная песня, а нет… Врезать крюка в подъезде за цветы – хулиганский поступок, и прошляк это не приемлет. А песня действительно хорошая».
Когда Пионер слушал Круга, он часто плакал и не стеснялся слёз своих. Это была его жизнь: плохая, хорошая. Война, тюрьма, пятьдесят лет лагерей, Ростов, Москва, Воронеж, вся Россия.
По освобождению Пионера, в двухтысячном году, из Воронежа приехали люди встретить деда из лагеря. Повезли в город на дорогой иномарке, посадили на переднее сиденье пассажиром. Едут, всё хорошо, свобода! Дед на дорогу смотрит, на водителя, на спидометр, пытается скорость разглядеть… снова на дорогу, и спрашивает:
– Коля, ты куда меня везёшь?
– Что, дед? Не понял? – отвлекается от дороги Коля.
– Ты куда меня везёшь? Говорю. На кладбище, что ли?!.. Не гони сильно!
Вот такой был Пионер, Борис Борисыч. На самом деле, можно было бы роман написать про его жизнь, яркий был человек.
Как-то показывал Пионер фотку, где они с Олегом Плотником в 11-ой камере на тубкоридоре. Плохого качества по нынешним меркам фотка, но свет и дух в глазах этих людей. Очень ценил и берёг её дед.
В 2001году, летом, по сарафанному радио сообщили – упокоился Пионер. Всем лагерем поминали старого прошляка, вёдрами чифир варили.
Мусора приходили.
– Что, Пионера поминаем, да? Когда дед преставился? А-а, понятно… – не мешали, уходили.
Зам. по БОР пришёл в барак на обход, Владимир Иванович Пастухов, на маршала Жукова похож, коренастый, властный мужик. Посмотрел на проход Пионера: тот же аквариум, тот же стол стоит, только шконку убрали, никто не лег в этот угол.
– Пионеров угол? Почему нару убрали, достойных нет? Сколько Пионер воровал? Больше пятидесяти лет, – ответил сам себе и пошёл на выход.
Прошли годы, свобода, другой мир.
Когда слышу песни М. Круга, ком к горлу подкатывает. Ноет в груди, больно бывает сердцу, пережившему это. Жалко молодость, время потерянное. Жаль Боцмана, Пашу Китайца, всех людей пострадавших в этой системе. Жаль самого Круга.
Виктор встал и пошел курить на балкон. Он прослушал мой рассказ обречёно, как сказку из неизвестного ему мира. Зато Кала слушал внимательно, с интересом, ему-то была знакома атмосфера и у него горели глаза. Он не любил рассказывать про свои «командировки», но я знал, что прошел Кала немало. Бывал на крытой (тюрьма особого режима) в Ельце. А это говорит о многом.
8
Тем временем я продолжал общаться с Гулей. Она приглашала меня вечерами на чай. Гуля носила траур по мужу и дочери, которые как-то внезапно покинули её. Понимая горе и уважая просьбу одного из Гулиных братьев, занимающего серьезную должность в республике, её положили в 401 палату и никого не подселяли. Палата находилась в конце коридора и была чистой и тихой.
Я приходил обычно после отбоя. Гуля наливала чай, ставила передо мной сладости, которые постоянно пребывали на столе, и садилась за вязанье. В тишине постукивали спицы (из-за траура Гуля не держала ни телевизора, ни радио), и я рассказывал всякие истории. Гуля отматывала пряжу рукой, чуть склонив голову набок, продолжала постукивать спицами. Такая обстановка действовала успокаивающе, я отдыхал после дневной суеты.
Иногда к нам присоединялась Венера. Ей не спалось, и она приходила к Гуле поболтать, как приятельница по больнице. Видимо, женщины бальзаковского возраста то и дело интересуются молодыми людьми, которые все понимают и умеют слушать, сами могут кое-что рассказать, а где надо держат язык за зубами.
– Кто ты по национальности? – улыбаясь, с предвкушением сюрприза спросила у меня Венера.
– Кабардинец.
Она посмотрела на Гулю вопросительно, та кивнула головой, подтверждая ответ.
– У меня муж кабардинец, он совсем не такой, – проговорила Венера разочаровано.
Я, глядя на неё, припомнил один момент из юношества.
Когда в десятом классе школы, в мае месяце, на сборах по начальной военной подготовке, которые проходили в горах, я откосил от марш-броска. Меня поставили на высоком холме с двумя красными флажками, как матроса сигнальщика, чтобы я показывал дорогу пробегающим с небольшими интервалами отрядам разных школ. Выслали меня в дозор в шесть часов утра. Я стоял, любуясь контрастами утренней панорамы гор, с сырыми от росы ногами. Первые бегуны кросса не показывались, и я закурил заныканную сигарету «Прима». Я курил этот символ взрослой самостоятельной жизни и старался понять маршрут, по которому предстояло направлять бегущих: «Дорожка вдоль речки. Дальше по подошве холма. Потом, самое важное, что наказывал военрук, по ближней дуге огибать холм или по дальней?.. – вспоминал я. – Ничего, двадцать девятую школу можно прогнать по дальней дуге, случайно. Они и так все виды состязаний выигрывают».
Вдруг на холме появился старик с хворостиной в руке. Он выпасал нескольких козочек, которые важно прошли мимо меня. Я спрятал сигарету в ладони, уронил и затушил ногой. Старик поравнялся со мной, на нем была овчинная жилетка, на голове войлочная сванка. Остановившись неподалеку, он поприветствовал меня:
– Салам алейкум! – и заговорил по-балкарски.
– Уалейкум салам. Я не балкарец.
– На кабардинца ты не похож, – сказал он по-русски.
– У меня мать осетинка.
Глаза его округлились, брови поползли вверх, он, подбирая нужные слова, проговорил:
– Олае… Это самый хитрый смесь на Кавказе.
Я смотрел в голубые глаза Венеры. Она оказалась еще той болтушкой и беспрерывно щебетала. Начинало казаться, что у неё дефицит общения и ей необходимо выговориться. Правда, рассказчица она была хорошая, и её живое моложавое лицо привлекало. Слушая, я расслаблялся и мысли, как мельканье огней в тоннеле метро, проносились на фоне лица Венеры. Как-то поймал себя на том, что Венера одна из причин, по которой я захожу к Гуле.
Потом сюда повадилась Ася. Появлялась под предлогом поиграть в карты и жаловалась на бессонницу. Наши посиделки стали носить регулярный характер. И, как водится, начали появляться завистники. Поэтому я решил, что надо сделать паузу в посиделках.
В один из вечеров, зайдя к Гуле, я застал нелицеприятную картину. Несколько обитателей больницы, таких как Хус, Бату и Казбек, подпитые пребывали в компании Гули, Венеры и Аси. Обстановка показалась напряженной, но я присел за стол. «По моей тропе ходят», – подумал я и не подал вида, что меня раздражает их пьяная компания. Хус развалился на подушках, как падишах и распростер руку к Венере, как к своей наложнице, которая смущенно хлопала глазами. На правах смотрящего он попытался тупо пошутить – куснуть меня, но я оказался черствый… они засобирались по отделениям. Несколько дней, после этого, я не появлялся у Гули.
Теплым мартовским днем, когда весенние краски начинают проступать через засохшие зимние, я встретил Венеру и Гулю, прогуливающихся по территории больницы.
– Куда ты пропал? – спросила с укором Гуля. – Мы уже подумали, что тебя выписали. Что с тобой случилось?
– Ничего, – отшутился я кое-как. – Пойдемте, прогуляемся.
Неторопливым шагом мы пошли к сосновой роще.
Гуля сказала:
– Идите, я вас догоню.
Мы присели с Венерой на поваленное дерево и грелись на мартовском солнышке. Я нарвал букетик маленьких фиолетовых цветов, похожих на фиалки и подарил Венере. Она улыбалась, нюхая эти первые цветочки. И похвасталась перед Гулей, только та успела подойти.
– А у меня вот что! – покрутила Венера букетом перед носом Гули.
– А мне? – как ребенок, проговорила Гуля.
Я нарвал такой же и для Гули. Они довольные сидели и нюхали аромат не пахнувших полевых цветов.
– Вот какой у нас парень! – показывали цветы друг другу.
– А может быть, пиво попьем? – немного сомневаясь, предложила Венера. – Что, ты не хочешь? – спросила у меня.
– Пейте, мне нельзя, – вздохнула Гуля, как бы вспомнив о трауре.
– Если хочешь, пойдем, – ответил я Венере.
– Ты будешь? – спросила она заинтересовано.
– Нет.
– Почему?
– Не хочу.
– Почему не хочешь?
Я задал Венере встречный вопрос:
– Для чего ты хочешь выпить?
– Ну, расслабиться, раскрепоститься, что ли… Так веселее.
– Чтобы свободно общаться, пить не обязательно, – ответил я. – Выпивка меня ни к чему не стимулирует.
Венера странно посмотрела на меня.
– Я так не могу, мне нужно расслабиться.
– Сколько тебе лет? – спросил я её.
– Причем здесь это? – удивилась она. – И вообще, не принято спрашивать возраст у женщин.
– Можно… Что тут такого?
– Тридцать семь и что?
– Дети, наверное, есть?
– Да, трое.
– Ты хорошо выглядишь для мамы с тремя детьми.
Венера ничего не ответила, повернулась в сторону и о чем-то задумалась.
Туберкулез, как проявление глубокой проблемы, кризиса женщины. А муж вежливо брезгует и не подходит к жене, чем увеличивает её депрессию. И она либо ищет внимание на стороне, либо тихо чахнет. «Я никому не нужна, я заразная» – установка самобичевания – питательная среда для туберкулеза, который преломляет привычный поток бытия. Человек начинает воспринимать жизнь по-другому. То, в чем нуждается женщина, острее переживает больная. Ограничения отнимают последнюю надежду на выздоровление. И вообще, почему, как мне кажется, часты туберкулезные романы и даже семьи? Потому что туберкулез, если это не последняя стадия, не подавляет половую функцию, а лечение протекает долго, от шести – девяти месяцев до года и более, то получается естественным зарождение связей.
Венера была из тех женщин, для которых полнота жизни важнее, чем мифическая супружеская верность.
– Сколько тебе еще лежать? Что врачи говорят? – спросил я.
– Скоро уже на выписку. В санаторий поеду.
– Вот видишь, как хорошо! Радоваться надо, а ты…
Она грустно покачала головой. Мы вернулись в корпус.
На неделе произошла небольшая провокация, которую я интуитивно предчувствовал. В очередной раз зашел к Гуле на чай. Они с Венерой были какие-то возбужденные, рассказывали о прошедшем дне, много смеялись.
– Представляешь, – говорила Венера весело. – Мы три часа гуляли, бродили туда-сюда. И никто к нам не пристал! Представляешь? Мы, можно сказать, сами снимались… и никто не подошел! Что за мужики пошли?! – посматривала она на Гулю.
Гуля, неловко улыбаясь, поддержала Венеру.
– Да! В чем дело?! Что это такое?!
Они захохотали.
Слушая веселый разговор, я наблюдал за Венерой. Она носила короткую стрижку и выглядела намного моложе своих лет. Со вкусом одевалась, подчеркивая фигуру, и была очень привлекательна. Многим мужчинам она нравилась и, проходя, собирала за собой похотливые взгляды. Но только лишь взгляды. Наши туберкулезники на большее не способны, кроме как проводить глазами и пробубнить что-нибудь пошлое. На тот момент в отделении не было женщины, способной составить Венере конкуренцию.
Так вот, в пылу разговора Венера закрыла дверь палаты на замок. Вдруг пританцовывая направилась ко мне… Изображая приватный танец, она подошла вплотную и будто хотела одним движением сорвать с себя кофту и задрать майку передо мной, как заправская стриптизерша. Я спокойно наблюдал за этим спектаклем.
– Надо же, не испугался, – проговорила она и выбежала на балкон.
«Видимо, при таком маневре все пугались, конфузились, а тут… осечка. Но чего пугаться? Это забавно, не более», – подумал я.
– Гуля, – спросил я. – Можешь оставить нас на часок?
– А она согласна? – Гуля неуверенно посмотрела на меня. – Я вас оставлю, конечно, только подожди минуточку.
Она вышла на балкон поговорить с Венерой.
– Мы такими вещами не занимаемся! – продекламировала Гуля и тихо добавила. – Не хочет… Ты не так понял.
– Тогда оставишь меня с Асей?
– Да, пожалуйста. Какой разговор? Пойду пока с девчатами посижу в четвертой палате.
Я вышел на балкон. Была приятная мартовская ночь. В черном небе меж одиноких облачков плыла луна, не добиравшая до полноты нескольких суток, с одного бока серебряный диск оплавился о черноту ночи. Луна шептала… хотелось любоваться и любоваться ночным пейзажем, но было довольно прохладно.
Венера курила, присев на край стола. Казалось, настроение испортилось, она расстроилась своей выходке и выглядела немного жалко и подавлено. Как рыжая, оставшаяся с пером на носу, а хотелось петушка.
– Заходи, простынешь, – посоветовал я и вернулся в палату.
Эту ночь я провел с Асей, которая месяц крутилась возле меня, как кошка вокруг сметаны. И надо отдать должное, перестала выпивать, похорошела, помолодела что ли. И как было не заметить положительных перемен.
Я позвал Асю.
– Ни чем не болеешь? – спросил я неожиданно. – Чистая?
– Ну… да, – ответила она замявшись.
«Понятно. Надо предохраняться», – подумал я.
Пошел к себе в палату, принес постельное белье. Положил матрац на пол. Ася удивлено наблюдала за моими манипуляциями, будто бы ночлег устраивался на необитаемом острове, где мы внезапно очутились. Я закрыл дверь на замок и выключил свет.
Несколько дней спустя, на выходные, я вышел из палаты на шум подгулявшей компании. Было около полуночи. Второе терапевтическое отделение ходило ходуном. Гуляющие вывалили в коридор покурить и поразмять затекшие конечности. Гомон слился с рванной магнитофонной музыкой и метался по отделению из конца в конец. Гуляли у электрика, без чьего согласования перегорали лампочки, которого звали Беслан. Он был прооперирован и остался жить при больнице. Проживал в той же палате где и лечился.
Беслан рассказывал в минуты откровений благородную историю – как свою жилплощадь оставил жене и сыну при разводе, из каких-то высших побуждений. И так как он являлся практически сотрудником заведения, ему сходили с рук подобные кутежи. Тем более это были редкие случаи, и наутро он выходил на работу с серьезным видом без тени похмелья.
Я поинтересовался причиной веселья. У каждого была своя версия. Мне больше понравилась про приход весны.
Беслан радушно пригласил меня в палату, где все присутствующие непонятно почему были мне очень рады. От выпивки я отказался и присел.
Компания была сильно наэлектризована, наверное, потому что одни хорошо выпивали, другие не пили вовсе. Пьяные громко разговаривали и танцевали, трезвые глазели на них и нервно посмеивались до покраснения. Напряжение напоминало собачью свадьбу, когда кобели при малейшей провокации перелаиваются и кидаются друг на друга.
Венера была в этой компании, она подскочила ко мне.
– Где ты был? – подняла меня. – Давай потанцуем, – прилипла ко мне.
– Подожди, – попытался я посадить её. – Я не танцую… сегодня…
Венера еле держалась на ногах и чуть было не повалила меня на пол. Я сделал попытку вырваться из её объятий, но тщетно. Она, как при страстном танго, заплетала между моих ног свою. Кобели хохотали, глядя на нас. Я покачался в ритм музыки и, стараясь не привлекать внимание, склонившись к уху Венеры, тихо спросил:
– Хочешь?
Венера сильнее прижалась и дрожащим голосом, чуть слышно, проговорила, – да-а…
– Тогда пойдем, – вывел её в коридор. – Где ключи от первой палаты?
– У Аси, – ответила она, шатаясь. – Гуля нам оставила.
– Возьми ключи и подожди там. Я сейчас…
– А как же Ася?
– Что Ася? – удивился я неожиданной солидарности.
– Ася… мне неудобно… она…
– Если не против, приведи её тоже.
Немного погодя я пришел в первую палату.
Венера лежала на койке, а Ася крутилась возле зеркала.
Я подготовил ложе на полу, как в прошлый раз.
– Выключите свет, – попросила Венера.
Ася погасила свет и начала шелестеть одеждой в темноте. Вдруг послышалось звучание льющейся воды…
– Что это? Ася, зажги свет, – попросил я.
Свет зажегся, Венера лежала на животе и тихо рыгала. Рвота лилась с койки на пол, пачкая постель. У неё было алкогольное отравление. «Видела бы Гуля эту картину! – подумал я про себя. – Что творится в её палате! Да уж!» Ася удивлено смотрела на Венеру, прикрывая обнаженную грудь рукой.
– Венера, тебе плохо? – спросил я.
– Сейчас пройдет, – вяло ответила она и утерла лицо рукой.
– Ты явно перебрала.
– Сейчас… Надо полежать. Все пройдет, – начала приходить в себя Венера.
Захотелось прогнать её, послать подальше. Но я подумал: «Так поступил бы любой на моем месте – это не умно, не оригинально, по крайней мере. Тем более, Венера – свинья по восточному календарю. А что я хотел от свиньи?»
– Ася, принеси таз и поменяй белье. Я скоро вернусь, – дал я указания, как придать ситуации пристойный вид.
Вернувшись, застал другую картину. Венера пришла в себя, как будто ничего не было. Её комплексы и страхи были так сильны, что нужно было залить их алкоголем. И заливая, она переборщила, не рассчитала возможности. Показалось даже, она испугалась, что чуть было все не испортила. Но желание мужчины было сильнее алкогольного отравления.
Венера оказалась темпераментной и любвеобильной женщиной. Стеснялась, в том числе, из-за шрама от кесарева сечения и боялась обнажаться при свете. Однако, успокоив страхи, опыт получился яркий.
При глубоком дыхании я слышал каверну, как старую деревянную дверь, поскрипывавшую на вдохе. Я представил себя между свиньей и обезьяной. Свинья была влажная, сочная, лежала лениво, но между тем забавно. Обезьяна же была сухой, суетливой, капашливой, подражала человеку, но выглядела все равно глупо.
Утром присутствующие при вчерашней гулянке подходили с некорректными вопросами. Хотели узнать, зачем я увел Венеру и что было дальше? Я объяснил, что увел Венеру с той целью, о которой они подумали, но в самый интересный момент ей стало плохо и я, разочаровано, уложил её спать.
Слухи, распространяющиеся с небывалой скоростью, обрастающие фантастическими подробностями, заранее отбивают охоту и портят перспективу женщинам. И я не собирался давать им почву, как молодой пацан, для которого похвастать перед другими доставляет большее удовольствие, чем сама близость женщины.
В понедельник Венеру выписали, и она исчезла из моей жизни.
9
Но жизнь продолжается. В один из будних дней, после больничного обхода к нам в палату заглянул его преподобие, тубический аристократ, Альба. Порыскав, как серый волк, глазами, он присел за чай, предложенный мной и Калой. Мы пили чай и обменивались новостями. Меня заботила проблема жесткой воды. Наливая кипяток из электрического чайника, я заметил, что накипь образуется за несколько недель и вкус чая далек от настоящего чая. «Воду надо фильтровать или пить талую», – размышлял я, когда Альба поинтересовался:
– А где ты в России сидел?
– В Воронежской области, – ответил я.
– А-а, ты говорил, – припомнил он. – А попал где?
– В Москве.
– А в Москве ты что делал?
– Учился.
– Где учился? – спросил он удивлено.
– В ветеринарной академии.
– Ветеринар, что ли?
– Нет, я на товароведа – технолога учился, – как бы брезгливо бросил я.
Кала пригубил горячий чай, достал из пачки сигарету. – Где только не побывал, – показывая на меня, сказал Альбе, смял пустую пачку, сигарету положил за ухо.
– И как тебя посадили? – перекинув ногу на ногу, продолжил разговор Альба, давая понять, что не торопится и хочет послушать.
– Одного семестра не доучился до диплома. В мае защита, а меня в январе приняли за разбой.
– Кто? – прищурил Альба взгляд.
– Петровка.
– И чем ты занимался?
– Учился, потом связался не с теми… Время тяжелое было – лихие девяностые: страна распалась, два путча, зарождение демократии. Ваучеры, безработица, невыплаты стипендий, зарплат, пенсий; рэкет, разгул бандитизма. Надо было как-то выживать, эта волна меня и захлестнула.
И я рассказал им историю из моей бурной молодости девяностых годов.
Нас было пять молодых пацанов: Сука, Жир, Соловей, Брат и я. Нам было по двадцать лет с небольшим. Побарахтавшись в водовороте нового времени, нахлебавшись бульона свободы нас вынесло к твердому убеждению правоты Абдуллы: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный».
Сука нашел оптовую базу в Печатниках…
– Где? – не понял Кала.
– Печатники – район в Москве, – пояснил Альба.
…К базе подходила железнодорожная ветка, товар подвозили вагонами. Складировали в больших ангарах и отгружали фурами. Дневная выручка в среднем доходила до нескольких десятков тысяч долларов. Оплата происходила в офисе, который находился в административном здании на территории базы. Офис был на третьем этаже и представлял собой большой кабинет.
Попадая на этаж, надо было повернуть по коридору направо, потом опять направо и, не доходя до комнаты охраны, заходить налево в дверь офиса. Охрана в конце коридора была жидкая, невооруженная и, если сработать красиво, это не помеха.
В правом углу офиса было самое интересное – касса с бронированной дверью и пуленепробиваемым стеклом. Трудность заключалась в том, как быстро проникнуть к сейфу и открыть его без лишнего шума. В помещении офиса работали четыре женщины, не считая бухгалтера и кассира.
Так вот, реакция женщин в таких ситуациях непредсказуема: от обморока, до тупого геройского упрямства. И что делать, если кассир и бухгалтер, принеся в жертву остальных работниц офиса, не подчинятся и не откроют бронированную дверь? Хоть оружие у нас боевое, стрельба сразу исключалась. Нужно было доработать этот момент. Стали следить.
Сделали две закупки, чтоб досконально проработать всю цепочку от оплаты до получения товара. Результатом слежки, кроме прочих деталей, было установление инкассации.
Инкассаторы приезжали в пять часов вечера, плюс-минус пять минут, заезжали на территорию базы и парковались прямо у входа в здание. Из машины выходил один сотрудник и поднимался в офис. Экипировка была стандартная, личность инкассатора постоянно менялась. В офисе его пропускали внутрь кассы и открывали сейф. То, что нам и надо было. Мы решили, что инкассатор будет подставной, кто-то из нас. На эту роль хорошо подходил Сука, его мордовское лицо настолько убедительно смотрелось в форменной одежде инкассатора, которую мы купили в магазине спецодежды, что даже самый дотошный режиссер, похвалил бы костюмера за точное попадание. Экипировку: кобуру, специальную сумку, имитатор бронежилета, приобрели там же. Пришлось вложиться в предприятие, ничего не поделаешь. Короче говоря, экипировали Суку от головного убора и ботинок, до лычек «Росинкас».
В назначенный день, в назначенный час: Я, Сука и Брат, приехали на такси к воротам базы. Прошли через проходную и направились к административному зданию.
Стояла золотая осень. Теплый октябрьский день. Солнце косыми лучами играло в опадавшей листве. Редкий ветерок крутил несколько листиков по асфальту. В такую погоду хорошо гулять по лесу, а не щекотать нервы по скокам.
Мы вошли в полумрак подъезда и спустились ниже в подсобное помещение. Эту подсобку нашел Жир, когда делал последнюю закупку. В ней не было света, пахло сыростью и пылью, и было ясно, что ей здесь не пользуются.
Дверь оставили приоткрытой, чтоб был хоть какой-то источник света. Сука снял кашемировое пальто, под которым была вся амуниция, и передал мне. Я надел пальто поверх кожаной куртки. Из кобуры у него торчала черная ручка «ТТ», а из кармана имитатора бронежилета рация, настроенная на нерабочую волну. Она шипением создавала фон, и не оставалось никаких сомнений, что перед вами настоящий инкассатор.
У Брата был «ПСМ» с глушителем, у меня «Беретта».
План был такой: Без десяти минут пять из подсобки в офис поднимается Брат. Он заводит разговор с сотрудниками офиса и садится за стол изучать прайс-лист. Через тридцать секунд поднимается инкассатор, в руке держит инкассаторскую сумку. Он проходит в помещение кассы и добивается открытия сейфа. Через тридцать секунд за инкассатором, поднимаюсь я.
Мы стояли в темноте подсобки, тихо переговаривались, дожидаясь лихой минуты. Я контролировал время, посматривая на часы. Стрелки медленно шли, как будто нарочно, давали адреналину перекипеть в нас.
– Брат, пошел.
Дверь подсобки открылась со скрипом, осветив набросанный хлам… и снова стало темно. Я подставил часы под полоску света, пробивавшуюся из щели, и продолжал наблюдать за секундной стрелкой.
– Сука, пошел.
Прошло еще тридцать секунд. Я вышел из подсобки и начал подниматься по лестнице. На пролете второго этажа мне попался усатый мужик, который посмотрел так, будто обо всем догадался. «Показалось», – прогнал я измену и дошел до двери офиса. В конце коридора стоял охранник и разговаривал с напарником. Он замолчал, увидев меня, но спросить что-либо не решился.
Я зашел в офис. За столом, в глубине помещения, сидел Брат и смотрел какие-то бумаги. Дверь в кассу была открыта (это был знак). Я закрыл офисную дверь на замок. При этом поднялся Брат, в руках у него появился пистолет. Я выхватил свой и объявил, что это ограбление.
Пока я обошел помещение, обрывая телефоны и лазая по столам, работницы офиса, не веря глазам, удивлено смотрели на нас. Особенно привело их в замешательство, что мы оказались вместе и заодно.
Когда я зашел, закрыл дверь на замок и выхватил пистолет, они с открытыми ртами смотрели на меня. Но когда поднялся Брат с пистолетом, по залу прокатилось: «А-ах…» и женщины начали причитать. Брат говорил, чтоб сидели тихо, тогда ничего не будет.
Через минуту из кассы появился Сука с пузатой инкассаторской сумкой.
– Давай, – сказал он.
Я расстегнул спортивную сумку, он положил в неё инкассаторскую. Затем я скинул и передал ему пальто, он ловко накинул его и застегнулся – маскарад закончился. Работницы офиса были до последней степени напуганы этими манипуляциями. Мы быстро удалились из офиса.
Быстрым шагом мы спустились к выходу, прошли вдоль стены по эстакаде, обогнули здание и побежали к забору базы в противоположной стороне от проходной. Там был лаз в воротах, куда подходила железнодорожная ветка (план отхода был продуман заранее). Мы пролезли в лаз, пробежали по шпалам метров триста и поднялись по лестнице, предусмотренной для сотрудников ремонтной бригады железной дороги, на Волгоградский проспект. Там нас поджидал Жир на «левой» шестёрке. Сука по ходу переключил рацию на рабочую волну и дал знать Жиру, что мы выходим. Жир ответил, что все в порядке, он ждет.
Фокус был в том, что база и подъезд к ней был в муниципальном округе Печатники. Следовательно, сигнал об ограблении приходил в местное отделение милиции, и первоначальный план-перехват начинался по этому муниципальному округу. А мы, поднявшись на Волгоградский проспект, оказывались в муниципальном округе Текстильщики.
Соловей стоял на перекрестке в Печатниках, где была развилка дороги от базы. У него была третья рация, и он контролировал перекресток, как стратегический. Позднее Соловей рассказал, что спустя шесть минут, как услышал по рации команду: «выход», в сторону базы пронеслись два милицейских «форда» и «УАЗ».
Только спустя шесть минут, мы были далеко.
– И много вы подняли? – спросил Альба.
Читалось, что он не верит в мой рассказ.
– Что подняли, того уже нет.
– А восстановиться в академии не хочешь? – спросил Кала.
– Не знаю, посмотрим, – призадумался я. – Вряд ли меня восстановят.
– Почему?
– Большой срок прошел, двенадцать лет почти. Да и потом репутацию я сильно подпортил.
– Тем, что тебя посадили?
– Да, и не только… был еще первый звоночек в девяносто четвертом году.
Меня отчисляли тогда… Мы проживали в общежитии при академии втроем, со мной еще Леха Хапов с Богданки (район Нальчика, ул. им. Богдана Хмельницкого) и пятигорский пацан, Ланц погоняло.
Собрались на Новогодние каникулы домой. Леха оставил в комнате своего приятеля, Кота, тоже богдановский. Кот, в свою очередь, оставил в комнате двух земляков-кабардинцев и сам тоже уехал. Кто знал, что так получится?
После праздника я получил телеграмму из деканата, что должен срочно вернуться в Москву. Вернувшись, я застал в комнате общежития Ланца, который так же прибыл по вызову, и Кота.
Ланц рассказал, что по приезду нашел опечатанной дверь нашей комнаты. В тот же день его забрали в отделение милиции, где он провел три дня. Там его били толстенным уголовным кодексом по голове и вешали соучастие в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Ланц похихикивал и не воспринимал всерьез эту процедуру, из-за абсурдности ситуации.
Ему предъявили фотоматериалы с изображением головы и расчлененного тела. Это произвело сильное впечатление, и он, поняв всю серьезность, взбунтовался. Дознаватели, поразмыслив, что так играть не сможет студент театральной академии, не то что ветеринарной и, припомнив, что у парня алиби, выгнали Ланца из изолятора временного содержания (ИВС).
Далее рассказ продолжил Кот. Поведал, что, оставив ключи от комнаты знакомому по Нальчику и его компаньону, удалился праздновать Новый год к любовнице на квартиру.
Тех приятелей объединяло тайное предприятие. Как потом оказалось, они приехали в столицу продать краденый антиквариат. Дав им инструкции – вести себя тихо и не ругаться с комендантшей, Кот отлучился на несколько дней.
Вернувшись после праздников, Кот застал знакомого в комнате, пьющего пиво. На вопрос – где компаньон, тот ответил – уехал. И спокойно предложил Коту пиво.
Вечером этого же дня в дверь постучали. Кот открыл. Комната наполнилась милицией и сотрудниками в гражданке. Комендантша показала на обоих и Кот повторил судьбу Ланца, с которым они и повстречались при выдворении из ИВС.
Дальше по фактам восстановили полную картину происшествия: Знакомый Кота задушил во сне компаньона подушкой. Затем решил скрыть преступление и расчленил труп охотничьим ножом. Не зная хорошо местности (поблизости со студенческим городком лесопарк «Кузьминки» с большим прудом), побросал останки в мусорный контейнер недалеко от общежития.
Мусорщики утром перегружали контейнеры в машину и нашли окровавленный шар, завернутый в наволочку. Позвонили куда следует и приехали кто следует. Перебрали все контейнеры и извлекли грудную клетку, руки, ноги и другие фрагменты тела. На наволочке нашли штемпель общежития МВА (Московская Ветеринарная Академия). Прошерстили все общаги и вышли на предполагаемого убийцу, пьющего пиво в нашей комнате.
Убийцей оказался студент юридического факультета, уже стажировавшийся как следователь. Он, конечно, предполагал, что знает, как замести следы, и не ожидал быстрой поимки.
Суд все доказал в довольно короткие сроки, потому как было орудие преступление – нож, злополучная наволочка и шнурок от куртки подозреваемого, которым он перевязал наволочку, как вещмешок. Экспертиза все подтвердила и даже то, что все произошло в нашей комнате – вскрывали паркет, брали образцы крови.
Дело имело резонанс в Министерстве сельского хозяйства, куда вызывали нашего ректора и отчитывали по полной. Приезжали корреспонденты программы «Времечко».
Короче говоря, как принято в России – рубить под корень, ректор, перестраховавшись, отчислил всех проживавших в роковой комнате из числа студентов академии.
Леху и Ланца отчислили одним приказом. А меня, за месяц до происшествия оформившего академический отпуск по состоянию здоровья, одним приказом отозвали из академического отпуска, а вторым приказом отчислили.
Через год я восстановился через то же Министерство сельского хозяйства, которое пропесочило ректора повторно, за отзыв из академического отпуска. И благополучно (принимал участие в художественной самодеятельности, выиграл академический чемпионат по мини-футболу) доучился до последнего семестра пятого курса, откуда был переведен в академию жизни – Бутырку.
10
Дверь палаты открылась, прервав нашу беседу.
– Таблетки, – проговорила Жанна, – подходим.
Я подошел к тележке с медикаментами. Жанна посмотрела лист назначения.
– Замохов, – бойко прозвенел её звонкий голос. – Тебе ПАСК назначили и Таваник. Вот держи, – выдала мне таблетки.
– И как их пить? – поинтересовался я.
– Таваник сейчас пей. ПAСК в обед, – пояснила она. – Это очень хорошие лекарства, только появились у нас. Не принимал раньше такие?
– Нет, откуда.
– Тогда пей.
Я начал принимать препараты резервного, как их называют, ряда и стал чувствовать, что крепну. Моя туберкулезная флора была устойчива к препаратам первого ряда. Устойчивость я приобрел за долгие годы неправильного лечения в колонии. И теперь с новыми препаратами лечение продвинулось. Я почувствовал металлический звон в голосе, голос даже удивлял меня порой, потому что привык уже к посаженому, хриплому голосу. Звук не лился, а куда-то проваливался. И вдруг вернулся молодой голос, сильный и звонкий. «Вот результат вольного лечения!» – радовался я.
Но разочарование не заставило себя долго ждать. Через две недели препараты закончились.
Как это? – думал я. – Ведь препараты выписываются в Министерстве здравоохранения по количеству нуждающихся больных, ровно на курс лечения. Если врач знает, что на курс лечения не хватит, зачем прописывать препарат? Прививать устойчивость. Вредительство какое-то.
Позже я понял систему работы нашей больницы. Поступающие медикаменты, малой частью, выдаются больным, чтоб факт хищения не был очевиден, мол – давали же препараты – давали. Ну что поделаешь? Кончились.
А по документам, по листам назначения зафиксировано полное прохождение курса больными.
Куда делись препараты?
Как куда? А вот… В отделении шестьдесят больных пропили полный курс. По бумагам все сходится.
И эти дорогостоящие препараты продают, начиная от заведующего отделением до старших медсестер. То есть я должен купить украденное у меня же лечение. Красиво! Ничего не скажешь. До такого даже порядочный преступник не додумался бы. Больница – «крест» по фене, то место, где способны шельмовать лишь конченые проходимцы без совести и чего-либо святого.
Я чувствовал, что мне необходимы эти препараты, но достать не было возможности. В городских аптеках пояснили, что такие препараты бывают только в больничном обращении, и просто в аптеке их не купишь. Да и купить я не мог, денежные средства у меня не имелись. Работать я не мог по состоянию здоровья, да и если бы смог, средняя зарплата в городе и по республике – семь тысяч, а упаковка ПАСКа – двадцать две тысячи стоит. Надо три месяца работать, не кушать, не одеваться, не иметь транспортных расходов, чтобы купить только один препарат из трех видов. А при устройстве на работу нужно предъявить справку о состоянии здоровья, которую мне отказались дать в поликлинике, так как я больной хроническим инфекционным заболеванием. Замкнутый круг.
Короче говоря, у нас в стране не продуманы и более важные проблемы, не то что проблема реабилитации освобожденных. А что уж говорить о больных, которые потеряли здоровье в тюрьмах. Тут надо быть морально настолько сильным, чтоб вырваться из порочного круга, который замыкается безразличием среды и безысходностью жизненного положения и толкают бедолагу обратно.
Но я-то теперь знаю, что всякая власть от Бога. И главное не противопоставлять себя власти, а в пределах этого можно действовать, даже быть подлецом, как наши врачи, чиновники и сотрудники внутренних дел. Надо прилепиться к какой-нибудь системе и, не торопясь, кормиться, утешая совесть тем, что так живут все в России, а в Кабардино-Балкарии уж и подавно.
«Здоровье за деньги не купишь». Да, конечно. «А без денег не поправишь». Тоже верно. Второй лозунг сейчас актуальней. И поправление здоровья опять полагалось на голый энтузиазм, как впрочем, и раньше, в колонии.
Составляющими энтузиазма являлись – здоровый образ жизни, куда включались гимнастика, прогулки на свежем воздухе, правильное питание и только положительный настрой. Затем народные средства, которые в купе с положительным настроем должны были помогать и давать надежду. И, наконец, непоколебимая вера в Господа завершали этот энтузиазм.
Правда, один старый профессор петербургского института туберкулеза, выслушав подобную теорию, сказал, что хронический туберкулез лечится, если вообще лечится, только медикаментами.
А что делать? Где их взять?
Последний рентген показал, что каверна не тронулась с места, за два месяца лечения она не уменьшилась ни на сантиметр. Общий фон легких как будто имел положительную динамику (так говорила Людмила Мухадиновна, водя рукой круговыми движениями по рентгеновскому снимку, пытаясь разогнать очаги, как облака), только не каверна, она все так же четко прорисованная была шесть сантиметров в диаметре. Нужно было выработать стратегию лечения. Время, нужно время. Поживем – увидим.
А тем временем я все питал надежды познакомиться с Мариной.
И вот однажды я вышел из палаты во время тихого часа. Коридор был пуст. Вдруг из сестринской вышла Марина и быстро пошла на женскую половину.
– Привет, Маруся! – поздоровался я.
Марина ничего не ответила, прошла мимо, смотря, поверх маски карими глазками.
Я проводил её взглядом. Походка приковала меня и я, как кот над валерьянкой, не двигался с места. Пока зевал в коридоре, она возвращалась, и я попытался завести разговор снова. Марина проигнорировала, прошла на пост, стала копаться в шкафу и что-то искать в столе.
– Маруся, ты не слышишь?
Она посмотрела на меня, в её взгляде читался вопрос.
– Как дела, Маруся? Ты занята?
– Кто здесь Маруся?! – проговорила она неожиданно, с сильным кабардинским акцентом.
Я оторопел…
– А как тебя зовут? – подыграл я.
– Марина, – ответила она и зашла в сестринскую с важным видом победительницы.
«Вот и познакомились», – пошел я своей дорогой и забрел к Альбе.
Отклоняясь от темы, хочу заметить – сколько в некоторых медсестрах важности, высокомерия и даже пафоса, что порой чувствуешь неловкость и вину за то, что отвлекаешь их внимание от глобальных государственных проблем, которые они ежеминутно решают. По крайней мере это так выглядит, когда они снисходят до перевязки или выдачи понадобившегося препарата.
После «дежурного» разговора Альба спросил:
– Что, не клеится с Марусей? Как ты там её называешь?
Я сделал строгое лицо: «Кто здесь Маруся?» – передразнил я.
– Что?.. Так да? – засмеялся истерично Альба.
– Марина! – продолжая пародию, пытался я повторить её пафос. – Представляешь, Альба, постоянно обращался к ней так, и все было нормально, отзывалась. А сегодня, вот только что, столкнулись в коридоре…
– И что? – раскачивался он на стуле, покуривая.
– И что? Как будто первый раз меня видит: «Кто здесь Маруся?» Мне казалось, ей даже нравится. А тут во как!..
– Просто она по-русски плохо соображает, а ты в кабардинском не силён.
Он был прав – я в кабардинском не силён.
Этот вопрос мучает меня с детства. Мыслительный процесс происходит у меня на русском языке, я на нем думаю и разговариваю. Почему я не говорю на родном языке или на родных языках, я не понимаю. Видимо, я не способный, чтобы овладеть такой тяжелейшей наукой, как кабардинский язык.
Ничего нет труднее в жизни, чем учить родной язык, если не знаешь его с детства. Легче выучить любой другой, хоть китайский, тут нет психологического момента. Проговаривая изучаемый язык, не стесняешься практиковаться. Говорить неправильно на родном языке такой позор, что стыд блокирует любое поступательное движение. Чувствуешь себя чужим среди своих и своим среди чужих.
Проживая семнадцать лет в России, я был лицом кавказской национальности, пиковым, черным, зверем и тому подобное. Но полностью понимал язык и людей на нем говорящих. Дома я свой, на родине, но кроме небольших познаний на примитивном бытовом уровне, я ничего не понимаю из произвольного разговора. Это как, например: англичанин проживает в одной из английских колонии, где государственный язык английский и все принадлежит королеве, но население говорит между собой на непонятном наречии.
Эмоционально, ментально я чувствую принадлежность к своему народу, но выражать языком не могу.
Отец никогда не говорил с нами на родном языке, как будто не считал нужным, чтоб мы знали его язык. В село, как многие живущие в городе, мы не ездили, связь с землей была потеряна у нашего семейства. И результат всего этого – космополитизм.
Я не чувствую себя полностью кабардинцем, я не чувствую себя осетином, я не чувствую себя русским. Кто я? Вобравший все понемногу.
Пропасть, духовная пустота делала меня беспомощным во многих вопросах жизни. И теперь это мешало в общении с Мариной. Я припомнил, что как-то она развозила таблетки и я начал разговор с ней.
– Как дела, Марина? Все хорошо?
Она коротко бросила.
– Та-а! – что-то среднее между русским и кабардинским «да».
– Как выходные? Хорошо отдохнула?
– Та-а! – отвечала она резко и по-детски.
Я расплывался в улыбке, а она катила тележку дальше.
Однажды, проходя мимо сестринской, я увидел Марину… Она сидела за столом и что-то писала. Я зашел.
– Привет, Марина!
– Привет, – ответила она.
Я прошел к столу и присел напротив.
– Что делаешь?
Марина вздохнула, положила ручку и сняла маску с лица.
– Почему ты избегаешь меня? Я хочу поговорить, а ты как будто боишься?..
Марина встала из-за стола. Подошла к раковине, открыла воду и начала мыть руки.
– Я разочарова-алась в мужика-ах! – проговорила она.
Я невольно рассмеялся, так забавно она это сказала.
– Почему?
– Все мужики пьяницы и наркоманы.
– Я не такой.
Марина смотрела на меня покачиваясь, подыскивая слова для ответа.
Тут показалась Роза, подняла крик и выгнала меня из сестринской, как козла из огорода.
Я пошел дальше, размышляя над словами Марины. Ей всего двадцать три года, что-то рановато она разочаровалась в мужиках.
У неё был несчастливый опыт – она была разведена и воспитывала дочку. Муженек её бывший, по рассказам, наркоман любитель и амеба обыкновенная (мне показывали его), представлял жалкое зрелище.
Марина – кабардинская красавица, кровь с молоком, белокожая, румянощекая, с большими карими глазами, тонкими бровями, маленьким аккуратным носиком, пухлыми губками и жемчужными зубками. Цветок Кабарды! Вобравший дух прекрасной Сатаней. Кровь и соль этой земли.
И этот цветок сорвал и бросил какой-то невежа, быдло, неспособный понять пагубность своего поступка. И среда способствовала этому, лишь бы выдать замуж, лишь бы как у всех. Важнее форма, чем содержание.
И получается такая картина – медсестры, за редким исключением, разведенные матери одиночки. Неудовлетворенные женщины, побывавшие неудачно замужем, злые и раздражительные. И вместо теплоты и понимания, от них веет черствостью и безразличием.
Да, медсестры тоже люди. Они работают за смешную, как сами говорят, зарплату. А жизнь тяжелая, проблемы: семья, дети, детсад, школа, свадьбы, похороны. Хочется и самой выглядеть… Какие тут больные?
Я-то их ой как понимаю и пытаюсь поменьше надоедать и от них зависеть.
Принес как-то Марине в процедурный кабинет веточку цветущей алычи. Красота! Сказал, чтоб в воду поставила, глазу приятней и аромат по кабинету. Марина смотрела на меня из-под медицинского камуфляжа, тыльной стороной ладони чепчик поправляла устало. А в глазах ни благодарности, ни удивления. Наверное, подумала: «Вот ещё ухажер нашелся?! Ты б встретил меня после работы. Посадил бы в теплую машину. Помог бы забрать дочку из садика. Покормил бы вкусно в приятном заведении. И так постоянно. Тогда бы я посмотрела на тебя по-другому».
Тем не менее я продолжал оказывать безобидные знаки внимания. Но точек соприкосновения не находилось. Я был голодранец, бродяга, босяк, да ещё больной. И перспектив с Мариной не было никаких.
11
Наступил апрель месяц – время, когда все цветет! Алыча, вишня, абрикос, яблоня, украшают землю своим цветом!
Помню, еще в школе в это время года особенно не хотелось просиживать уроки в пыльных классах. Душа рвалась во двор, на природу. Что-то таинственно-манящее рождается в апреле.
И остро чувствуется неполноценность жизни легочному больному. Нет легкости в груди, одолевает тягостное чувство, не видно конца и края недугу, который незаметно забирает из тебя силы.
Я часто смотрел на руки, как на чужие, в них не было былой силы, под вечер они высыхали и кровоток пропадал. Это не мои руки, – говорил я себе и думал, – неужели нельзя победить эту заразу – чахотку?
Но панические настроения не к чему, нужно бороться, видеть позитив во всем, а где его нет – создавать самому. Только так и никак иначе.
В «Дубках» недалеко от больницы был большой яблоневый сад. Он переходил с холма на холм и терялся где-то в предгорьях. Еще в феврале, когда было мало снега, я ходил гулять в сад, поднимался на холмы. От нагрузки чувствовал каверну, она тянула, как черная дыра, под ключицей. Но даже это не портило впечатление от прогулки. Просидев всю молодость в каменном мешке, научишься ценить возможность бывать на воздухе.
А в начале марта я ходил в лес у нас на «Горной» (район Нальчика). Раньше, когда в детстве мы приходили за вербой, можно было за полчаса дойти до леса. И стоять на пыльном шелестящем ковре прошлогодней листвы, через которую пробивались первые фиалки и ландыши.
Теперь же город вторгался в природу, застраивался глубже и глубже. Становилось жалко, что в недалеком будущем до леса будет не добраться, по примеру мегаполисов, где клочок зелени роскошь. И придется скучать по времени, когда входил в весенний лес и вороны оповещали округу карканьем. Сойки подхватывали и несли гомон во все стороны. Кружились орлы над холмами, плывущие в просторе, растопырив оперенье крыльев, как пальцы.
Зарядившись солнцем, ароматом весеннего леса, пеньем птиц, выходишь с букетом вербы и чувствуешь, как пульс города приближается: перестук строек, шум трассы проникает в тебя. Взрывается, бьёт по ушам пылящим грохочущим железом – грузовиком, дышащим вонючей соляркой. И стук женских каблуков по асфальту, а главное, сами люди, пугают душу побывавшую в лоне природы. Ты идешь по городу и не понимаешь его суеты. А город не понимает твоего романтизма. Вдруг бабушка кричит, стоя у подъезда:
– Парень, сынок, дай веточку вербы!
– Пожалуйста, бабуля.
– Ой, спасибо, – бережно берет раскидистую. – Тоже пойду, посвящу.
Теперь для меня был первый апрель и я не мог усидеть в палате. Хотелось как можно больше времени проводить на природе, душа рвалась к теплу и солнцу.
Сад расцвел и представлял прекрасное зрелище! Белое и розовое цветение гармонировало с народившейся зеленью. Ковер, по красоте с которым не сравнится ни один персидский, устилал подножие главного кавказского хребта. Горы играли на весеннем солнце, переливаясь фантастическими гранями, как огромный бриллиант, обрамленный цветущим садом. Ветер легкими порывами надувал свежесть и звал куда-то, дурманя всеми оттенками весеннего букета. Белые кучевые облака замерли в причудливых формах на краю голубого и глубокого, как море, неба. Если есть рай для человека, живущего в этом краю, он выглядит так.
Никто как будто не разделял моих чувств, для обитателей больницы такая красота была обыденностью. Благодатная погода стимулировала лишь немногих спуститься во дворпуса посидеть на лавочках. Большинство же так и копошилось в помещениях, не замечая солнца, которое не замечало их. Только наркоманы были на ногах с утра. Они, как неутомимые муравьи, промышляли насущными проблемами, их тропинки и условные знаки неведомы обывателю.
Я же, как человек, необремененный зависимостью от стимуляторов, мог просто наслаждаться жизнью и решил пойти на прогулку в сад. Компанию в прогулке с удовольствием составила Ася.
Мы до сих пор общались. Ей нравилось наше ни к чему не обязывающее общение.
Ася говорила, что была замужем в Ингушетии, куда её в молодости украли. В результате чего у неё была совершеннолетняя дочь, подарившая ей внука, и был сын школьного возраста. Была она в разводе или являлась вдовой, я не помню. Ася рассказывала историю про какую-то ещё любовь, которая предательски покинула её в трудную минуту. Был теперь и Николай, о котором она положительно отзывалась, как будто собиралась связать судьбу и узаконить отношения браком. Несмотря на это, не упускала шанса провести время со мной.
Правда, обстоятельства складывались так, что встречаться после выписки Гули было негде. Первая палата больше не давала повода дойти до конца коридора. Но сама природа помогала и давала ответ.
Прихватив покрывало, бутылку воды, сок и одноразовые стаканчики мы с Асей отправились в сад. Найдя лаз через накиданные ветки, имитирующие подобие забора, пробрались на территорию сада. Оказались в другом мире, зовущем забрести подальше.
Было около полудня, апрельское солнце кусалось на открытом пространстве и хотелось быстрее добраться до места. Мы спустились в низменность, корпус больницы скрылся из вида.
У подножия холма паслись коровы, которые провожали нас взглядами, пережевывая жвачку свежей травы и, похлестывая хвостами, отгоняли назойливых насекомых. Присутствие человека не было заметно, тишину нарушал лишь шелест травы под нашими ногами и хруст сочного коровьего жевания. Мы обошли коров стороной и стали подниматься на холм. Подъем заставил попотеть, но надо заметить, Ася терпеливо шла за мной по примятой траве, разросшейся на загривке холма уже по колено.
Поднялись на холм. Перед нами открылась живописная картина. Вокруг красовались горы во всем великолепии! Справа внизу, как детский конструктор на паласе, разбросался город. Позади нас виднелись тонувшие в зелени корпуса больничного городка.
Между цветущих яблонь я постелил покрывало. Земля успела прогреться и можно было не бояться ревматизмов. Апрельское солнце было ласковое для солнечных ванн. Мы с Асей наслаждались в костюмах Адама и Евы.
Стояла тишина, нарушаемая лишь пением птиц, стрекотанием насекомых и игрой ветра в молодой листве. Все это сливалось в звуковой фон, который дополнял картину райского сада.
Лежа на спине, разбросав руки и ноги, я смотрел в небо, где резвились стрижи и ласточки. По небу, как катер по морю, плыл большой самолет, оставляя след белоснежной морской пены. Самолет проплывал с юга, из-за хребта гор, и когда начал теряться из вида, послышался далекий гул моторов. В Россию летит, – подумалось мне, – из теплых стран.
Вдруг зазвонил мобильник…
Звонил Басир из тюремного ада.
– Тенгиз! Салам! – послышался бойкий голос.
– Салам, Басир!
– Как ты, родной? Чем занимаешься?
– Я в раю!
– Как в раю?
– В цветущем саду с женщиной! – сказал я и посмотрел в небо.
Орлы парой кружили в горделивом танце прямо над нами.
– Её не Ева зовут? – рассмеялся Басир.
– Ася.
– Рад за тебя. Молодец!
– У тебя как, Басир?
– Да у меня… ты же знаешь…
– Опять черти одолевают?
– Да, пытаются… постоянно мутят что-то.
– Крепись, братан, сочувствую.
– Я их гоняю. Они никак не угомонятся. Соберутся гурьбой, рога и хвосты прятать пытаются. Интриг наплетут, кровь начинают сворачивать. Но сколько не прячь, все равно видно. Я их быстро на место ставлю, – посмеялся он.
– Знаю, братан…
– А что за девочка с тобой?
– На, поговори, – передал я трубку Асе.
– Ал-ло, – протянула Ася улыбаясь. – Спасибо, взаимно.
Они поговорили и Ася вернула трубку.
– Ладно, братан… Береги себя! Поправляйся! – пожелал Басир.
Я понимал, как там тяжело и мысленно пожелал ему скорейшего освобождения. Но этот человек не привык падать духом ни при каких обстоятельствах.
Солнце клонилось к горам, приближался вечер. Надо было возвращаться. Мы невольно завели разговор о больнице. Ася, между прочим, сказала:
– В первую палату положили девочку. Ты к ней не подходи, она больная.
– Мы все больные, – не придав значение её словам, ответил я.
– Но она очень больная, к ней нельзя подходить… даже здороваться с ней нельзя, – сказала Ася серьезно.
– И чем же она болеет?
– Не знаю.
– ВИЧ, РАК?.. Почему нельзя к ней подходить? Не проказа же у неё?
– Не знаю… Мне один пацан сказал, который её знает.
– Откуда знает?
– Они с одного района.
– Ладно, хорошо, – сказал я, а сам подумал: «Неспроста Ася это говорит, так переживает, что предупреждает об опасности? Смешно. Что-то неубедительно это звучит. Больше похоже на бабские интриги. Соперницу почуяла? Я даже не знаю, о ком речь».
Мы вернулись в больницу.
Это была последняя близость с Асей. Было что-то знаковое в том, что наши отношения закончились после такого красивого свидания. Только разрыв произошел не сразу.
Вернувшись как-то вечером из дома, я застал такую картину в палате. Ася разговаривала по мобильнику, Кала и дед, недоумевая, смотрели на неё. Она была пьяна и раздражено ругалась матом. Увидев меня, Ася улыбнулась захмелевшей улыбкой и продолжила пьяную брань. Кала и дед удивлено пожимали плечами. Я подождал, пока она не закончила, и выпроводил из палаты.
Честно говоря, меня нервировало такое поведение.
– Я говорил, пьяная ко мне не подходи?
Ася протянула ко мне руки, – ну-у…
– Иди к себе, ты пьяная, – сказал я категорично.
– Ну… что ты?
– Уходи и ложись спать! – сказал я, чуть ли не срываясь на крик.
Ася обижено вышла из палаты.
– Что она тут делала? – спросил я у сопалатников.
Кала, округляя глаза от удивления в свойственной ему манере, проговорил:
– Зашла, как себе домой и сидит тебя дожидается. Если б я знал, что так… сам бы погнал её.
– И надо было погнать. Нормально относишься – на шею садится.
Позже я вышел в коридор, там, сидя на табурете, курил Альба. За ним что-то виднелось. Я подошел, поздоровался. Он, затягиваясь, покосился, показывая на… это была Ася. Она сидела на корточках, облокотившись о стену и тоже неумело курила, за ухом у нее торчала еще одна сигарета. Она что-то бубнила себе под нос.
– Ты, обидел её чем? – спросил Альба с иронией.
Ася что-то промямлила…
Я посмотрел на неё внимательно и подчеркнуто фамильярно проговорил:
– Женщина, вы пьяны, пройдите в свою палату и ложитесь спать!
Ася обижено разговаривала сама с собой.
Альба похихикал этой сцене, а я пошел восвояси.
12
Знакомство с особой, о которой предостерегала Ася, произошло совершено обыденно. Ничто не предвещало бурного романа, да и романа вообще. Как бывает в подобных случаях: «Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждешь».
Однажды будним днем я собирался на прогулку, когда ко мне подошел Альба и попросил принести сигарет.
– Ты на легкие перешел? – спросил я.
– Это не мне, попросили.
Я принес сигареты и положил на стол. Мы стояли на балконе, когда в палату вошла девушка в бордовом халате. Альба сказал, чтоб взяла сигареты. Девушка поблагодарила. На что Альба заметил:
– Его благодари. И вообще, такие люди ходят тебе за сигаретами, ты даже не представляешь.
– Ладно тебе, – сказал я, – ты сейчас наговоришь.
Девушка не решилась заговорить со мной. Перекинулась парой фраз с Альбой и вышла из палаты.
– Кто это? – поинтересовался я.
– С первой палаты. Недавно положили, только вставать стала.
– Да, я заметил – по стеночке ходила. Её и сейчас пошатывает. Откуда она?
– Терская, – сказал Альба многозначительно.
– Понятно, вы по-землячески спелись, – пошутил я.
– Я ни с кем не спелся, – язвительно произнес он. – Куда мне до тебя? Она просто попросила принести сигареты.
– Что тут такого?.. Курить только плохо.
– Не пройдет и десяти дней, как ты с ней споешься. Вот увидишь… Отвечаю, – сказал Альба и прилег на койку.
– Глупости не говори, – сказал я и вышел из палаты.
Я припомнил, что встречал эту девушку возле процедурного кабинета. Она была в этом же бардовом халате, великоватом, висевшем на ней, как на вешалке. Из-за чего понять фигуру было нельзя. Привлекали лишь большие светлые глаза. В остальном же ничего замечательного в ней не было.
Второе наше знакомство произошло так же в палате у Альбы, куда я частенько захаживал.
– Перекусить не хочешь? – спросил он. – Сейчас принесут.
Я присел, мы разговорились. Дверь палаты открылась, зашла наша знакомая. В руках у неё была тарелка, на которой был сервирован сыр, редиска, свежая зелень. Она хотела преподнести Альбе, но он показал на стол. Тогда она поднесла тарелку мне, я взял кусок сыра, немного зелени и принялся жевать, раскачиваясь на сетке койки.
– Может быть, варенье будете? – спросила она, как бы желая нам угодить, – домашнее, принести?
Альба промолчал, а я спросил:
– Как тебя зовут?
– Ира.
– Благодарю, Ира, не надо. Посиди с нами.
А Альбе сказал:
– Сейчас женская забота такая редкость. Оцени!
Ира посмотрела на меня заинтересовано, изучающим взглядом.
В разговоре Ира приврала, что училась в мединституте… запуталась и созналась, что училась в медучилище. Но заверила, что уколы может делать легко.
Я подумал: «Хотела приукрасить, набить себе цену, или?..» А оценивая, как женщину: «Какая она страшненькая, нос широкий с высокой горбинкой, лоб узкий, густые русые волосы растут чуть ли не от бровей, когда улыбается рот большой, клыки немного выступают из общего ряда передних зубов».
Я не удержался и пошутил:
– Девушка, вы с графом Дракулой не знакомы?
Но Ира не поняла шутку и призадумалась.
Когда она ушла, я сказал Альбе:
– Девушка оказывает тебе знаки внимания. Не теряйся.
Он пробубнил что-то неопределенное.
Позже Ира сама сделала шаг навстречу.
Как-то в солнечный день, когда коридор стихает после обхода и процедур в дверь постучались. В палату зашла Ира. Неловко улыбаясь и приглядываясь к незнакомой обстановке, спросила, может ли со мной поговорить? Я попросил её присесть.
Ира неуверенно начала говорить, что якобы одной девушке нравится парень, то есть я, но она стесняется и, вообще, как ей быть?
Зная эту игру, я не торопился с ответами, давал выговориться и наблюдал за ней.
Ира была одета не по больничному – в бардовый халат, а в короткие джинсы – бриджи и салатного цвета кофту. Впервые увидел на ней макияж. Говорила она, склонив голову набок, и лишь поглядывала на меня.
Я смотрел на неё и думал: «Зачем мне это?»
Ира не нравилась мне нисколько. Это был не мой тип. В ней не было ничего привлекательного. Ничего кроме глаз. Большие серо-голубые глаза были настолько ясные и живые, что таких красивых, притягательных глаз я никогда не видел.
Передо мной проплыл мираж… я увидел ангела, весь образ которого напоминал скорее демона. Он прошел семь кругов ада и семь огней стыда, попадал в силки, где бился, как птица. Побил, порезал, опалил крылья. Так устал и измучился от непроглядной тьмы непонимания и грязи бытия среди демонов, что стал похож на них. И лишь миндалины огромных глаз, чистых, как детская слеза, отражали божественный свет так, как отражает душа ангела.
«Глаза – зеркало души, – подумал я. – Посмотрим, что кроется за этим сокровищем?»
Ира попросила мой номер и, записав в память раскладной «Моторолы», просияла.
– Ладно, – сказал я, вставая. – Мне надо съездить домой.
Ира жалобно посмотрела на меня. – Можно я провожу тебя?
– Зачем?
– Просто… Мне так хочется.
– Хорошо, проводи.
Для меня это было ново. Я не привык к такому обороту. Но что-то интриговало и я не пасовал.
Не дойдя до троллейбусной остановки, мы присели на лавочку. Я не торопился, было около трех по полудню. Погода стояла хорошая, располагала к лирической беседе.
Ира рассказала, что мать бросила её в детстве, оставила у бабушки, матери отца, и вышла замуж повторно. Развязка семейного кризиса пришлась на её рождение. Отец сидел. Воспитала её бабушка. Потом, в четырнадцать лет, по настоянию тетки, её выдали замуж. Будущему мужу нужна была отсрочка от армии, и не думая о последствиях, какие непременно бывают в таких случаях, сыграли свадьбу. А последствия не заставили себя ждать и явились в форме внематочной беременности, операции и удаление правой трубы по-женски. При словах, что она не может иметь детей, глаза Иры налились слезами.
Еще, что после четырнадцати лет в браке, она находится на стадии развода. Муж винит её, как бесплодную, и не хочет с ней жить. Врачи тоже говорят, что причина в ней и перспектив стать матерью никаких.
Ко всем бедам еще и туберкулез. Обычная картина – он там, где всё так.
Я сел в троллейбус и поехал домой.
Принял душ. Выйдя из ванной комнаты, нашел свой мобильник с несколькими пропущенными вызовами и сообщениями. Мать тоже сказала:
– Твой телефон разрывается. Кто это тебе звонит?
Это была Ира. «Она не из тех, кто, взяв номер телефона, неделю собирается позвонить», – подумалось мне. Не прошло нескольких минут, как Ира опять позвонила.
– Ты что трубку не берешь? – спросила она неуверенно.
– Я в душе был.
– А-а… Когда ты приедешь?
– Скоро, а что?
– Ничего. Хочу, чтоб ты поскорее приехал.
В трубке послышался смеющийся женский голос.
– Ты с кем? – спросил я.
Уж больно это напомнило Асины звонки с очередной попойки, где слышны были хмельные голоса. Она обычно пьяная звонила и перечисляла с кем и где они бухают.
– С Залиной на лавочках сидим, – ответила Ира. – Как ты уехал, я в больницу не заходила. Погода хорошая. Залина вышла, и мы тут сидим, семечки грызем. Приезжай.
– Уже выезжаю.
Я сохранил её номер в памяти мобильного телефона, записал «Ира». Позже она перепишет на «Иришка».
События закручивались с небывалой быстротой. Но это забавляло меня, было интересно переворачивать страницы увлекательной книги – жизни. Самой простой больничной жизни.
В эту же ночь мы с Ирой познакомились, что называется, поближе. Я приехал в больницу и не переставал удивляться. Ира и Залина были какие-то возбужденные, как говорится, навеселе, будто гуляют на выпускном вечере. Окружили меня чрезмерным вниманием, танцевали, куда-то тащили, просто заполнили собой. Я не понимал, как реагировать, и поддавался этой немного сумасшедшей игре.
Вечер мы провели у меня. Обход, который проводится перед отбоем, спугнул Иру и Залину, медсестры разогнали их по палатам. Я выключил свет и начал готовиться ко сну.
При свете экрана телевизора я умылся и расправил постель. Дед лежал, смотрел какой-то старый фильм.
В коридоре рассыпалось веселье, покатился смех! Я вышел из палаты и увидел Иру и Залину, заигрывающих со всеми, кто попадался. Заметив меня, Ира, пританцовывая, продефилировала ко мне, пытаясь увлечь танцем. Становилось шумно, я попытался остудить её, но она не унималась. Дабы избежать скандала с медсестрами, я завел Иру к себе.
– Не шуми в коридоре. Что ты не спишь?
– Не хочу, – ответила она, осматриваясь в темноте.
– А что хочешь?
– Хочу с тобой…
– Что со мной?
– Хочу с тобой, – повторила она, как ребенок.
– Ложись, – показал я на койку.
Ира, как по команде «тревога» в армии, только наоборот, разделась и прыгнула в постель. Каково же было мое удивление… Я думал, моя прямота отпугнет её, но не тут-то было.
«Да… такого я еще не видел, это что-то новенькое».
– Дед, – обратился я к Виктору. – Ты уж не обессудь, посиди у соседей часок, пожалуйста.
– Я у Васи чайку попью, – понял дед без лишних слов и вышел из палаты.
«Неудобно получается, – подумал я. – Ну да ладно, не каждый день девушки прыгают ко мне в постель».
Наутро Ира не находила себе места: «Вот я дура! Что я наделала? Что он обо мне подумает?» Она стыдилась своего поступка и не показывалась на глаза несколько дней. И я решил, продолжения не будет, и не ждал развития событий. Но она снова сделала первый шаг.
Возвращаясь в больницу после майского ливня, я шел по тротуару, прыгая через лужи, и пытался не давить червяков. Ноктюрн майского ливня завораживает. Дождевые черви выползают и дарят праздник дроздам, пирующим на этом концерте. Ноктюрн стихает звоном ручейков, капелью молоточков по металлофону, пеньем птиц. И воцаряется аромат цветения.
Вдруг зазвонил мобильник.
– Привет! Ты где? – это была Ира.
– Подхожу к больнице.
– Я тебя встречу, сейчас…
Я поднялся на второй этаж, Ира только спускалась меня встречать.
– Ой!.. – засмеялась она. – Я не знала, что ты так близко, – остановилась пролетом выше и протянула ко мне руки.
Ира была неожиданно в черном: юбка до колена и кофта, на ногах туфли на маленьком каблуке. Оделась как на вечеринку в ПТУ. Накрасилась ужасно: ярко, вызывающе, вульгарно.
«Надела, что было или вкус отсутствует напрочь? – подумалось мне. – И к чему такая пёстрость в больнице?» Одним словом, её вид раздражал, если не сказать большего.
– Тебе нравится? – спросила она, прижимаясь ко мне на лестнице.
– Праздник какой-то?
– Мне так захотелось. Не нравится? – всматривалась она в меня.
– Конечно, нравиться, – повел я её на этаж.
– Для тебя, для себя… Могу я одеться?
Мы шли по коридору, и в чувстве неловкости я находил положительные моменты. Было приятно, что для меня кто-то одевается, пусть и не лучшим образом. Кто-то ждет меня, пусть и не мой идеал.
То, что идет к нам само собой – от Бога.
Вечер мы провели у Залины. Ира с Залиной потягивали пиво и курили легкие сигареты. Временами заглядывали девочки с соседних палат. Поводом служили просьбы ниток, сигарет, чая. Такое необъяснимое и вместе с тем понятное женское любопытство.
Ира присаживалась мне на коленки и прижималась щекой к моей щеке, при этом произнося: «Уф-уф-уф!.. Ух-ух-ух!..» Как мать прижимается к ребенку. Полная приязнь, удовольствие присутствия, что-то такое.
Эту ночь я провел с Ирой в первой палате. Довел её до слез, нечаянно. В какой-то момент заговорил о Марине. Иру это обидело, она долго не могла успокоиться. Под дверью полночи слышались шорохи, будто ползали змеи.
– Какой ты жестокий, – говорила Ира сквозь слезы. – Ты со мной, а говоришь про какую-то Марину.
Я не понимал её слез? Ведь не говорил Ире, что люблю её. Ничего не обещал. Наша связь была её инициативой, я лишь поддался. А тут уже обиды.
Наутро я прокрался к себе в палату, пока уборщицы не вышли в коридор, и лег досыпать. Мои амурные похождения приходилось делать при строжайшей конспирации, чтобы комар носа не подточил. Только дай повод – хлопот не оберёшься.
Днем я заглянул к Альбе. Он раздражено процедил сквозь зубы:
– Разберись со своими женщинами.
– С какими женщинами?
– С такими. Сколько их у тебя?
– Что ты несешь? Говори нормально.
– Ася приперлась около полуночи… Я уже спать укладывался, в трусах стоял, телевизор выключал. Она бухая кричит: «Пойдем, послушаем, чем они там занимаются».
– И что?
– Я послал её…
– И правильно сделал. Если она погнала, я тут причем? Я же не виноват, что тут, кроме туберкулеза, диагнозов хватает.
«Так вот какие шорохи я слышал под дверью. Это Ася подслушивала. Совсем с ума сошла».
Но Альба неспроста так язвил, его «жаба душила», вот и поносил при удобном случае.
Еще Ася в ту же ночь в припадке ревности наломала немало дров.
В нашу палату вместо Калы положили молодого пацана по имени Аслан. Симпатичный, приятный, на первый взгляд, парень. Так вот, Ася стала приставать к Аслану, чтоб лечь с ним в постель до утра. При этом уверяла, что бояться ему нечего.
– Я разденусь, а ты нет, – говорила она.
Фокус состоял в том, что Тенгиз утром увидит эту картину, будет ревновать и, возможно, кусать локти.
Аслан тоже послал её куда подальше. И Ася ничего лучше не придумала, чем сесть под дверью первой палаты и пытаться подслушивать.
Рассказ Аслана подтвердил дед, и сомнения развеялись. Многочисленные свидетельства половины отделения говорили о том же. Я не ожидал такого. И не понимал, почему Ася, старше меня на шесть лет, бывшая несколько раз замужем и готовившаяся к очередной партии, имеющая детей и внука, так быстро и бессовестно сошла с ума?
Начался пьяный прессинг из-за угла. Ася оказалась не из тех женщин, которые могут разумно развязать узел. Её хватало лишь на то, чтоб напившись звонить и выяснять отношения. Трезвая она не попадалась на глаза.
Как-то мы с Ирой сидели на балконе. Сумеречная тишина воркованием горлиц баюкала сосновую рощу. Темной вуалью опускалась ночь. Вороньим криком нарушил тишину звонок мобильника.
– Тебе сейчас хорошо? – послышался пьяный обиженный голос Аси.
– Да, – ответил я, недолго думая.
– А мне плохо. Знаешь, как мне плохо?.. Я сейчас приду, – неожиданно сказала она.
– Не надо приходить, – отрезал я. – Ты пьяная. Завтра поговорим.
– Это Ася? – спросила Ира, сидя у меня на коленях.
– Да.
– Что она хочет?
– Ничего.
– Как ты мог с ней связаться?! Фу!.. – противно икнула Ира.
– Это было до тебя. И потом, она не бухала, когда была со мной. Я и сейчас поговорил бы с ней, если бы трезвая позвонила. Но нет же, напьется и начинает приставать с обидами.
– Тебе её не жалко?
– А почему мне должно быть её жалко? Я жениться на ней не обещал. Сама виновата. На приключения потянуло. А теперь что? Как она себя повела? Взрослая женщина, должна понимать… А она концерты закатывает, как в студенческом общежитии.
– Я себя так никогда бы не повела, – сказала Ира с пафосом. – Даже если бы увидела тебя с кем-то, виду бы не подала.
– Так поступают умные женщины. Ты такая?
– Да! А что?.. Должна же быть какая-то гордость.
«Ну-ну, посмотрим, – подумал я. – Поначалу все так говорят: я не такая, гордость».
Ася не унималась, все сильнее бесилась и плела интриги. Далее она дойдет до открытой подлости из «засады», а пока её испорченной фантазии хватало лишь на мелкие пакости.
Как-то раз днем позвонил скрытый номер. Молчание, непонятные звуки. Позже опять позвонил скрытый номер, только теперь там ахали и охали. Я догадался, что кроме Аси такие глупости никому в голову не придут, и сбрасывал.