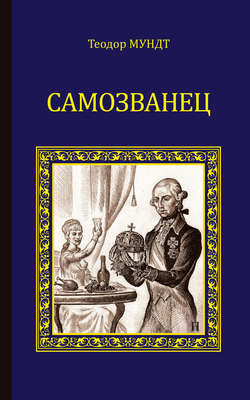Читать книгу Самозванец (сборник) - Теодор Мундт, Theodor Mundt - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Самозванец
Часть вторая, в которой наш герой выступает в опасной роли
ОглавлениеI. У графини фон Зонненберг
Дворец графини фон Зонненберг, двоюродной сестры князя фон Кауница, сверкал ослепительными праздничными огнями, поджидая гостей, которые уже в третий раз в этом сезоне спешили туда, чтобы провести время за игрой, танцами и веселыми разговорами.
Вечера у графини неизменно отличались шумным весельем, потому что хозяйка делала все, чтобы изгнать из своего дома мертвенную сухость испанского этикета. Туда приезжали без парадных мундиров и орденов; всякий принятый в дом графини гость мог свободно заговорить с другим гостем, невзирая на разницу рангов и титулов. В этом отношении графиня всецело была на стороне императора Иосифа, который тоже изо всех сил боролся с нелепостью испанской «грандецца», столь дорогой сердцам старых придворных, воспитанных на накрахмаленном величии прежних традиций.
Постепенно большой зал наполнялся. Среди гостей особенно выделялись русский и французский посланники, генерал-фельдцейхмейстер граф Кевенполлер с женой, граф Лихтенштейн, княгиня Кинская и красавица графиня фон Нейнперг. Князя Кауница, который обыкновенно бывал неизменным гостем вечеров своей кузины, на этот раз не было там – он прислал сказать, что нездоровье удерживает его дома.
В половине одиннадцатого графиня Зонненберг вышла из зала – вероятно, для того, чтобы отдать какое-нибудь распоряжение по хозяйству. Через несколько минут после этого лакей широко распахнул дверь в зал и провозгласил:
– Господин барон фон Кауниц, майор и атташе посольства!
В зал вошел гренадер Лахнер. Его появление вызвало оживление. Внушительная фигура, приятное лицо и изысканность, сквозившая в движениях молодого человека, привлекли всеобщее внимание. По имени его знали почти все, но в лицо – никто.
Зная, что на вечерах графини Зонненберг каждый гость мог свободно заговаривать с кем угодно, не дожидаясь случая быть представленным, Лахнер обратился к близстоявшему от него молодому барону фон Ридезелю, родственнику прусского посла, и завязал с ним оживленный разговор, который дался ему особенно легко в силу того, что темой этого разговора смелый гренадер избрал симпатичный распорядок, царивший на вечеринках графини.
В самом непродолжительном времени он очутился в центре кружка кавалеров и дам, искавших близкого с ним знакомства и желавших разузнать, как живется «милейшему барону Кауницу». Нельзя сказать, чтобы Лахнер чувствовал себя особенно хорошо. Ежесекундно он должен был помнить, что достаточно одного неосторожного слова или выражения – и все погибнет: ведь манеры и привычки того общества, в котором ему пришлось вращаться теперь в качестве равного, были известны ему только понаслышке. Правда, в натуре Лахнера было глубоко заложено прирожденное благородство; природный такт и большая наблюдательность помогали ему быстро осваиваться в чуждой ему среде. Но все-таки… все-таки как немного нужно было для того, чтобы поскользнуться и упасть на этой скользкой почве.
Это особенно ясно пришлось Лахнеру почувствовать в тот момент, когда он увидал одного господина, быстрым шагом приближавшегося к нему. При виде этого человека вся кровь застыла в жилах Лахнера…
Это был не кто иной, как его полковой командир.
– Где он? – гремел мощный голос графа фон Левенвальда, командира гренадерского Марии-Терезии полка. – Майор Кауниц!
– Здесь, – с решимостью самоубийцы ответил Лахнер, чувствуя, что сердце останавливается в его груди.
Полковник подошел к нему и уставился пытливым взглядом в его лицо. Видно было, что он был страшно взволнован.
Лахнер неоднократно видел своего командира вблизи, а недавно ему даже пришлось стоять лицом к лицу с ним. Как-то однажды Левенвальду показалось, что косичка гренадера Лахнера заплетена не по форме. Он подозвал к себе его и тщательно осмотрел, но, убедившись, что ошибся, отпустил его.
Теперь командир снова стоял перед ним. Его глаза сверкали, лицо судорожно дергалось.
Лахнер не мог хорошенько понять, радость или гнев выражает лицо графа.
Вдруг Левенвальд распростер объятия и сказал сдавленным голосом:
– Артур, милый мой Артур, неужели ты не помнишь Левенвальда, который подарил тебе когда-то – тебе тогда не было и десяти лет – маленькую лошадку для верховой езды?
– Боже мой, разве могу я забыть об этом! – в тон полковнику ответил гренадер. – Я, как сейчас, вижу эту очаровательную послушную лошадку…
– Артур, приди в мои объятия! – Полковник радостно обнял гренадера и даже поцеловал его, проливая слезы радости, а затем обратился к окружавшему их обществу: – Простите, господа, что я дал волю своим чувствам. Но, господи боже мой, ведь это – сын моего лучшего друга, это – мой Артур, наследник всего моего состояния… И как он похож на незабвенного Пауля… я хочу сказать, на своего отца…
– Для меня было очень приятной неожиданностью встретить вас здесь, – сказал гренадер. – Я рассчитывал завтра навестить лучшего друга моего отца, но случаю было угодно, чтобы это радостное свидание состоялось здесь. Я благословляю этот случай!
Граф Левенвальд горячо потряс руку Лахнера и сказал:
– Спасибо тебе, милый Артур, что ты платишь любовью за мою горячую привязанность к тебе… Ну и вырос же ты… Когда ты думаешь вернуться в Лондон?
– Надеюсь – никогда, – ответил Лахнер. – Я собираюсь вновь поступить на военную службу.
– Вот что значит настоящая солдатская кровь. В тебе сказываются отцовские наклонности и вкусы.
– Как? Вы, барон, хотите отказаться от дипломатической карьеры? – подхватил какой-то господин, стоявший около полковника. – Но ведь вы выказали такие незаурядные способности, что перед вами, казалось, были открыты все пути?
– Что же делать, если душа не лежит к дипломатическому поприщу, – ответил Лахнер. – Я уже давно хотел отказаться от него, но обстоятельства складывались таким образом, что это было совершенно невозможно.
– А теперь эти обстоятельства изменились?
– О да, настолько, что даже дядя посоветовал мне подать прошение о принятии меня вновь на действительную военную службу. Он уверен, что я могу получить в командование полк…
– Ну разумеется… с вашими способностями… – сказал незнакомец, сопровождая свои слова легким полупоклоном.
Лахнер ответил ему тем же, и незнакомец отошел в сторону.
– Знаешь, с кем ты сейчас говорил? – спросил его Левенвальд.
– Нет. Кто это?
– Это барон де Бретейль, французский посланник.
В этот момент двери смежного с салоном танцевального зала распахнулись, и оттуда послышалась ритурнель[15], приглашавшая к танцам. Все устремились туда. Лахнер вздохнул свободнее, надеясь, что всеобщее внимание будет теперь отвлечено от него. И действительно, теперь никто больше не занимался лже-Кауницем, за исключением самого опасного для Лахнера человека – графа Левенвальда. Как ни надеялся Лахнер, что и командир тоже покинет его, тот продолжал занимать его воспоминаниями о прошлом – почва, где легче всего было поскользнуться нашему невольному самозванцу.
«Господи, – тоскливо думал он. – Хоть бы мне как-нибудь избавиться от этого субъекта!»
Избавление пришло скорее и неожиданнее, чем даже ожидал Лахнер: к нему подошел камердинер, сообщивший, что графиня желает переговорить с ним и ждет его в своем будуаре.
Лахнер извинился перед Левенвальдом и прошел к графине Зонненберг.
Та приняла его с явными знаками дурного расположения духа.
– Князь доставил мне очень большую неприятность и беспокойство, прислав вас ко мне, – сказала она. – Меня до такой степени нервирует этот обман, что я не в состоянии выйти к гостям – придется сказаться больной.
– Очень сожалею, что обстоятельства заставили простолюдина переступить ваш аристократический порог, – с ледяной вежливостью ответил Лахнер.
– Да не в этом дело, – перебила его графиня, безнадежно махнув рукой, – я вовсе уж не такая фанатичка аристократизма, чтобы считать себя опозоренной вашим присутствием. Через щель танцевального зала я наблюдала за вами и, к своему удивлению, увидала, что вы держитесь так, как дай бог и самому настоящему барону, а раз человек умеет держать себя в обществе, значит, он уже имеет право принадлежать к нему. Но подумайте, что будет, если обман раскроется! Ведь тогда и я пропаду, тогда я буду скомпрометирована навсегда!
– А разве я сам не рискую, графиня?
– Ну, чем вы можете рисковать? Что вы теряете?
– Если, по несчастной случайности, обман обнаружится, князь не захочет ничего знать обо мне, а вы, ваше сиятельство, выдадите меня за мистификатора, который захотел сыграть злую шутку над избранным обществом. Вас только пожалеют, что именно вы сделались жертвой наглого обмана. Ну, а я… Ведь я солдат, графиня, и за эту выходку меня жестоко накажут. Командир моего полка, граф Левенвальд, признал во мне подлинного Кауница, жал мне руки, обнимал и целовал меня. Неужели он простит мне все это – по его понятиям – страшное унижение?.. Я рискую всем, что еще у меня осталось, что еще не успели отнять у меня: свободой, хотя бы и относительной; я рискую даже собственным телом; ведь вы, конечно, знаете, как ужасно наказывают у нас провинившихся солдат… Я не вижу больших выгод лично для себя от того, что этот план увенчается успехом; но если он потерпит крушение, то мне грозит беда. И все-таки я согласился исполнить это поручение, согласился разыграть из себя Кауница. Почему, спросите вы? Да потому, что это нужно отечеству… Неужели же вы, графиня, не можете пожертвовать отечеству минутой ложного положения?.. Впрочем, граф Левенвальд поинтересовался в присутствии барона Бретейля, когда я думаю возвратиться в Лондон, и я ответил, что теперь обстоятельства переменились и мое присутствие там не нужно, я остаюсь в Вене. Следовательно, главную часть той роли, которую должно было сыграть мое присутствие на вашем вечере, я уже исполнил, а потому могу уйти…
– Нет, нет, – поспешно ответила графиня, – разве это допустимо? Ваш уход может вызвать подозрения у гостей…
В коридоре послышались чьи-то быстрые шаги, графиня остановилась и удивленно прислушалась. Дверь будуара внезапно распахнулась без стука, и вбежал какой-то старик, лицо которого говорило о сильном волнении и душевном смятении.
– Я явился к вам с дурными вестями, графиня! – воскликнул он.
– Что-нибудь случилось с мужем? – испуганно спросила она: ее муж несколько месяцев тому назад отправился в качестве полномочного министра-резидента к константинопольскому двору.
– О нет, – ответил старичок, – но случилось нечто ужасное, хотя и совсем в другом роде. Подумайте только, графиня, на ваш вечер осмелилась явиться баронесса Витхан.
– Но ведь я сама пригласила ее.
– Что я слышу? Вы пригласили Витхан? Вы, графиня Зонненберг, пригласили эту… эту… О боже, боже!
– И это приводит вас в такое отчаяние, граф Шпейер?
– Ну еще бы. Особа, на которой тяготеет такое страшное подозрение…
– Подозрение? Но о каком же подозрении может идти речь, граф, когда ее реабилитировал сам император Иосиф? Ведь вы же были при этом: император протянул ей руку и громко, во всеуслышание сказал: «Я счастлив, баронесса, что официальное расследование доказало вашу невиновность».
– Ну, что же следует из этого? Ведь всем известно, какую роль играла эта Витхан при императоре в прежние времена. В память старых заслуг…
– Как вам не стыдно повторять низкие придворные сплетни, граф!
– Э, графиня, глас народа – глас Божий…
– В данном деле важен глас не народа, а суда.
– Ну и что же?
– Да ведь суд оправдал ее.
– Оправдал! Разве это называется оправданием? Во-первых, это сделано было по настоянию императора, – я знаю это из самых надежных источников, – а во-вторых, суд мотивировал приговор недостаточностью улик. Если бы вы были юристом, графиня, вы поняли бы, что это значит. Это значит, что обвиняемая ничем не могла доказать свою невиновность, а улики обвинения не были бесспорными. Действительно, баронесса опиралась на какой-то документ, якобы доказывающий ее невиновность, но этот документ не был найден. Следовательно, если вина не была доказана, то и невиновность тоже осталась недоказанной. Иначе говоря, подозрение не снято.
– Граф! – гневно сказала графиня Зонненберг. – Если вы не желаете считаться с мнением его величества, то обязаны хоть из уважения к хозяйке дома считаться с тем, что особа, о которой вы позволяете себе отзываться с таким презрением, принадлежит к числу моих лучших друзей.
– Графиня, мы – слишком старые друзья, чтобы теперь начать ссориться. Если бы я считал себя оскорбленным присутствием скомпрометированной особы, то самым спокойным образом взял бы шляпу и ушел бы домой. Но я думаю не о себе, а о вас. Вы говорите, что я обязан считаться с симпатиями хозяйки дома? Но вы, графиня, в большей степени обязаны считаться с общественным мнением. Дело не в правоте баронессы Эмилии, а в том, как к ней относится свет.
– Скажите, граф, вы сами верите в ее невиновность?
– М-м… Как вам сказать… Скорее нет, чем да, а в глубине души я просто не допускаю, чтобы она могла сделать это…
– Ну, вот видите! Значит, наша с вами обязанность – защитить невиновную, заставить общество изменить свое мнение. Сильные духом должны не подчиняться общественному мнению, а управлять им.
– Вы говорите, что мы должны заставить общество отказаться от своего мнения? Но я ручаюсь вам, графиня, что большинство в глубине души верит в невиновность баронессы. Повторяю: дело не в вине, а в том, что ее имя было примешано к нехорошему делу. Я расскажу вам сейчас один факт из моего прошлого. Очень молодым человеком я служил в качестве атташе при нашем посольстве в Париже. Грешным делом, я очень любил перекинуться в картишки. Однажды, играя с маркизом де Маривье, я сильно проигрался. Я уже хотел было прекратить несчастливо сложившуюся для меня игру, как вдруг стоявший около нас и внимательно следивший за нашей игрой герцог де Жуайез хлопает маркиза по плечу и говорит: «Маркиз, потрудитесь немедленно отдать выигранные деньги обратно этому молодому человеку, вы играете нечестно!» Маркиз ударился в амбицию, но герцог сумел доказать свое обвинение. И что бы вы думали? На другой день наш посол предлагает мне подать в отставку и вернуться в Вену. Почему? Потому, что я замешан в нечестной игре. Но ведь не я играл нечестно, а со мной играли нечестно. «Все равно, вы ли мошенничали или вас обмошенничали, но факт тот, что имя одного из членов австрийского посольства связано с некрасивой историей. Ведь жена Цезаря должна быть вне подозрений». Так и я говорю вам: все равно, виновата или не виновата баронесса Витхан, но она скомпрометирована, и ей не место в вашем незапятнанном доме.
Графиня Зонненберг несколько раз с трудом удерживалась, чтобы не прервать речи Шпейера гневным, резким замечанием. Но она не могла не признать, какая глубокая житейская истина заключалась в его словах. Да и чему могло бы помочь, если бы она рассердилась, оскорбила самого лучшего из своих друзей?
Поэтому она сдержалась, взяла старика за руку и мягко, заискивающе сказала ему:
– Любезный граф, вы сами только что сказали, что мы с вами – старые друзья. Так докажите, что эта дружба – не одни пустые слова. Вы знаете, как я люблю Эмилию. Вы так же, как и я, верите в ее невиновность. Так давайте окружим ее лаской и заботливостью. Мое влияние имеет некоторый вес, а вы – самый беспорочный, самый щепетильный австрийский дворянин, какого я только знаю. Если вы подойдете к Эмилии и ласково поговорите с ней, то это заставит и других сделать то же самое; ведь, может быть, просто никто не решается быть первым… Ну, сделайте это для меня, мой милый граф! Сделайте это в память нашего прошлого.
– Вы знаете, что я ни в чем не могу отказать вам, – буркнул старик, притворяясь сердитым, но на самом деле чувствуя себя смягченным и растроганным. – Но это – тщетная попытка. Я знаю наше общество, графиня… Ну да сделаю, что могу.
Шпейер ушел.
– Вернитесь к обществу, – сказала графиня Лахнеру, – и не уезжайте до тех пор, пока гости не начнут расходиться. Вы должны уехать одним из последних.
Лахнер поклонился графине, но, вернувшись в зал, старался держаться как можно дальше от своего командира. Он заметил, что общество теперь разбилось на отдельные группы, горячо и возмущенно обсуждая что-то. Не было сомнений, что причиной всеобщего возмущения было появление баронессы фон Витхан на вечере у графини.
Но где же эта несчастная баронесса?
Направляясь к буфету, Лахнер прошел маленьким салоном, искусно превращенным в настоящую беседку, полную зелени и цветов. Недалеко от входа туда он увидел даму, разговаривавшую с каким-то господином. Ему показалось, что он узнает в этой даме оригинал портрета, принесенного Люцельштейном, «прекрасным бароном», в заклад к Фрейбергеру. Он подошел поближе и увидел, что не ошибся; то был, без сомнения, портрет этой дамы.
Она показалась Лахнеру намного прекраснее, чем на портрете, но и еще грустнее. Ее лицо было очень бледно, по щекам текли крупные слезы, которые она тщетно старалась подавить.
Ее кавалер тоже представлял собою такую фигуру, мимо которой нельзя было пройти равнодушно. Он был высок, строен, широкоплеч, но его талии позавидовала бы любая девушка. Его лицо отличалось классической красотой, а парфюмер нажил бы большие деньги, если бы этот молодой человек позволил публиковать, что он пользуется его мазями и притираниями – настолько поразительно свеж был цвет его бело-розового матового лица. Одет он был очень богато, элегантно и изящно.
Парочка прошла в танцевальный зал, куда только что вышла графиня Зонненберг, окруженная роем кавалеров и дам. Увидав грустную красавицу, графиня поспешила к ней, крепко обняла ее и расцеловала, приговаривая:
– Милочка! Дорогая моя Эмилия! Как я рада, что ты пришла.
– Это просто непорядочно, наконец, – буркнул чей-то голос сзади Лахнера.
Лжебарон обернулся и увидал Ридезеля, обратившегося с этим негодующим возгласом к старому генералу, стоявшему под руку с увядшей, но накрашенной и откровенно жеманничавшей красавицей.
– Это оскорбление всем нам, – кисло заметила последняя. – Там, где принимают и целуют такую особу, как Витхан, нам не место. Мы должны сейчас же демонстративно уйти отсюда.
– Ну, нет, – возразил Ридезель, – прежде следует отплатить за оскорбление, нанесенное нашему достоинству.
Они, разговаривая, прошли дальше.
Лахнер задумчиво смотрел им вслед, как вдруг чья-то рука взяла его под руку и знакомый командирский голос сказал:
– Ну, Кауниц, что ты скажешь об этой истории? Появление на вечере баронессы Витхан и ее жениха, барона Люцельштейна, порядком взволновало все общество.
– Могу только пожалеть, что общество не находит ничего лучшего, как набрасываться на бедную женщину. Раз сама графиня…
– Ты знаешь, Артур, историю баронессы?
– Я что-то слышал, но мельком.
– Так я тебе все сейчас расскажу. Дело в следующем. Однажды… Но подожди, к нам идет княгиня Лихтенштейн с графиней Гаддик. Мое почтение, княгиня. Вы все цветете и хорошеете, прелестная графиня.
– Ах, Левенвальд, Левенвальд, – улыбаясь, сказала пожилая Лихтенштейн. – И года-то вас не берут. Все такой же рыцарь и опасный ловелас[16].
– Нет, княгиня, – весело ответил Левенвальд, – я, может быть, более кого другого испытываю на себе гнет прожитых лет, но сегодня я и в самом деле чувствую себя помолодевшим, и виновником всего является вот этот юноша. – Он хлопнул Лахнера по плечу. – Его отец был лучшим другом моей юности, и воспоминания настолько увлекли меня к прожитому, что с плеч на мгновения как бы свалился десяток-другой лет.
Княгиня Лихтенштейн и графиня Гаддик начали расспрашивать лже-Кауница, и разговор стал общим. В этот момент музыка заиграла менуэт. Тогда Левенвальд обратился к графине Гаддик, говоря:
– Мне доставило бы бесконечное удовольствие, если бы вы, графиня, в качестве грациознейшей и искуснейшей танцовщицы протанцевали менуэт с моим Артуром, который, если мне не изменяет память, тоже должен танцевать очень хорошо.
Что оставалось делать Лахнеру?
Проклиная в душе излишнюю и обременительную пылкость чувств графа Левенвальда, Лахнер в глубоком почтительном поклоне склонился перед графиней Гаддик и повел ее к рядам танцующих пар.
Он умел танцевать менуэт, но боялся, что, быть может, вдруг в аристократическом обществе этот танец исполняется не так, как привык он. Да и давно уже он не танцевал – в ногах не было прежней гибкости и эластичности.
Тем не менее с этой задачей Лахнер превосходно справился. Он нарочно помедленнее вел графиню к танцу, чтобы успеть присмотреться, как остальные танцуют менуэт. Убедившись, что в фигурах танца для него нет никаких неожиданностей, лжебарон увереннее повел свою даму, и когда он после танца доставил ее на место, то княгиня Лихтенштейн даже похвалила его ловкость и изящество.
Сейчас же после этого общество пригласили к столу.
Лахнеру удалось занять в высшей степени удачное место. Он сидел, во-первых, очень далеко от своего полкового командира, во-вторых – рядом с веселой графиней Гаддик, а в-третьих, – что было важнее всего остального, – против бледной и грустной баронессы Витхан.
Слева от Лахнера сидел барон Ридезель. Нельзя сказать, чтобы наш гренадер был доволен этим соседством. Было что-то неприятное, отталкивающее во всем существе этого пруссака, да и уж слишком демонстративно подчеркивал он свое негодование по поводу присутствия за столом баронессы Эмилии. Видно было, как все клокотало внутри гордого аристократа, и присутствующие боялись, как бы он в конце концов не устроил явного скандала.
Лахнер первым делом опрокинул несколько стаканов крепкого венгерского вина, чтобы избавиться от последних остатков связывающего его смущения. Надежды, возложенные им на благословенного божка пьянства, оправдались всецело: огненная вьюга заструилась по жилам, унося остатки робости и чувство неловкости. Он то весело болтал с графиней Гаддик, то искоса наблюдал за сидевшей против него грустной Эмилией, и каждый раз его брови чуть-чуть сморщивались при этом. Витхан сидела рядом со своим женихом, но тот старался совершенно не обращать на нее внимания, а все время разговаривал со своим соседом; очевидно, у прекрасного барона Люцельштейна душа была не из храбрых, и он не решался открытым ухаживанием за невестой выступить против общего враждебного ей настроения.
Лахнер вспомнил, что этот самый красавчик закладывал у ростовщика портрет своей невесты, и ему до боли становилось жалко, что эта грустная красавица должна связать свою жизнь с таким недостойным ее человеком.
Когда кончили ужинать, лакеи поспешно собрали со стола посуду и блюда и поставили серебряную вазу, наполненную свернутыми билетиками. Вазу передавали от гостя к гостю, и каждый брал себе пять штук таких билетиков. Это была лотерея – любимое развлечение того времени.
У графини Зонненберг была в руках маленькая книжка, сзади графини стоял лакей с корзиной. Гости разворачивали свои билетики, и если там оказывался номер, это означало выигрыш. Графиня справлялась по книжке сообразно с номером и счастливчику сейчас же вручали то, что посылала ему судьба. Выигрыши отличались большим разнообразием. Там были красивые ювелирные вещи, а также и совершенно не имеющие ценности. В последнем случае к выигрышу был прикреплен листочек бумаги с едким, остроумным изречением.
Если бы не присутствие баронессы Витхан, то общество предалось бы безудержному веселью. Но и теперь, несмотря на некоторую скованность гостей, время от времени раздавался дружный взрыв хохота, когда выигрыш или совпадал, или уж очень контрастировал с личностью выигравшего. Так, смеялись, когда хорошенькая баронесса Берне, бывшая замужем три года и имевшая уже пятерых детей (два раза у нее было по двойне), получила фарфорового аиста, державшего в клюве пару спеленатых младенцев. Княгиня Голицына, писавшая бесконечно скучные философско-религиозно-моралистические трактаты, получила серебряный брелок, изображавший ветряную мельницу. Бесшабашный расточитель граф Фиори выиграл деревянную копилку, кутила Берцхеймер – крошечную бутылочку с ромом. Но, пожалуй, еще больше смеялись, когда выигрыш не соответствовал характеру или возрасту и наклонностям выигравшего. Так, графиня Гаддик получила золотую трубочку для курения, испытанный вояка граф Левенвальд – миниатюрный старушечий чепец, княгиня Лихтенштейн – бинт для усов.
Странный выигрыш достался на долю Лахнера. Он выиграл маленькую атласную подушечку, в которую была воткнута сломанная иголка. Надпись, вышитая на подушке, гласила французским двустишием:
«И сломанная иголка имеет больше цены, чем сомнительное дворянство».
Лахнер не без смущения разглядывал этот странный выигрыш: в это время его сосед, барон Ридезель, заинтересовался подушечкой и попросил дать ему посмотреть. Вынув сломанную иголку из подушки, Ридезель сказал:
– Судьба несправедлива, послав достойному человеку столь незаслуженный намек… – Он замолчал, с вниманием разглядывая иголку. – Подумать только, – сказал он наконец. – Да ведь иголка без ушка! Значит, она по праву принадлежит баронессе Витхан. – И сказав это, Ридезель бросил иголку через стол баронессе[17].
Несчастная Эмилия закрыла лицо руками и сидела ни жива ни мертва на своем месте. Ее жених обратился к Ридезелю со словами:
– Я просил бы объяснить мне, что значат ваши слова, барон.
– Я к вашим услугам, – дерзко ответил Ридезель, бросив Люцельштейну свою визитную карточку.
Взоры всех обратились на «прекрасного барона». Все ждали, что сделает он в защиту чести любимой женщины.
Но Люцельштейн побледнел, как полотно, и самым заискивающим тоном ответил:
– Милый барон, я и без карточки знаю, кто вы и где вы живете. Но мне и в голову не могло бы прийти придавать официальное значение вашим последним словам. Я глубоко уверен, что вы совершенно не хотели оскорбить достойной уважения особы вашей неудачной шуткой.
– О нет! – нахально улыбаясь, возразил Ридезель. – Никого достойного уважения я оскорблять не хотел. Что же касается тех, кто этого уважения недостоин и чье присутствие уже само по себе оскорбительно для общества, то… впрочем, может быть, теперь вы возьмете все-таки мою карточку?
У Лахнера от бешенства даже судорога подступила к горлу, а барон Люцельштейн продолжал сидеть, растерянно и подобострастно улыбаясь.
– Неужели во всем обществе не найдется ни одного человека, который сумел бы ответить этому завравшемуся человеку?! – воскликнула графиня Зонненберг.
– Но в ответ на эти слова сидевшие за столом мужчины только переглянулись и отвели взоры в сторону – никто не решался вступиться за честь баронессы Витхан.
Тогда Лахнер смело и решительно взял в руки карточку Ридезеля и вслух прочел:
– «Барон фон Ридезель»… Это явная опечатка. Вот как будет правильнее… – Он согнул карточку складкой, в которой исчезло «фон Рид», и положил ее на стол.
Теперь на согнутой карточке стояло: «Барон езель»[18].
Ридезель посмотрел на свою карточку и позеленел от ярости.
– Милостивый государь! – сказал он Лахнеру. – Вы позволили себе оскорбить знатное и порядочное семейство, надругавшись над его фамилией. Я требую у вас сатисфакции!
– И разумеется, я не откажу вам в ней, – спокойно ответил Лахнер. – Но вы ошибаетесь, сударь, если предполагаете, что я надругался над семейным именем вашего рода. Я знаю, скольких славных представителей дал род Ридезелей, и не могу делать их всех ответственными за то, что среди них оказался один, совершенно недостойный этого доброго имени. Вы нагло оскорбили женщину, вместо того чтобы в качестве дворянина и рыцаря защищать слабый пол от обидчиков. Вы оскорбили добродетель, преступили законы гостеприимства и обидели слабого. Все это – преступление такого рода, что их может совершить только Ридезель, лишенный слога «Рид».
– Вашу карточку, сударь! – крикнул Ридезель, дрожа от бешенства.
– Я живу в гостинице «Венгерская корона», – спокойно ответил гренадер.
– Мы еще увидимся!
– Надеюсь.
Затем барон Ридезель вместе с гостями, бывшими на его стороне, вышел из столовой, даже не попрощавшись с хозяйкой дома. Представители высшей аристократии подошли к графине и выразили ей сожаление, что в ее доме случилась подобная неприятность, но при этом дали понять ей, что считают все попытки ввести баронессу Витхан в общество бестактностью и необдуманным шагом.
Вскоре из всех гостей остались только барон Люцельштейн, баронесса Витхан, Лахнер и его командир.
Баронесса подошла к гренадеру, протянула ему руки и сказала полным слез и страдания голосом:
– Да благословит вас Бог, барон…
Рыдания пресекли ее фразу…
Она молча подошла к графине, обняла ее и пошла к дверям.
Люцельштейн подскочил к невесте, предложил ей руку, но Эмилия окинула его таким презрительным, таким негодующим взором, что «прекрасный барон» невольно отшатнулся. Через мгновение он стремглав бросился догонять Эмилию.
Теперь и до Лахнера дошла очередь проститься с хозяйкой.
– Барон, – сказала ему графиня, – вы вели себя так, как надлежит вести себя настоящему мужчине и дворянину. Я молю Бога, чтобы он дал мне возможность отблагодарить вас за ваш рыцарский поступок.
Лахнер с Левенвальдом вышли из дворца графини. Гренадер по настоянию полковника сел к нему в карету, а экипаж Лахнера поехал за ними следом.
– И надо же было тебе попасть в такую кашу! – досадливо сказал Левенвальд.
– Разве я мог поступить иначе? В качестве дворянина я был обязан вступиться за честь бедной женщины!
– Это – еще вопрос… Конечно, Ридезель вел себя нагло и непорядочно, едва ли его будут всюду принимать теперь. А все же, как видишь, никто не решился вступиться за баронессу Витхан. Плохо ее дело, очень плохо! Графиня Зонненберг сделала непозволительную ошибку…
– Баронесса виновна или невиновна?
– Этого никто не знает. Да, кстати, я хотел рассказать тебе ее историю. Видишь ли… Однако вот мы уж и подъехали. Да, совсем забыл: помни, что твой секундант – я!
– Я тебе страшно признателен, милейший Левенвальд.
– А я горжусь тобой, милый Артур. Конечно, твоя выходка была необдуманна, а все-таки… мне она чертовски нравится! Молодец ты у меня!.. Весь в отца! Ну, до свидания, дорогой.
Он нежно обнял лже-Кауница, и тот направился в свою гостиницу.
II. Вызов
После всех волнений и быстрой смены неожиданных сюрпризов Лахнер сразу заснул мертвым сном на мягкой постели своего номера. Проснулся он только поздно утром, и его первая мысль была о дуэли.
Он не боялся. Еще будучи студентом, он посвящал много времени фехтованию, а военная служба еще увеличила гибкость и проворство его движений. Но он не знал, долго ли оставит его князь Кауниц в навязанной ему роли и будет ли ему предоставлена возможность отомстить за оскорбление, нанесенное прекрасной, грустной Эмилии.
Он с горечью думал, что представляет собою просто какую-то марионетку, которая лишена самостоятельности, а должна подчиняться нити руководителя, и, может быть, в тот самый момент, когда он будет считать себя у цели своих желаний, своих надежд, когда он уже будет стоять лицом к лицу с наглым оскорбителем, нить потянет его назад, за кулисы, и снова вернет к прежнему.
А тогда прощай его прекрасный сон! Прощай, божественная, несравненная Эмилия!
Как живая, стояла она перед ним… Ему опять представилось, как она с горячей признательностью пожала ему руки, как затем негодующим взглядом оттолкнула руку своего трусливого жениха…
Стук в дверь рассеял его грезы. Лахнер крикнул: «Войдите!» – и приготовился встретить то новое, что ждало его в этом фантастическом положении.
В комнату вошел Фрейбергер. Он молча взял стул и подсел к изголовью кровати Лахнера.
– Ну, что у вас новенького? – спросил последний.
– Я прямо от князя, – ответил еврей. – Его сиятельство только что получил подробный доклад обо всем, происшедшем вчера на вечере графини Зонненберг. Ваше счастье сделано, потому что вами очень довольны.
– Ну, а как дело с моим отпуском?
– В настоящий момент ваш отпуск продлен на пять дней, но можно предположить, что вы никогда более не вернетесь в полк.
– Долго еще мне придется оставаться майором фон Кауницем?
– Да. Пока что вы в высшей степени необходимы.
– Что же, в одном отношении мне это очень приятно.
– Именно?
– Мне приходится драться на дуэли с одним мерзавцем, который позволил себе оскорбить вчера баронессу Витхан. А это будет возможно только в том случае, если мне не придется преждевременно сойти со сцены.
– Ах вы, забияка! И суток еще не прошло, как вы стали дворянином, а уже дуэль… Но, говоря серьезно, милейший, было бы очень неудобно дать этой дуэли состояться. Ридезель – известный бретер и фехтует как сам дьявол. Если дело дойдет до дуэли, то он убьет вас…
– Ну, это еще вопрос!
– А если он убьет вас, то создастся крайне неудобное положение. Либо надо будет разоблачить ваше настоящее имя, что придется не по душе князю Кауницу, либо похоронить под теперешним псевдонимом, с чем может не согласиться майор Кауниц.
– Так или иначе, но от этой дуэли я не откажусь!
– Очень возможно, что нам удастся оттянуть это дело до тех пор, пока вы не получите возможность закончить его от своего собственного имени.
– Да, но если секунданты Ридезеля явятся ко мне, то я уже не буду в состоянии отклонить или затянуть переговоры.
– Вы и не можете этого себе позволить. Майор Кауниц – человек чести. Раз вы олицетворяете его, то и должны действовать так же, как поступил бы и он сам. Ну да предоставим событиям идти своим естественным ходом. Вот я принес вам сто дукатов и привел лакея: для родовитого дворянина неприлично пользоваться услугами наемного трактирного слуги. Ваш лакей стоит в передней. Разрешите ему войти.
Старый еврей открыл дверь и позвал лакея.
– Да ведь это Зигмунд, ваш родственник! – воскликнул Лахнер.
– Ваш слуга, господин барон, – раболепно поклонился Фрейбергер, который при третьих лицах всегда держался с Лахнером очень почтительно. – Я не скажу, чтобы он был уж очень прилежен, но зато на него можно положиться.
– Господи боже, и это называется рекомендацией, – произнес Зигмунд. – Ну, погоди же ты. Господин барон, я ставлю целью своей жизни доказать Фрейбергеру, что он относится ко мне пристрастно и несправедливо.
Зигмунд снова отправился обратно в переднюю.
– Этот парень очень пронырлив и боек, но он не болтун, и на него можно положиться, – сказал Фрейбергер. Кроме того, я вышколил его специально для вас.
– Вы ознакомили его с истинным положением вещей?
– Боже упаси. Он и не подозревает, кто вы такой, и твердо убежден, что для неизвестных ему целей вы были переодеты тогда рядовым.
– Говоря откровенно, Зигмунд мне не особенно-то нравится. Мне кажется, что он легкомыслен и болтлив.
– Друг мой, я ручаюсь за него. Впрочем, Зигмунд останется у вас только на первое время, а дальше видно будет. Ну-с, а теперь я ухожу. Мне надо приобрести для вас приличное платье, верховую лошадь и кое-какие безделушки.
– Постойте минуточку. Расскажите мне, за что преследуют эту несчастную баронессу Витхан? Вчера со мной неоднократно заговаривали, и мне приходилось отвиливать. Боюсь, как бы мне не провраться.
– О, история баронессы Витхан – это целый роман. Рассказывать вам ее подробно было бы слишком долго, сейчас времени нет.
– Так вы изложите ее в общих чертах.
– Извольте. Несколько лет тому назад…
В этот момент в комнату вбежал Зигмунд и доложил:
– Господин барон, тут пришел какой-то господин, он просит принять его. Он явился от имени барона Ридезеля.
– Проведи его в приемную и попроси обождать, я сейчас оденусь, – сказал Лахнер.
Через несколько минут наш гренадер уже стоял в приемной перед молодым, стройным человеком с мушкой на щеке. Одежда выдавала в посетителе человека из высшего круга.
– Я имею честь говорить с господином бароном Кауницем? – заговорил незнакомец. – Мое имя, наверное, хорошо известно вам. Я – Людвиг Эдлер фон Ваничек[19], тот самый Ваничек, который написал знаменитое сочинение «Сто один довод» против янсенизма[20] вообще и в частности – против воззрений Кенеля[21]. Теперь я работаю над созданием или, вернее, заканчиваю свою «Югурту», трагическую оперу, выдающиеся качества которой вызывают столько шума и толков. Но это происходит совершенно без моего участия, честное слово. Другие сами стараются через друзей вызвать побольше шума, но мне это не нужно. Зачем? Истинный талант все равно скажется… Между прочим, я состою одним из атташе прусского посольства, но, по-моему, это несравненно менее почетно, чем то место, которое я занимаю в литературе. Вам, конечно, известно, что я написал знаменитую «Критику новейшей литературы». Вероятно, вы знаете также, что я писал ее по поручению своего правительства. Я был очень строг, но вполне справедлив, и девственница Германия должна быть благодарна мне за то, что я на многое открыл глаза. Например, Готфрида Бюргера[22] я представил в его истинном свете – как бездарного пачкуна, пишущего только для черни и совершенно лишенного чувства изящного, ну, а Иоганна Миллера[23] я совершенно замолчал, чем развенчал из обоих.
Лахнер потерял наконец терпение:
– К делу, сударь, к делу, – сказал он.
– Простите, – шаркнул ногой Ваничек. – Я до такой степени увлечен литературой, что забываю ради нее обо всем. Вы знаете, недавно я прочел первые два акта моей «Югурты» в избранном обществе, а сегодня рано утром мне приносят золотую табакерку «от неизвестной почитательницы». Я был так рад, что…
– Еще раз повторяю вам: к делу!
– Вы совершенно правы, барон. Мое оживление и радость могут показаться вам неприличными, тем более что я до известной степени являюсь к вам в качестве… ну, как бы это сказать?.. ангела смерти, что ли.
– Я вас не понимаю.
– Барон Ридезель, мой друг, передает вам через меня свой вызов на дуэль, а он имеет дурную привычку поражать своего противника насмерть… Да, дружба требует от меня тяжелых жертв. Я – человек тихий и мирный; я с наслаждением прислушиваюсь к сладостному журчанию Кастальского источника[24], а судьба и дружба требуют, чтобы я внимал яростному звону оружия, стремящегося проникнуть в недра враждебного сердца… В последние четырнадцать месяцев я имел печальную честь многократно быть секундантом моего друга, и – боже мой! – сколько крови пролито кровожадным Ридезелем. Собственно говоря, я считаю дуэль неподходящим способом разрешения спорных вопросов, так как тут дело лишь в ловкости и счастье, а никак не в абсолютной правоте. Но что вы поделаете, если Ридезель не хочет драться на дуэли без меня? Он считает меня своим добрым гением, так как не было ни одной происшедшей в моем присутствии дуэли, которая бы не окончилась благоприятно для него. Но, с другой стороны…
– Где должна состояться дуэль?
– Да уж здесь для этого облюбован Бригитенау.
– Час?
– Предоставляется вам. Но мой друг желает, чтобы это совершилось как можно скорее.
– Я готов.
– Великолепно! Так с этим можно, значит, покончить до обеда. В час дня у охотничьего домика в Бригитенау?
– Я немедленно извещу об этом своего секунданта.
– У вас имеются какие-либо особенные условия?
– Нет, – ответил Лахнер.
– Значит, нам не о чем больше говорить?
– Не о чем.
– Я бесконечно рад чести познакомиться с вами, господин барон. Надеюсь, что вам еще удастся послушать мою «Югурту», а уж хотя бы ради этого одного стоит остаться в живых, хе-хе-хе… Итак…
– До свидания, до свидания, господин Ваничек. Дверь как раз позади вас, а все, что было нужно, мы уже выяснили. Милости прошу…
Лахнер широко открыл дверь перед разговорчивым литератором и сделал рукой столь выразительный жест, что даже малозастенчивый Ваничек должен был понять его и ретироваться.
– Господи боже ты мой! – воскликнул Лахнер, оставшись один. – Более подходящего субъекта Ридезель не мог избрать в секунданты. Вот уж «рыбак рыбака видит издалека»… Но как это отлично складывается. Теперь уже нельзя будет помешать дуэли.
Он присел к письменному столу и написал записку к Левенвальду. Зигмунду было приказано немедленно отнести ее по адресу.
«Однако, – сказал себе Лахнер, встав перед зеркалом и тщательно осматривая себя, – с моей стороны, немалое нахальство, показаться командиру при дневном свете. Конечно, до известной степени родинка и парик придают моему лицу несколько другое выражение, а все-таки… Впрочем, солдат так много, что в глазах командира они все сливаются в сплошное серое пятно… И главное, кому может прийти в голову, что гренадер рискнет на столь дерзкую мистификацию? Самое важное – не заронить ни в ком и искры сомнения, а это возможно лишь в том случае, если держаться смело и свободно… Да и поздно теперь думать обо всем этом: жребий вынут, надо ждать своей участи; чаша налита – надо ее выпить до дна. А там будь что будет!»
III. Положение осложняется
Из всех этих дум Лахнера вывело появление парикмахера, заранее приглашенного Фрейбергером. Последний отлично знал жизнь: раз Лахнер хотел достаточно правдоподобно играть роль светского льва, то ему нельзя было обойтись без услуг парикмахера, имевшего, к слову сказать, большое значение в Вене того времени.
Дело в том, что в те времена газет было вообще очень мало, да и те, которые существовали, отнюдь не удовлетворяли потребностям публики. Писать обо всем происходящем было невозможно, так как это навлекало всевозможные кары на издателей. Одно не пропускалось цензурой, другое, хотя и пропускалось, вызывало недовольство кого-нибудь из сильных мира сего. При этом все дело нередко зависело от простого административного «усмотрения», и было совершенно невозможно ориентироваться в выборе дозволенного и недозволенного. Пишущая братия избрала «благой путь» и вообще молчала о венских событиях.
Поэтому венские газеты того времени представляли собою довольно комическое явление. Читатель узнавал из них, что в Каире нежданно-негаданно забил колодец, что в Петербурге на постройке нового дворца упавшим бревном раздавило рабочего, что в Испании вырос необычайной величины арбуз, но о том, что в Вене произошла такая-то кража, грабеж или убийство, обыватели могли узнать только из уст соседей или досужих разносчиков новостей.
То, что сознательно опускалось газетами, восполняли парикмахеры. В те времена парикмахерских было гораздо меньше, чем теперь, но зато самих парикмахеров – не в пример больше. Вся знать причесывалась у себя на дому, и это одно отнимало столько времени, что нынешней армии куаферов[25] ни за что бы не управиться с клиентурой того времени, особенно если учесть разницу в прическах мужчин того времени и теперь.
И вот эти парикмахеры, переходя из дома в дом, разносили новости и известия. При этом они сообщали такие вещи, которые нельзя было бы напечатать даже и при относительной свободе печати, и в истории развития общественного самосознания парикмахерам необходимо отвести немалую роль.
Куафер, явившийся к мнимому барону Кауницу, нисколько не отличался от своих коллег: он так же ловко взбивал и пудрил парики, как собирал и передавал самые сокровенные новости.
– Известно ли господину барону, – сейчас же начал он, занимаясь прической Лахнера, – что вчера французский посланник, господин де Бретейль, хотел во что бы то ни стало уехать? Во дворе посольства царила такая суматоха, просто страсть. Во дворе стояли три дорожные кареты, из комнат выносили сундуки и ящики. Вся прислуга, нанятая здесь на месте, была рассчитана. Болтали, что французы собираются вторгнуться в Нидерланды, а старший мастер придворного шорника даже держал со мной пари на полдюжины бутылок вина, что не пройдет и шести недель, как разгорится война с Францией. Я не боюсь проиграть это пари, и не на мои деньги будет куплено полдюжины бутылочек, которые мы разопьем с шорником. Я лучше разбираюсь в политике, чем астрономы в предсказании погоды. Конечно, война с Францией возможна так же, как возможна война со всякой другой державой, но так скоро это не делается. Кроме того, по всем признакам я прав и войны не будет. Господин барон, французский посланник не уезжает!
– Откуда тебе это известно?
– Дорожные кареты снова отправлены в каретный сарай, багаж распакован, прислуга опять нанята.
– А что говорят по поводу причин, заставивших француза так быстро отказаться от своих планов?
– Относительно этого я буду иметь честь доложить завтра. Вся эта история еще не расследована мною хорошенько, а я никогда не говорю чего-либо без оснований.
Старый Эрлих вздумал уверять меня, будто посол просто предполагал совершить увеселительную прогулку. Ну, да меня не проведешь.
Куафер закончил свое дело и ушел, почтительно раскланявшись по всем правилам изящного тона.
Лахнер радостно забегал по комнате.
– Бретейль не уезжает! Это следствие моего появления на общественной арене под личиной майора Кауница. Вот как быстро сказалась государственная польза моего переодевания.
Вскоре явился посыльный и подал ему письмо.
Лахнер с живейшим интересом принялся рассматривать конверт. Он был из шелковистой бумаги и благоухал дорогими духами. Все это, вместе с почерком, вселило в него убеждение, что письмо писала женщина.
Он нетерпеливо разорвал конверт и первым делом кинулся к подписи, а прочитав ее, воскликнул:
– Однако! Это превосходит самые смелые мечты и надежды! Боже, что за дивная женщина!
Он пламенно приложился к тому месту, где было написано «Эмилия фон Витхан», и стал читать письмо, гласившее:
«Меня до такой степени измучили тревога и сомнение, что я потеряла всякую власть над собой и не могу собрать надлежащим образом свои мысли, поэтому боюсь, что данное письмо покажется Вам странным и малопонятным. Великодушнейший человек! Вы, не зная меня, дали отпор моему оскорбителю, тогда как тот, которого привязывают ко мне самые священные узы – узы жениха, – предательски оставил меня на посмеяние. До последнего дыхания своего я буду помнить Ваше великодушие и бесстрашие. Вы настоящий мужчина, Вы рыцарь, так как не можете дать в обиду женщину, даже такую, на которой, хотя и незаслуженно, тяготеет общественное презрение.
Если Вы действительно не верите позорящим меня слухам, то, наверное, исполните ту просьбу, с которой я обращаюсь к Вам теперь.
Откажитесь от дуэли, барон. На что Вам этот поединок? Вы только поставите на карту свою жизнь, а для чего? Чего Вы добьетесь этим? С глубокой горечью я должна признать, что поруганную честь моего имени не восстановить острием шпаги.
Отношение всего общества открыло мне вчера глаза. Я – пария; я отвержена и никогда более не решусь показаться среди этой холодной, бесконечно строгой знати. Завтра рано утром я исчезну из Вены, и никто не узнает, куда я скроюсь: Эмилия мало жила, но так много страдала… Жила!.. Как грустно звучит прошедшее время, когда вспоминаешь, что мало, очень мало лет прожито… Много ценностей оставляю я после себя: верную подругу, нежно любимого дедушку, именье, которое я полюбила, как родину, и слуг, называвших меня своей матерью… И к числу покидаемых драгоценностей я причисляю также и того чужого… но нет, не чужого, а нового человека, взгляд и смелый поступок которого неизгладимо запечатлелся в моем сердце…
Да благословит Вас Бог! Я позволяю себе послать Вам свои часы в воспоминание о несчастной Эмилии, которая безнадежно гибнет под тяжестью суровой, несправедливой судьбы…
Еще раз умоляю Вас: откажитесь от дуэли с Ридезелем. Этот господин имеет дурную репутацию бретера; он задирает всех и каждого, полагаясь не только на свое искусство, но и на разные недостойные уловки. Еще недавно он ранил на дуэли одного поляка-ротмистра, и тот вскоре умер от заражения крови, хотя рана была очень незначительной. Злая молва уверяет, что шпага Ридезеля была отравлена. Я не осмелюсь утверждать, что это непременно так и было, но какая честь, какая заслуга драться с человеком, о котором ходят подобные слухи?
Еще раз позволю себе засвидетельствовать Вам сердечнейшую благодарность преданной Вам
Эмилии фон Витхан».
– Что это еще за ересь! – воскликнул Лахнер. – Такая милая женщина хочет отказаться от света? Ну уж нет, этого я не могу допустить… Нет, сегодня же после дуэли я повидаюсь с нею и переговорю. Ловкости Ридезеля я нисколько не боюсь, особенно теперь, когда мне необходимо жить, чтобы добиться моей дивной Эмилии. Это придаст мне силы, ловкости и изворотливости вдесятеро…
Вернулся Зигмунд и принес ему визитную карточку Левенвальда, на которой было написано:
«В половине двенадцатого на эспланаде перед Шотентором. Обнимаю.
Твой Л.».
– Однако, – воскликнул Лахнер, – уже одиннадцать! Прикажите сейчас же запрягать.
Молодой еврей не двинулся с места: он тревожно искал что-то по всем карманам.
– Бог отцов и дедов моих! – испуганно произнес он наконец. – Неужели я потерял ее?
– Кого «ее»?
– Записку.
– От кого?
– От Фрейбергера.
– Где ты видел его?
– Только что, на улице. Ему было очень некогда, и он тут написал несколько слов на вырванном из записной книжки листочке, но куда я сунул этот листок, вот вопрос! А, да вот она!
Он подал Лахнеру записку, в которой было написано:
«Господин барон, сегодня в девять часов я зайду за Вами. Осторожность!
Ф.».
«Черт знает что такое, – недовольно подумал Лахнер. – Из-за этого мне придется отказаться от визита к баронессе Витхан, а это совершенно невозможно. Но, с другой стороны, я не могу опоздать к назначенному часу, так как, очевидно, речь идет о чем-то важном…»
Тут ему доложили, что карета готова.
Лахнер отправился к Шотентору, где его уже ждал аккуратный Левенвальд. В карете рядом с командиром сидел другой мужчина, в котором Лахнер узнал полкового врача Гинцеля.
Левенвальд предложил лжебарону пересесть к нему в карету, и они быстро покатили к Бригитенау.
Когда подъехали к ресторанчику, носившему название «Охотничий домик», они убедились, что Ридезеля с секундантами еще не было.
– Что же, давайте выпьем пока по стаканчику вина, – предложил Левенвальд, – в небольшом количестве вино подействует возбуждающе, оно придаст тебе, Артур, энергии и изобретательности, да и тело не будет так стыть на морозе.
Лахнер, улыбаясь, ответил, что столь благородный напиток, как вино, ни в каких количествах не может помешать ему, а потому он с удовольствием выпьет. Вообще он держался на редкость спокойно и хладнокровно. Он шутил по поводу перевязок, раскладываемых доктором на столе, и его лицо даже не дрогнуло, когда в комнату вбежал Зигмунд с докладом, что вдали показалась быстро мчавшаяся карета.
– Ну, Артур, – сказал Левенвальд, – я вижу, что ты непременно одолеешь своего противника. Ты спокоен, как герой. Говорят, что Ридезель часто пускается на различные финты. Если ты заметишь это, то спокойно отскочи назад и будь уверен, что я разделаю его тогда на все корки, как поступают с шулерами, которых ловят на передергивании.
С этими словами Левенвальд и его спутники встали и отправились к дверям, чтобы встретить подъезжавшую к дому карету. Когда та остановилась, из нее вышли секунданты Ридезеля – уже известный нам Ваничек и другой член прусского посольства, советник Кремпе. Но самого Ридезеля не было.
Лахнер сейчас же подумал о словах Фрейбергера, который с иронией отнесся к предстоявшей Лахнеру дуэли, уверяя, что дать ей состояться – не в интересах князя Кауница. Гренадер надеялся, что благодаря быстрой развязке предупредить дуэль не удастся, но теперь видел, что ошибался.
Кремпе, подойдя к противникам, заявил им, что Ридезеля экстренно услали с депешами в Берлин. Его так торопили, что ему не было даже времени письменно известить об этом противника, но он постарается как можно скорее справиться со служебными обязанностями и вернуться в Вену, чтобы покончить с этим делом чести.
– Сколько времени может продлиться его отсутствие? – спросил Лахнер.
– В данный момент это еще нельзя определить, но мне кажется, что раньше чем через неделю ему не удастся вернуться.
Через несколько минут наш гренадер снова сидел в карете своего командира и быстро мчался обратно к Вене.
– Где ты сегодня обедаешь? – спросил его Левенвальд.
– Этого я еще не решил.
– Значит, ты обедаешь у меня.
– Я с удовольствием принял бы это приглашение, милейший Левенвальд, но у меня имеются неотложные дела, а потому…
– А потому мы постараемся отобедать как можно скорее, только и всего.
Лахнер хотел было возразить, но Левенвальд заговорил с доктором о какой-то дуэли между двумя представителями высшего венского общества, которая должна была произойти в ближайшие дни. Они принялись взвешивать шансы обоих противников, а наш гренадер уныло погрузился в свои думы.
Как бы ухитриться отклонить предложение командира? С одной стороны, Лахнер чувствовал себя нравственно обязанным сделать все, чтобы отговорить Эмилию от намерения покинуть свет. С другой – мало было удовольствия предстать перед ближайшим начальством и товарищами в майорском мундире. А последнее было неизбежно: в квартиру Левенвальда надо было проходить казарменным двором…
– Милый Левенвальд, – сказал он наконец, – разреши мне остановить карету. Я должен расстаться с тобой.
– Да почему же, милый Артур?
– Но я уже говорил тебе, что мне необходимо сделать очень важный для меня визит.
– Очень сожалею, что на этот раз я никак не могу исполнить твою просьбу, – шутливо ответил Левенвальд. – Ты арестован мной; я тебя не выпущу, пока ты не отобедаешь у меня.
Карета катилась с невероятной скоростью – так по крайней мере казалось несчастному Лахнеру. Он сделал еще попытку избавиться от нависшей над ним опасности.
– Милый друг, – сказал он командиру, – ты заставляешь меня нарушать данное мною честное слово: я обещался немедленно явиться к одной даме после дуэли.
– Ну а так как дуэли не было, – смеясь, ответил командир, – то ты и не нарушишь слова, если заедешь сперва ко мне. Нет, я не отпущу тебя. Я обещался жене привезти тебя обедать; она жаждет познакомиться с тобой.
Что было делать? Протестовать долее – значило навлечь на себя подозрения, а именно этого-то Лахнер и должен был избегать всеми силами. Оставалось подчиниться неизбежному и постараться как-нибудь избежать той ловушки, которую расставила ему судьба.
Но как?
Ему было пришло в голову притвориться заболевшим. Но злой рок посадил его в карету с отличным врачом, который немедленно распознал бы притворство. Впрочем, если бы он даже и не распознал, все-таки квартира полковника была ближе всего, и его, как заболевшего, доставили бы туда. Мало того, с него сняли бы парик, мундир, а следовательно, опасность быть узнанным только возрастала…
Нет, надо было поскорее придумать что-нибудь, пока не поздно…
Но вот загвоздка – он ровно ничего не мог придумать… А время бежало быстро-быстро, и каждая минута все более приближала его к зданию, из которого двое суток тому назад он вышел в солдатской одежде…
Его ротный командир принадлежал к числу друзей командира полка и зачастую обедал у него. Какое лицо сделает он, если Левенвальд представит ему рядового Лахнера под видом майора Кауница…
Господи, хоть бы лошади пали или хоть бы сломалось колесо у кареты. Тогда можно было бы ускользнуть незаметным образом…
Неужели небо услыхало его молитвы? Кучер круто завернул, и ось с треском налетела на придорожный камень… Но нет… Адские силы хранили эту проклятую карету: все было цело… Послышались слова команды, звякнуло оружие, которым отдавали честь командиру… Потом послышался глухой рокот: это карета проезжала под низкими сводчатыми воротами… Денщик почтительно распахнул дверцу кареты…
Лжебарон Кауниц оказался в своих казармах…
IV. В казармах
Таинственная рука, управлявшая судьбой гренадера Лахнера, продолжала рисовать самые запутанные узоры его пути, стараясь причинить ему как можно больше неприятностей.
Вместо того чтобы направиться по лестнице прямо к себе на квартиру, командир сделал несколько шагов по двору и оглядел его. В глубине стояла группа выстроенных солдат, имена которых выкликались фельдфебелем. Невдалеке стоял офицер. Лахнер сейчас же узнал свою роту, вернувшуюся с наряда и подвергавшуюся перекличке. На левом фланге стоял его коллега Биндер.
– Вот там стоит часть моих гренадеров, – сказал командир Левенвальд лжебарону. – Если хочешь, я прикажу пробить тревогу и вызову сюда весь батальон, чтобы ты мог видеть, какие бравые молодцы у меня. Я очень горжусь ими и думаю, что лучше моих солдат нет во всей армии.
– Благодарю, – ответил Лахнер, – но лучше предоставим им отдохнуть теперь. Я надеюсь, что мне представится еще немало случаев увидеть в полном составе твой полк, известный своей выучкой и дисциплиной по всей Европе.
Левенвальд с довольным видом кивнул головой.
– Это, кажется, первая рота, – сказал он вглядываясь, – но почему же не видно офицеров? Ну-ка, подойдем поближе.
Он быстрыми, крупными шагами направился к солдатам.
Лахнер замешкался и обратился к врачу, желая завязать с ним разговор. Но тот подумал, что майор вежливо уступает ему дорогу, и, закачав головой, предупредительно показал рукой, чтобы Кауниц проходил вперед. К тому же и Левенвальд обернулся и крикнул, чтобы тот шел за ним.
У несчастного гренадера не было иного выбора. С геройством отчаяния он собрал всю силу воли и спокойствие и отправился вслед за Левенвальдом.
Когда командующий офицер увидал, что командир полка идет к роте, он скомандовал: «Смирно» и сам взял под козырек.
– Подпоручик Вандельштерн, – обратился к нему Левенвальд, – где же капитан и другие офицеры первой роты?
– Почтительнейше осмелюсь доложить, что господин капитан передал мне начальствование над ротой, так как ему надо было идти с господином поручиком на заседание военного суда. Остальные господа офицеры тоже разошлись, так как рота пришла с наряда в отличнейшем порядке.
– Чтобы больше этого не было! – гневно крикнул полковой командир. – За поспешность, с которой господа офицеры покидают роту до увода ее с плаца, они заслуживают хорошей головомойки. Чтобы завтра все явились к утреннему рапорту! Как была распределена рота в дозоре?
– Полурота под командой поручика барона Фергусти стояла на часах около казармы, вторая полурота была распределена при дровяном складе Русдорферского шоссе, при императорских конюшнях и при пороховой башне.
– Господин подпоручик, потрудитесь произвести роте примерное учение.
Левенвальд остался с Лахнером на правом фланге роты и внимательно смотрел за маршировкой и гимнастическими упражнениями солдат. Он был очень доволен, так как гренадеры выказывали себя настоящими молодцами.
Лахнер тоже смотрел на маршировавших мимо него товарищей, стараясь определить, узнан ли он или нет. Увы, с первого же взгляда он убедился, что ближайшие товарищи явно узнали его.
Прямо перед ним находился капрал Ниммерфоль, который с изумлением глядел на лжебарона; рядом с капралом был Гаусвальд, который тоже не мог скрыть своего удивления. Но у Лахнера не дрогнула ни одна черточка лица – он спокойно дал пройти мимо всей роте.
Затем Левенвальд приказал выстроить роту во фронт и стал обходить ее, внимательно всматриваясь в каждого солдата.
Лахнеру не оставалось иного выхода, как последовать примеру командира полка. Когда он проходил мимо гренадера Талера, самого большого пьяницы во всем батальоне, тот слегка подмигнул ему и вполголоса сказал:
– Ай да Лахнер!
Но тот даже не посмотрел на него и сделал вид, будто не слышит.
Когда он проходил мимо Биндера, тот чуть слышно шепнул:
– Non capio![26]
На это Лахнер ответил ему тихим и многозначительным «tace»[27].
Итак, не было сомнений, что Ниммерфоль, Гаусвальд, Талер и Биндер узнали его.
«Кончено, – подумал Лахнер, – все пропало! Да будет проклят тот час, когда я сел в карету Левенвальда! Можно себе представить, как будет неистовствовать и бесноваться Левенвальд… Да! Уж этот-то не пощадит меня, и за каждое ласковое слово, адресованное его «Артуру», гренадеру Лахнеру грозит не один десяток шпицрутенов… Что делать? Боже мой, что предпринять?»
Но тут же у него мелькнула мысль, что, может быть, еще придет на помощь счастливый случай.
Так или иначе, главное было – не терять наружного спокойствия и не выдавать той бури, которая царила в душе.
Лахнер несколько свободнее вздохнул, когда командир полка знаком приказал Вандельштерну увести роту в казармы, а сам, взяв Лахнера под руку, повел его к себе домой.
Там гренадер в мундире майора был представлен графине Аглае Левенвальд, и та приветливо протянула ему руку. Лахнер нежно и почтительно поцеловал руку жены «своего лучшего друга» и постарался наговорить ей как можно больше комплиментов.
Никогда еще до сих пор не понимал он до такой степени, какое большое значение имеют внешний лоск и непринужденность обращения, необходимые в высшем кругу. Он ясно сознавал, что ему никогда не удалось бы довести свою роль до конца, если бы он не был в состоянии весело и свободно болтать теперь, когда на сердце скребли черные кошки.
Аглая Левенвальд была очень церемонной, жеманной дамой, соединявшей физическую непривлекательность с массой моральных недостатков. Она была высокомерна, жеманна, слащаво-кокетлива и анекдотически скупа: офицеры, изредка приглашаемые к командирскому столу, рассказывали много анекдотов об этой черте характера «матери-командирши».
Ее скупость сказалась и теперь, потому что, узнав от мужа, что он пригласил Кауница к обеду, она бросила на Левенвальда яростный взгляд и сейчас же принялась жеманно и слащаво жалеть о том, что ее не предупредили об этом, вследствие чего теперь она принуждена угостить гостя совсем не подобающим обедом. Когда же гренадер поспешил заявить, что он всю жизнь был очень скромен и воздержан в еде, так что для него нет лучше удовольствия, когда ему позволяют не менять привычек, то худая, желтая, костлявая графиня положительно расцвела от восторга.
Сели за стол. Подали первое блюдо.
Но не успел Лахнер прикоснуться к положенной ему порции, как разразилась та самая гроза, которая уже столько времени собиралась над его головой. Все страхи и тревоги, пережитые в последние двое суток, были просто шуткой в сравнении с тем, что ожидало его теперь.
В столовую вошел вестовой командира и доложил, что подпоручик Вандельштерн просит принять его по весьма неотложному делу.
– После, – ответил Левенвальд, – теперь я обедаю. Пусть изложит свое дело завтра, за утренним рапортом.
Вестовой ушел и сейчас же вернулся.
– Господин полковник, – сказал он, – господин подпоручик просит доложить, что его дело не терпит отлагательства.
Командир встал со стула, пробормотал что-то о дураках, которые, если заставить их молиться, лоб расшибут, и отправился в соседнюю комнату, причем ее дверь осталась за ним неплотно прикрытой. Перед этим графиня тоже вышла на кухню, чтобы отдать какое-то распоряжение по хозяйству. Таким образом, Лахнер остался один в комнате. В первый момент он хотел без дальнейших рассуждений выпрыгнуть в окно и попытаться скрыться, надеясь, что, может быть, ему удастся благополучно добраться до своей квартиры и умчаться к Фрейбергеру, который уж укроет его. Ведь положение казалось совершенно безнадежным, подпоручик Вандельштерн как раз командовал ротой во дворе, и его появление у командира в такой неурочный час могло означать только то, что Лахнер узнан товарищами и что офицер явился доложить об этом командиру…
Лахнер почти было решил и в самом деле попытаться скрыться через окно, но одумался, признав, что это ни к чему не приведет. Ему не пробраться по двору, не уйти от преследования. А главное – ведь сказал же ему Кауниц, что в случае неудачи Лахнеру нечего рассчитывать на него… Значит… Он прислушался… Вандельштерн говорил взволнованно и громко, его слова были ясно слышны в столовой.
– Господин полковник, – говорил Вандельштерн, – я явился сюда в полной растерянности, чтобы сделать открытие, которое немало поразит и вас самих. Тот майор…
– Говорят «господин майор»! – поправил его Левенвальд.
– Тот самый субъект в майорском мундире, который четверть часа тому назад…
– Что это за выражение? – снова оборвал его Левенвальд. – «Субъект в майорском мундире»! В каком артикуле вычитали это вы, господин субъект в подпоручичьем мундире?
– Господин полковник, – невозмутимо продолжал Вандельштерн, – господин майор в зеленом мундире с красной выпушкой, который четверть часа тому назад был с вами во дворе, служит нижним чином в третьем взводе первой роты вверенного вам полка и зовут его Лахнером.
– Да вы спятили, что ли?! – крикнул командир.
– Его товарищ Талер узнал его и доложил мне. Я не мог не доложить этого сейчас же вам, потому что и мне самому бросилось в глаза, что этот господин майор как две капли воды похож на рядового Лахнера.
– Это неслыханная наглость!
– Совершенно неслыханная, – подхватил Вандельштерн, – и я сразу подумал, что здесь затеяна какая-то темная мистификация.
– Это наглость с вашей стороны, господин подпоручик! – загремел взбешенный командир. – Как вы смеете обращаться ко мне с такими глупостями? Из-за случайного сходства двух различных людей вы осмеливаетесь строить столь оскорбительные предположения? Это или непростительное легкомыслие, или опасная форма помешательства! Знайте, что тот «субъект в майорском мундире» – племянник князя Кауница, атташе и майор барон Кауниц!
– Это – Лахнер, – невозмутимо повторил Вандельштерн, – тот самый нижний чин из третьего взвода первой роты, который находится в данный момент в отпуске.
В этот момент двери закрылись: очевидно, Левенвальд заметил, что они неплотно прикрыты, и побоялся, как бы его гость не услыхал оскорбительных для него предположений.
«Пока еще не все пропало, – подумал лжебарон, наливая себе стакан вина, – мой командир недоверчив, как Фома неверующий, и весьма возможно, что я выберусь из этой передряги несравненно удачнее, чем Вандельштерн!»
Тем не менее командир еще долго говорил с подпоручиком, слишком долго, чтобы можно было с уверенностью рассчитывать на счастливый исход. Очевидно, ретивый подпоручик сумел все-таки поколебать уверенность командира. Это были худшие минуты в жизни гренадера Лахнера…
Вернулась «мать-командирша» и выразила глубочайшее изумление по поводу того, что суп продолжает стоять на столе нетронутым. Лахнер объяснил ей в чем дело, и «прелестная» Аглая сейчас же поспешила в соседнюю комнату, чтобы указать супругу на его невежливость, – по его вине гость остался в одиночестве за столом.
Не прошло и тридцати секунд, как командир с женой вернулся в столовую. Лоб Левенвальда был нахмурен, мрачность взглядов не предвещала ничего доброго.
– Простите, барон, – сказала графиня, – но муж уж всегда так: он готов ради служебных дел забыть о чем угодно. У нас лучший полк во всей Австрии, но это отличие связано со слишком большими заботами и хлопотами.
– Да, в этом отношении всецело сказывается отличие немецкой натуры от английской, – с любезной улыбкой ответил гренадер, – наш брат немец никогда не чувствует себя всецело спокойным, раз на нем лежат известные обязанности. А англичане… Я знавал в Лондоне полкового командира лорда Элленуайфта, который хвастался тем, что ни разу в жизни не видел своего полка.
Левенвальд молчаливо сел к столу, но есть не мог: видно было, до какой степени он был взволнован.
Графиня и Лахнер принялись за суп. У лжебарона руки дрожали так, что суп расплескивался; чтобы скрыть свое волнение, он сделал вид, будто с жадностью набросился на консоме[28].
– Что же ты не ешь, дружище? – весело спросил он Левенвальда. – Могу сказать, что бульон отменный, и ты очень несправедливо относишься к нему с таким презрением.
Левенвальд недоверчиво и испытующе посмотрел на него и ответил после довольно продолжительной паузы:
– Я так рассердился сейчас, что у меня пропал всякий аппетит.
– Что же тебя так рассердило? – спросила Аглая.
– Подпоручик из первой роты, право, спятил!
– Очень прискорбный случай, – заметил Лахнер, прихлебывая суп, – но, к сожалению, далеко не редкий.
– Причину угадать очень нетрудно, – сказала Аглая. – О, что за молодежь пошла!
– Графиня, – любезно ответил ей гренадер, – неужели у вас хватает духу осуждать ту самую молодежь, среди которой царите вы сами?
Пятидесятилетняя матрона расцвела от этих слов и преисполнилась таким благоволением к лжемайору, что немедленно приказала принести из погреба две бутылки старинного бордо, – честь, которой не удостаивался никто из обедавших у нее в последние пять-шесть лет.
Полковник продолжал оставаться мрачным; зато Аглая уже давно не пребывала в столь отменном расположении духа, как теперь, а потому уже давно не болтала столь многословно и нудно, как в описываемый момент.
Лахнер изо всех сил крепился, чтобы с честью довести свою комедию до конца. Он чувствовал, что что-то затевается против него, но что именно?..
Левенвальд кидал на него недоверчивые взгляды. Он вспомнил, с какой неохотой «барон Кауниц» проследовал в казармы. Правда, он все еще не мог отделаться от твердого убеждения, что между его гостем и покойным бароном Кауницем существует безусловное фамильное сходство… А потом, – мыслимое ли дело, чтобы простой рядовой мог в течение столького времени ни разу не выйти из своей роли, ничем не выказать своего низкого происхождения? Нет, это положительно невозможно! Простой гренадер осмелится явиться к графине Зонненберг, будет разговаривать без стеснения со своим собственным командиром? А манеры? А разговор? Нет, нет, это положительно невозможно!
Но почему же Вандельштерн с такой непоколебимой уверенностью настаивал на своем утверждении?
Бедный Левенвальд не знал, что и подумать. С одной стороны, он не доверял, с другой – это недоверие казалось ему преступлением против друга.
Теперь он с нетерпением ждал, что покажет придуманное им испытание. Он приказал Вандельштерну прислать к нему одного из товарищей Лахнера, а именно того, который спит в казарме рядом с ним. Он хотел, чтобы тот прислушался как следует к звуку голоса Лахнера, хорошенько присмотрелся к его лицу и сказал, Лахнер ли это или это ошибка. Правда, рядовой Талер безапелляционно признал в майоре Лахнера…
«Ну, погоди ж ты, – думал Левенвальд, беспокойно ерзая на стуле, – если окажется, что все это просто показалось Талеру с пьяных глаз, так я прикажу снять с него семь шкур».
Наконец момент выяснения всей этой темной истории настал. Дверь столовой распахнулась, и туда вошел гренадер с корзинкой апельсинов в руке. Он вытянулся в струнку и почтительно доложил, что его прислал подпоручик Вандельштерн.
– Отдать апельсины вестовому.
– Слушаюсь, господин полковник.
– Ты из какой роты?
– Из первой, господин полковник.
– Как зовут?
– Биндер, господин полковник.
– Так это ты отличаешься каллиграфическим искусством?
– Точно так, господин полковник.
– Этот нижний чин отличается выдающимся по красоте почерком, – обратился Левенвальд к Лахнеру, – бумаги, которые он переписывает, производят впечатление гравированных, а не рукописных.
Появление Биндера снова воскресило надежду Лахнера выпутаться из этого скверного положения. Он отлично понимал план Левенвальда и рассчитывал на любовь коллеги, – ведь когда прошел первый порыв горя и отчаяния после вынужденного поступления в солдаты, Биндер всем своим поведением доказал, что желает оставаться верным и преданным товарищем, который не изменит былой университетской дружбе. Поэтому Лахнер был совершенно уверен, что хотя Биндеру и вполне непонятна вся эта комедия с переодеванием, но товарища он не выдаст.
– Давно служишь? – небрежно спросил наш самозванец Биндера.
– Два года и несколько месяцев, господин майор, – почтительно ответил тот.
– И до сих пор не произведен в ефрейторы? Ну, ну! Должно быть, братец, ты неважный служака.
Биндер молчал.
– Сколько раз ты подвергался дисциплинарным взысканиям? – продолжал Лахнер.
– Ни одного раза, господин майор.
– Тогда я уже ровно ничего не понимаю, – сказал «майор», покачивая головой. – Раз обладаешь таким почерком и служишь исправно, то… Что-то тут нечисто.
Он отвернулся от товарища и заговорил с графиней Левенвальд. Полковник отпустил Биндера и сам вышел вслед за ним. Лахнер сразу понял, что теперь Биндера будут спрашивать о тождестве Кауница с рядовым Лахнером. Но когда из соседней комнаты послышались проклятия и громкая ругань, то он понял также, насколько не ошибался, полагаясь на преданность Биндера: очевидно было, что последний отверг предположения подпоручика Вандельштерна.
– У мужа ужасный характер, – вздыхая, сказала графиня Аглая. – Он – раб своего темперамента. Из-за каждого пустяка он готов поднять целый скандал…
В этот момент дверь резко растворилась и с треском захлопнулась за вернувшимся в столовую Левенвальдом. Он тяжело дышал, и все его лицо было совершенно красным от бешенства. На вопрос жены он что-то сердито буркнул и тяжело опустился на стул.
– Однако ты довольно-таки странно развлекаешь нашего гостя, – иронически сказала графиня.
Левенвальд тяжело перевел дух, залпом выпил большой бокал вина, провел рукой по лбу, словно отгоняя от себя какую-то навязчивую досадную мысль, и сказал, обращаясь к Лахнеру:
– Ты уж прости меня, пожалуйста, милый Артур, но у меня совершенно несносный характер: я не в состоянии сдержаться, когда меня бесят так, как сегодня… У меня в полку черт знает что происходит. Мне только что пришлось отдать приказание довольно неприятного свойства.
– Именно? – полюбопытствовала Аглая.
– Я приказал отправить одного из подпоручиков к профосу, а одного из нижних чинов – на «кобылу»[29].
– Да что случилось?
– Не стоит говорить, а то я опять начну беситься. Выпьем-ка еще по стаканчику, милый Артур.
Лахнер внутренне облегченно перевел дух. Теперь надолго была устранена одна из самых страшных опасностей. Судьба Талера заставит всех и каждого воздержаться от опасных разоблачений, и даже те, которые не усомнятся в тождестве их товарища с этим бароном Кауницем, поостерегутся высказывать вслух какие-либо предположения.
15
Ритурнель (фр. ritournelle, от ит. ritorno – возвращение) – здесь: вступительный и заключительный отыгрыш в танцевальной музыке.
16
Герой знаменитого романа Сэмюела Ричардсона (1689–1761) «Кларисса Гарлоу». Этот роман появился незадолго до времени действия настоящего повествования и был немедленно переведен почти на все языки, вызывая всеобщую сенсацию. Ловелас остался в литературе всех народов синонимом бессердечного губителя женских сердец. Это – опошленный Дон Жуан, но действующий не под влиянием беспокойного духа, а под напором чувственности.
17
Для того чтобы читатель мог понять соль этой наглой выходки, мы хотим объяснить, что северогерманский выговор вообще значительно отличался от южного, и в частности – произношение смягчающего «о», которое у пруссаков звучит как открытое «э». Поэтому слово «безухая» – «ohrlos» звучало совсем как «ehrlos» – бесчестная.
18
Осел (нем.).
19
Крикливая и хвастливая бездарность, Ваничек был очень скоро забыт и не оставил ни малейшего следа в литературе.
20
На грани XVI и XVII столетий в Голландии жил богослов Янсен (или Янсениус), который разработал и ввел в основную догму отвергнутое католическою церковью учение блаженного Августина о свободной воле и предопределении. Последователей Янсена звали янсенистами, а само учение – янсенизмом. Особенно ярыми противниками янсенизма были иезуиты.
21
Отец Кенель (1634–1719) был одним из выдающихся янсенистских богословов.
22
Готфрид Бюргер (1747–1794) – немецкий поэт-националист, первый стал черпать вдохновение из народных песен и легенд. Большинство его современников с презрением отворачивались от его музы, считая ее грубой, непоэтической и непристойной. Ведь в те времена от поэта требовались прежде всего приторность, искусственность, аристократичность темы и ее трактовки. Тем не менее, явившись основателем целой школы, вдохнувшей в немецкую поэзию новую струю, Бюргер пережил века.
23
Популярный романист того времени.
24
В греческой мифологии Кастальский источник считался символом поэтического вдохновения. Он располагался на южном склоне Парнаса. Назван по имени нимфы Касталии, которая, спасаясь от преследования Аполлона, по преданию, бросилась в этот источник.
25
Куафер (фр. coiffeur) – парикмахер.
26
Не понимаю! (лат.)
27
Молчи (лат.).
28
Консоме (фр. consomme) – крепкий мясной бульон, обычно из дичи.
29
«Кобыла» – станок, к которому привязывают провинившегося во время экзекуции; обычно толстая широкая доска с вырезом для шеи и рук, установленная вертикально.