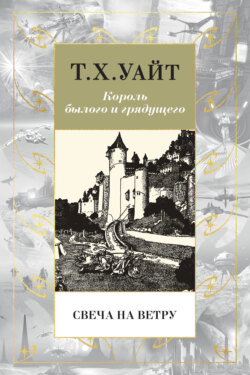Читать книгу Свеча на ветру - Теренс Хэнбери Уайт - Страница 4
3
ОглавлениеЛанселот с Гвиневерой сидели у окна башенного покоя.
Человек нашего времени, знакомый с Артуровской легендой лишь благодаря Теннисону и подобным ему, поразился бы, увидев прославленных любовников теперь, когда пора расцвета для них давно уже миновала. Любой из нас, с привычной легкостью строящих представление о любви на романтической истории двух детей, Ромео и Джульетты, немало бы изумился, доведись ему вернуться в Средневековье, в эпоху, когда один из поэтов рыцарства писал о мужчине, что у него есть «en ciel un dieu, par terre une déesse»[2]. В те времена влюбленных набирали не из подростков и юношей, но из людей поживших, понимающих что к чему. В ту пору люди любили друг друга так долго, как жили, не прибегая к удобным выдумкам вроде бракоразводных судов и психоаналитиков. У этих людей был Бог в небесах, а на земле богиня, – и поскольку человеку, который вручает всю свою жизнь богине, поневоле приходится проявлять в выборе ее некоторую осторожность, они искали себе богинь, основываясь не на преходящих, исключительно плотских критериях, и не покидали своих избранниц играючи, едва только плоть переставала оправдывать их ожидания.
Ланселот с Гвиневерой сидели у окна высокой крепостной башни, а внизу под пологими солнечными лучами лежала Англия Короля Артура.
То была Страна Волшебства эпохи Средневековья, эпохи, которую многие привычно считают «темной», и именно Артур превратил эту страну в то, чем она стала. Когда старый Король взошел на трон, она была Англией закованных в доспехи баронов, голодного мора и войн. Она была страной, в которой судья устанавливал истину «божьим судом», то есть каленым железом, в которой законы для англичан и норманнов были различны, в которой звучал печальный бессловесный напев Морфа-Руддлана. В ту пору на всем побережье, куда только достигали ладьи иноземцев, не осталось в живых ни единого зверя и ни единого плодового дерева в целости. В ту пору по лесам и болотам остатки саксов сражались, противясь жестокому игу Утера Завоевателя; в ту пору слова «норманн» и «барон» означали то же самое, что ныне «сахиб»; в ту пору голова Ллевеллина ап Гриффита в короне из побегов плюща плесневела на тесно торчавших из стен Тауэра пиках; в ту пору вы могли повстречать при дороге калек-побирушек, из коих каждый тащил в левой руке свою же правую, и с ними лесных псов, тоже изуродованных, ковыляющих на трех лапах, – дабы неповадно было им охотиться в лесных угодьях своего господина. К приходу Артура сельские жители уже попривыкли каждую ночь баррикадироваться в собственных домах, как бы в ожидании осады, и просить у Бога мирной ночи, – глава семьи повторял молитвы, возносимые в открытом море при приближении шторма и завершавшиеся мольбой: «Господи, спаси и помилуй», на что все присутствующие отвечали: «Аминь». В те ранние дни в баронском замке можно было видеть горемык с выпотрошенными животами, чьи кровоточащие внутренности поджаривали у них на глазах, людей распоротых, дабы выяснить, не проглотили ль они свое золото, людей с забитыми в рот зазубренными железными клиньями, людей, подвешенных вниз головой над чадными очагами, людей, брошенных в змеиную яму, людей, чьи головы стягивали кожаные жгуты, людей, втиснутых в короба, набитые камнями, сокрушавшими несчастным кости. Достаточно обратиться к посвященной тому времени литературе, повествующей о мифологических семействах вроде Плантагенетов, Капетов и прочих, чтобы понять, что творилось в этой стране. Легендарные короли, подобные Иоанну, имели обыкновение вешать перед обедом по двадцать восемь заложников; тогда как королей вроде Филиппа оберегали «сержанты-булавоносцы» – подобие штурмовиков, охранявших своего господина с кистенями в руках; короли же вроде Людовика рубили врагам головы на эшафотах, под которыми они заставляли стоять вражьих детишек, дабы кровь родителей капала им на головы. Так, во всяком случае, уверял нас Ингульф Кройлендский, покамест не выяснилось, что все его писания – сплошная подделка. Затем имелись еще архиепископы, которых называли «шкуродерами»; и церкви использовали в качестве укрепленных фортов, роя окопы прямо по кладбищам, среди мертвых костей; и существовали прейскуранты, по которым всякий мог откупиться от ответственности за любое убийство; и тела отлученных валялись непогребенными; и оголодавшие крестьяне кормились древесной корой, а то и друг другом (один такой съел сорок восемь человек). По одну сторону от вас могли поджаривать еретиков (сорок пять тамплиеров сожгли за один только день), а по другую – катапультами закидывать в осажденные крепости головы пленников. Тут извивался в цепях вождь Жакерии, коронованный раскаленным докрасна железным треножником. Там возносил жалобы папа, сидящий в узилище в ожидании выкупа, или корчился другой, отведавший яду. В стены замков замуровывались в виде золотых брусков целые сокровища, после чего строителей отправляли на тот свет. Дети играли на улицах Парижа трупом Коннетабля, другие же – вместе с женщинами и стариками, – оказавшись в кольце осады, хоть и вне стен осажденного города, умирали голодной смертью. С шипением горели привязанные к столбам Гус и Иероним в митрах вероотступников на головах. Плыли вниз по Сене слабоумные из Жумьежа с перерезанными подколенными жилами. В замке Жиля де Реца обнаружили не менее тонны пережженных детских костей – он убивал по двенадцать дюжин детей в год, и так целых девять лет. Герцог Беррийский лишился королевства по причине непопулярности, которую он заработал, опечалясь при известии о павших в сражении восьмистах пехотинцах. Юного графа Сен-Поль обучали искусству боя, предоставляя ему две дюжины живых узников, дабы он попрактиковался на них в различных способах убийства. Людовик Одиннадцатый, еще один выдуманный король, держал неприятных ему епископов в довольно дорогостоящих клетках. Герцог Роберт был прозван «Великолепным» своими вельможами и «Дьяволом» теми из верующих, кому привелось пожить под его рукой. И во все это время, до прихода Артура, простые люди, – из коих в одном только городе всего за неделю волки сожрали четырнадцать человек, коих третью часть унесла Черная смерть[3], чьи трупы набивали в ямы «наподобие бекона», чьим ночным убежищем часто становились леса, болота и пещеры, коих за семьдесят лет сорок восемь раз косило голодным мором, – эти самые люди с благоговением взирали на высокородных феодальных властителей, именуемых «господами неба и земли», а будучи изувеченными каким-нибудь епископом, коему пролитие крови было заказано, по которой причине он ходил на них с железной дубиной, громко пеняли на то, что Христос и его святые спят в небесах.
«Pourquoi», – в отчаянии пели бедняги:
Pourquoi nous laisser faire dommage?
Nous sommes hommes comme ies sont[4].
Такова была на удивление современная цивилизация, доставшаяся Артуру в наследство. Но не она открывалась взорам наших любовников. Ныне, освещенная яблочно-зеленой вечерней зарей, перед ними расстилалась баснословная Старая Англия Средневековья – той его поры, когда оно вовсе не было темным. В Англии, созерцаемой Ланселотом и Гвиневерой, стоял Век Индивидуальностей.
Что за чудное время – эпоха рыцарства! Каждый был собой и только собой, ревностно воплощая бесчисленные странности человеческой натуры. Лежавший под окнами башенного покоя ландшафт переполняло такое буйство людей и предметов, что и не знаешь, с какого конца взяться за его описание.
Темное Средневековье! Удивительна все-таки бесцеремонность, с какой девятнадцатый век наклеивал свои ярлыки. Ибо здесь, под этими окнами, в Артуровой Стране Волшебства, солнце пылало сотнями самоцветов в витражах монастырей и обителей, переливаясь на шпицах соборов и замков, возведенных с неподдельной любовью. В ту темную пору архитектура таким светом озаряла страстные души людей, что они наделяли свои крепости любовными прозвищами. Ланселотов Замок Веселой Стражи вовсе не был чем-то исключительным в пору, которая оставила нам Ботэ, Плезанс или Мальвозин, – дурных соседей своим врагам, – в пору, когда даже остолоп наподобие воображаемого Ричарда Львиное Сердце, страдавшего, кстати сказать, от чирьев, мог назвать свою крепость «Gaillard», сиречь «Молодчага», и говорить о ней, «моя годовалая красавица-дочка». Да что там, даже такой легендарный прохвост, как Вильгельм Завоеватель, и тот носил титул «Великого Строителя». А возьмите хотя бы стекло, окрашенное на всю глубину в пять благородных тонов. Стекло было грубее нашего, толще, вставлялось не такими большими, как ныне, пластинами. Люди той поры любили его с той же страстью, с какой давали имена своим замкам, и Виллар де Оннекур, потрясенный во время путешествия особенной красотой одного из окон, остановился, чтобы зарисовать его, пояснив, что «я находился в пути, подчиняясь зову, пришедшему из земли Венгерской, когда зарисовал это окно, поскольку оно усладило меня более всех иных окон». Вообразите себе внутреннее убранство старинных соборов – не привычный для нас интерьер, серый и голый, но сверкание красок, фрески, писанные по сырой штукатурке, на которых все персонажи стоят на цыпочках, колыхание гобеленов или багдадской парчи. Вообразите и интерьеры тех замков, что виднелись из окна Гвиневеры. Они не походили уже на угрюмые цитадели предшественников Артура. Теперь в них стояла мебель, сработанная столяром, а не плотником; по стенам, скрывая двери, мягко спадали нарядные ткани Арраса, гобелены, подобные тому, на котором изображен турнир в Сен-Дени и который, хоть и покрывает он более четырех сотен квадратных ярдов, был соткан менее чем за три года – такое рвение снедало его творцов. Даже сегодня, внимательно осмотревшись в разрушенном замке, можно порой обнаружить крючья, с которых свисали эти ослепительные шпалеры. Вспомните еще о златокузнецах Лотарингии, создававших раки для мощей в виде маленьких храмов с боковыми приделами, статуями, трансептами и всем прочим, совершенные кукольные домики; вспомните лиможские и выемчатые эмали, немецкую резьбу по кости, ирландскую работу по металлу, инкрустированную гранатами. Наконец, если вам и впрямь хочется представить себе брожение творческого начала в эти наши пресловутые темные века, прежде всего избавьтесь от представления, будто письменная культура пришла в Европу лишь после падения Константинополя. В те дни каждый клирик в каждой стране был человеком культурным, ибо в этом и состояла его профессия. «Каждая написанная буква, – говорил средневековый аббат, – это рана, нанесенная дьяволу». Библиотека Сен-Рикье уже в девятом веке содержала двести пятьдесят шесть томов, включая Вергилия, Цицерона, Теренция и Макробия. У Карла Пятого имелось не менее девятисот десяти книг, так что личная его коллекция была почти столь же обширной, как нынешняя «Всеобщая Библиотека».
Ну и наконец, сами люди, видные из окна, – блестящее сборище разного рода оригиналов, каждый из которых сознавал, что обладает помимо тела такой изумительной вещью, как душа, и выявлял ее на свой, порою удивительнейший манер. В лице Сильвестра Второго на папский престол взошел прославленный чернокнижник, хоть и ходила о нем дурная молва, будто бы именно он изобрел маятниковые часы. Баснословный король Франции по имени Роберт, на свою беду отлученный от церкви, испытал ужасные затруднения в домашнем обиходе, поскольку единственная пара слуг, которых удалось уговорить стряпать для него, поставила условием, чтобы после каждой трапезы все причастные к ней кастрюли бросались в огонь. Архиепископ Кентерберийский, отлучивший под горячую руку сразу всех пребендариев собора Святого Павла, ворвался в Приорию Святого Варфоломея и прямо посреди храма вышиб дух из субприора, чем вызвал такие волнения, что на нем разодрали священническое облачение (под которым, впрочем, оказались доспехи), а самому ему пришлось лодкой удирать в Лэмбит. Графиня Анжуйская имела обыкновение при свершении таинства мессы исчезать сквозь окно. Мадам Трот де Салерно использовала собственные уши в качестве носовых платков, а брови ее свисали до самых плеч, будто серебряные цепочки. Епископа Батского (дело было при воображаемом Эдуарде Первом) по здравом размышлении сочли неподходящим для архиепископского поста по той причине, что у него было слишком много незаконнорожденных детей – не просто несколько штук, а слишком много. Но и сам этот епископ навряд ли мог потягаться с графиней Геннебергской, которая взяла да и родила за один присест триста шестьдесят пять младенцев.
То был век полноты, век, когда человек во всякое дело нырял с головой. Возможно, и насаждаемая Артуром идея христианского мира возникла как результат всестороннего образования, которое дал ему Мерлин.
Ибо Король, по крайней мере в истолковании Мэлори, являлся святым покровителем рыцарства. Он не был рассерженным Бриттом в раскраске из вайды, мечущимся по пятому веку, – ни даже одним из тех nouveaux riches de la Poles, которые, по-видимому, омрачили последние годы самого Мэлори. Артур был сердцем рыцарства, достигшего расцвета, – столетия, может быть, за два до того, как наш не чающий души в старине автор приступил к своему труду. Он был олицетворением всего, что имелось достойного в Средневековье, и все, что он олицетворял, было создано им самим.
В представлении Мэлори Артур Английский – это поборник цивилизации, совершенно неправильно толкуемой историческими трудами. В эпоху рыцарства серв вовсе не был рабом, лишенным всякой надежды. Напротив, у него имелось по меньшей мере три вполне законных пути для восхождения по ступеням общественной лестницы, и превосходнейший из этих путей предоставляла ему Католическая Церковь. Благодаря политике Артура церковь эта, и поныне являющаяся величайшим из всех сообществ, открытых для образованных людей, обратилась в столбовую дорогу, доступную наинизшему из рабов. Сакс-землепашец превратился в папу Адриана IV, сын плотника – в Григория VII. В эти столь презираемые нами Средние века вы могли стать великим человеком, почитаемым во всем мире, просто дав себе труд учиться. Убеждение же, что цивилизация Артура отставала по части столь уважаемой нами науки, совершенно ошибочно. Ученые того времени, хоть и называли их магами, изобретали вещи невероятные, ничуть не худшие наших, – просто мы так давно пользуемся их открытиями, что уже к ним попривыкли. Величайшие среди магов – Альбертус Магнус, брат Бэкон и Раймонд Луллий – ведали кое-какие тайны, утраченные ныне, и между делом выдумали то, что и по сей день является для цивилизации едва ли не основным продуктом потребления, а именно порох. Их чтили за ученость, а Альберта Великого и вовсе произвели в епископы. Один из них, человек по имени Баптиста Порта, судя по всему, изобрел даже кинематограф – да притом оказался настолько разумен, что решил оставить это изобретение без дальнейшего развития.
Что до самолетов, то еще в десятом веке монах по имени Этельмайер экспериментировал с ними и вполне мог преуспеть, кабы не несчастная оплошность, допущенная при креплении хвостового узла. Он разбился. «Quod, – говорит Вильям Мальмсберийский, – caudam in posteriori parte oblitus fuerat adaptare».
Даже в том, что представляется нам до крайности современным, темные века не так уж и сильно от нас отстают. Во всяком случае, люди той поры давали замечательные названия некоторым из самых зверских своих коктейлей, к примеру: «Задира», «Бешеный Пес», «Отче-Шлюхин Сын», «Ангельская Снедь», «Млеко Дракона», «Лезь-на-Стену», «Шире Шаг» и «Ноги Вверх».
* * *
Вид из окна открывался прелестный, хоть отчасти и непривычный. Там, где у нас лежат разгороженные поля и парки, у них располагались крестьянские общинные земли, вересковые пустоши, огромных размеров леса и болота. Шервудский лес тянулся на сотни миль от Ноттингема до самого Йорка. Население трудолюбиво занималось бортничеством, распугивало грачей, пахало на волах, – тут вам придется заглянуть в «Люттереллов Псалтырь», замечательно изображающий эти занятия. В те дни, если вас интересовали разного рода странности, вы могли бы, при определенном везении, увидеть из окна скачущего мимо рыцаря. Ваше внимание наверняка привлекла бы его голова, обритая вкруг ушей и на затылке, – на макушке, однако, волосы торчали вверх, как у японской куклы, так что в целом голова походила на деревенский каравай с солонкой наверху. Этот пук волос, да еще прикрытый шлемом, отменно гасил удар. Следом, возможно, проехал бы (и, вероятно, на иноходце) клирик – у него с волосами дело обстояло в точности наоборот, ибо его макушка благодаря тонзуре была совершенно голой. Когда он в первый раз являлся к епископу, чтобы тот возвел его в сан, он приносил с собой ножницы. Затем, если бы вам захотелось увидеть какого-нибудь совсем уже удивительного всадника, вы могли бы дождаться крестоносца, поклявшегося освободить Гроб Господень. Вы, разумеется, ожидали бы увидеть крест на его накидке, но вряд ли вам могло прийти в голову, что он поместит этот символ практически везде, где только сможет, – до того ему было любо избранное им занятие. Подобно новопосвященному бойскауту, охваченному энтузиазмом, он лепил крест и на щит своего герба, и на кафтан, и на шлем, и на седло, и на конскую узду. Следующим проезжим мог оказаться какой-нибудь мирской брат, принадлежащий к одному из цистерцианских орденов, и по его одеянию вы определенно решили бы, что он – человек ученый. Увы, он-то как раз и был неграмотен ex officio[5]. Вся его служба состояла в наложении свинцовых печатей на папские буллы, и ради сохранения тайны папской переписки на эти должности набирали людей надежных, таких, что и буквы прочесть не сумеют. Следом мог объявиться сакс – при бороде и в подобии фригийского колпака, носимого в знак непокорства, следом – рыцарь из болот, что на северной границе. Последний, поскольку он жил ночным разбоем, мог изукрасить свои одежды, запустив месяц и звезды по лазурному фону. В какой-то части пейзажа вы могли бы приметить дымок, возносящийся над мехами алхимика, пытавшегося, с похвальным прилежанием, обратить свинец в золото – искусство, недоступное нам и поныне, хотя мы уже подбираемся к нему посредством атомного синтеза. Дальше, в окрестностях монастыря, вы, пожалуй, смогли бы различить сердитых монахов, босиком марширующих вокруг своей обители, – они, надо полагать, разругались с аббатом, ибо, насылая на него порчу, двигались против солнца. Теперь взгляните вон в том направлении, видите, там виноградник с оградою из костей, – в начале правления Артура удалось совершить открытие, согласно которому из костей получаются превосходные ограды для виноградников, погостов и даже для укрепленных фортов, – а если вы посмотрите вон туда, вам, быть может, удастся разглядеть ворота замка, сильно похожие на выставку охотничьих трофеев. Ворота сплошь покрывали прибитые к ним головы волков, медведей, оленей, ну и так далее. А там, вдали, чуть левее, вполне мог протекать – в соответствии с правилами, изложенными Жоффруа де Прейи, – рыцарский турнир, и королевские герольды тщательно, словно рефери перед боксерским матчем, осматривали бойцов, проверяя, не прикрепились ли они как-нибудь к седлам. Во времена предполагаемого короля Эдуарда III такие вот рефери перед самым началом судебного поединка, имевшего состояться между неким графом Солсберийским и Солсберийским же епископом, обнаружили, что под доспехами у бойца, выступавшего за епископа, по всему телу нашиты на одежду молитвы и волшебные заклинания – а это было все равно что боксеру засунуть в перчатку конскую подкову. Прямо под самым окном могла угрюмо проехать верхами пара мучимых запором папских нунциев, возвращающихся в Рим. Одна такая пара была как-то послана к Варнаве Висконти с буллами, в которых он отлучался от церкви, Варнава же лишь заставил их съесть привезенные буллы – пергаменты, ленты, свинцовые печати и все остальное. Сразу за ними мог проплестись под окном пилигрим-наемник, опираясь на крепкий узловатый посох, подбитый железом, как альпеншток, и сгибаясь под бременем медалей, на коих почиет благодать, святых реликвий, черепков с таинственными надписями, нерукотворных ликов и тому подобного. Сам себя он именовал паломником, и, если ему уже удалось вдоволь постранствовать, реликвии его могли включать перо Архангела Гавриила, несколько углей из тех, на которых поджарили Св. Лаврентия, палец Святого Духа – «целый и крепкий, каким и был он вовеки», «сосуд с потом Св. Михаила, собранным после его борений с диаволом», малую часть «куста, из коего Господь воззвал к Моисею», камзол Св. Петра или же толику молока Пресвятой Девы, что сохраняется в Уолсингеме. За паломником могла крадучись проследовать личность несколько более греховная – один из тех, кто «днем спит, ночью же бдит, ест хорошо и пьет хорошо, но имением не владеет». Это мог быть грабитель, о подобных коему в ту пору писали:
А для воров закон таков: хватай и вяжи лиходея,
И без жалости вешай на крепком суку, и пусть его ветер греет.
Но до того, как закачаться на ветру, он еще поживет свободной жизнью. Его подруга твердо ступает с ним рядом, и за ее голову также обещана награда, – она коротко остригла волосы перед тем, как уйти в леса, и зовется «разбойничьей женкой». Время от времени она оглядывается – не кричат ли уже позади «держи вора!», не видать ли погони.
Здесь мог появиться барон, перед которым несут с осторожностью горячий пирог, ибо один раз в году он обязан приносить такой пирог Королю, дабы Король Артур понюхал его, принимая запах в виде уплаты ленной повинности. Мог показаться и другой барон, преследующий с копьем наперевес какого-нибудь дракона, – бум! – и барон рушился наземь, а конь трусил себе дальше. Впрочем, если такое случалось, один из слуг тут же подводил ему своего коня и помогал взобраться на оного, – как и мы в наши дни поступили бы с тем, кто возглавляет охоту, – ибо таков был феодальный закон. Далеко на севере, под уже выцветающим закатным небом, мог вдруг затеплиться свет в окне деревенского дома, где некая трудолюбивая ведьма не только вылепливала из воска фигурку человека, который не пришелся ей по душе, но даже подвергала фигурку обряду крещения – момент безусловно важный, – прежде чем утыкать ее булавками. Кстати сказать, один из ее друзей-священников, впрочем сменивший хозяина, с охотой служил заупокойные мессы по любому, от кого вам желательно было избавиться, – и, дойдя до слов «Requiem aeternam dona ei, Domine»[6], выговаривал оные истово, хотя подразумеваемый человек был еще жив. Столь же далеко на востоке вы могли бы под тем же закатом увидеть Ингерранда де Мариньи, того самого, который построил огромную виселицу в Монфальконе, теперь и сам он, повинный в занятиях Черной Магией, клацая костями, догнивает на этой виселице. По дороге могли проскакать Герцоги – Беррийский с Бретонским – два достойных человека в похожих на стальные атласных кирасах. Эти двое не пожелали воспользоваться преимуществами, какие дают доспехи, и, поскольку в атласных одеждах было не так жарко, они решили ничем, кроме отваги, не отличаться от обыкновенных людей. Нечто подобное мог бы проделать и Ланселот. Над ними на склоне холма мог, оставаясь незамеченным, восседать Развеселый Уот с всегдашним своим туеском, наполненным дегтем. Он представлял собой типичнейшую фигуру Страны Волшебства, деготь же предназначался для овец – это был антисептик. Если бы вы сказали ему: «У нас тут всяк сам себе барин», – он бы согласился с вами немедленно, ибо он-то эту пословицу и выдумал, а уж мы ее после переиначили, заменив барана на барина.
Еще на большем расстоянии мог обнаружиться банкрот, нещадно секомый на каком-нибудь из торжищ Московии, – не от плохого к нему отношения, но по причине жгучей надежды, что, если он будет вопить достаточно громко, кто-нибудь из его друзей либо родичей, стоящих в толпе, проникнется состраданием и уплатит его долги. Далее к югу, в сторону Средиземноморского бассейна, вы могли бы увидеть моряка, караемого, согласно закону Ричарда Львиное Сердце, за пристрастие к азартной игре. Кара заключалась в том, что моряка три раза бросали с грот-мачты в море, и всякий раз, что он плюхался в воду, товарищи его ободрительно вопили «ура». А на рынке прямо под вами вполне могло совершаться третье затейливое наказание. Виноторговца, коего товар оказывался дурного качества, привязывали к позорному столбу и принуждали выпить непомерное количество его же собственного вина, а все оставшееся выливали ему на голову. И как же болела назавтра бедная голова! Посмотрев вон в ту сторону, вы могли бы, если у вас достаточно широкие взгляды, получить удовольствие, наблюдая за разухабистой Алисой, наградившей ухажера удивительным поцелуем, как о том сообщает Чосер. Посмотрев же в эту сторону, вы обнаружили бы отчаявшегося Мельника и его семейство, пытающееся разобраться в светопреставлении, случившемся прошлой ночью в их доме из-за сдвинутой с ее места колыбели, о чем повествует в своем рассказе Мажордом. На игровой площадке вон той монастырской школы несколько школяров со священным трепетом разглядывают своего однокашника, коему хватило находчивости и удачи наповал уложить из новомодной пушки Графа Солсберийского. И может быть, рядом с площадкой в вечернем свете роняют лепестки цветущие сливы, появившиеся, подобно Мерлиновой шелковице, совсем недавно. Другой мальчуган, на сей раз четырехлетний король Шотландии, с грустью вручает своей няньке королевский рескрипт, дозволяющий ей шлепать короля без риска быть обвиненной в государственной измене. Весьма малопочтенного вида армия – в сущности, организованная банда, привыкшая добывать себе пропитание мечом, – могла бродить от дверей к дверям, выпрашивая куски (участь, коей достойна всякая армия); а человеку, нашедшему убежище вон в той церкви, что к востоку отсюда, вполне могли оттяпать ногу, высуни он ее на полшага за дверь. В том же самом пристанище вы обнаружили бы целое общество фальшивомонетчиков, воров, убийц и неисправных должников, которые в успокоительном уединении церкви, где никто их не арестует, старательно чеканили фальшивые деньги или острили ножи, приготовляясь к вечерней прогулке. Худшее, что могло приключиться с ними после того, как они здесь укрылись, – это изгнание из страны. В этом случае им пришлось бы пешком тащиться до Дувра, все время держась середины дороги и сжимая распятие – если они хоть на миг выпускали его из рук, на них разрешалось напасть, – а добравшись туда, им надлежало, если корабля для них сразу не находилось, по горло зайти в воду, доказывая тем самым, что они взаправду стараются покинуть страну.
Известно ли вам, что в ту мрачную эпоху, которую мы изучаем, глядя в окно Гвиневеры, людям доставало благопристойности, чтобы подчиняться Католической Церкви, когда она налагала запрет на любые военные действия, – этот запрет назывался Божиим Перемирием, а длилось оно с пятницы до понедельника, а равно во весь Рождественский и Великий Посты? Неужели вы полагаете, что эти люди с их битвами, голодом, Черной Смертью и рабством были менее просвещенными, нежели мы с нашими войнами, блокадами, гриппом и всеобщей воинской повинностью? Пусть они даже были настолько глупы, что верили, будто Земля является центром Вселенной, сами-то мы разве не верим, что человек – это цвет творения?
Если рыбы потратили миллион лет на превращение в рептилий, так ли уж неузнаваемо переменился Человек за несколько прожитых нами столетий?
2
Бог в небесах, а на земле богиня (фр.).
3
Чума.
4
Почему дозволено им обижать нас? Ведь мы такие же люди, как и они (фр.).
5
По должности (лат.).
6
Вечный покой дай ему, Господи (лат.).