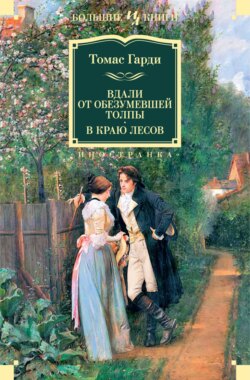Читать книгу Вдали от обезумевшей толпы. В краю лесов - Томас Харди, Eleanor Bron, Томас Харди (Гарди) - Страница 28
Вдали от обезумевшей толпы
Глава XXVI
Сцена на краю скошенного луга
Оглавление– Ах, мисс Эвердин, – сказал сержант, прикладывая руку к козырьку. – Как это так я не сообразил, что это вы, когда говорил с вами в тот вечер. А ведь если бы я только подумал, то должен бы догадаться, что Королева Хлебной биржи (правда – она ведь правда в любой час дня или ночи, а я только вчера в Кэстербридже слышал, что вас так называют!) – это вы, и не может быть никто иной. Я поспешил вам навстречу и приношу вам тысячу извинений за то, что, поддавшись своим чувствам, осмелился так откровенно выразить вам свое восхищение, не будучи с вами знаком. Но, правда, я в здешних краях не чужой, – я сержант Трой, как я вам уже говорил, на этих самых лугах я всегда, еще мальчишкой, помогал вашему дядюшке. И вот сегодня пришел поработать для вас.
– Полагаю, я должна поблагодарить вас за это, сержант Трой, – холодным топом промолвила Королева Хлебной биржи.
Сержант явно обиделся и огорчился.
– Да нет, мисс Эвердин. Зачем же думать, что это уж так обязательно.
– Очень рада, что это не так.
– А почему, если не сочтете за дерзость, позвольте спросить?
– Потому что я не хочу быть вам обязанной ни в чем.
– Боюсь, что я так навредил себе своим языком, что теперь мне уже ничто не поможет, и я обречен вечно каяться. Подумать, в какое ужасное время мы живем, – что` только не обрушивается на человека, который от чистого сердца осмелился сказать женщине, что она красива. Ведь это самое большее, что я посмел, – это вы не можете не признать, скромнее я не мог выразиться, в этом я сам признаюсь.
– Все это болтовня, без которой я отлично могла бы обойтись.
– Так, так. А по-моему, вы просто уклоняетесь от темы.
– Нет. Я только хочу сказать, что место, на котором вы стоите, для меня было бы гораздо приятнее без вас.
– А для меня ваши проклятья приятнее поцелуев любой женщины в мире, поэтому я не сдвинусь с места.
Батшеба на секунду опешила. И в то же время она чувствовала, что не может обрезать его, ведь как-никак он действительно пришел помочь на сенокосе.
– Ну хорошо, – продолжал Трой. – Я готов допустить, бывает похвала, которая граничит с дерзостью, и, может быть, в этом и есть моя вина. Но бывает обхожденье, которое явно несправедливо, и уж в этом, безусловно, повинны вы. Подумать только, простой, прямодушный человек, которого никогда не учили притворяться, высказал напрямик то, что он думает, и, может, у него вырвалось это нечаянно, а его за это карают, как нечестивца.
– Это совсем непохоже на наш с вами случай, – сказала Батшеба, поворачиваясь, чтобы уйти. – Я не позволяю незнакомым людям никакой развязности и бесцеремонности по отношению ко мне, даже если они восхваляют меня.
– А, так, значит, вас оскорбляет не самый факт, а, так сказать, форма выражения, – спокойно сказал он. – Ну что ж, мне остается с грустью удовлетвориться сознанием, что я сказал чистую правду, приятны или обидны показались вам мои слова. Или вы хотели бы, чтобы я, поглядев на вас, сказал бы своим знакомым, что вы дурнушка, чтобы вы при встрече с ними не боялись, что они будут глазеть на вас. Ну нет, я не способен так глупо оболгать красоту, и только затем, чтобы поощрить излишнюю скромность у такой единственной в своем роде женщины в Англии.
– Все это выдумки, то, что вы говорите, – невольно рассмеявшись его хитрой уловке, сказала Батшеба. – Вы просто на редкость изобретательны, сержант Трой. Почему вы не могли просто молча пойти своей дорогой в тот вечер – вот все, что я ставлю вам в вину.
– Потому что не мог. Половина удовольствия от любого ощущения состоит в том, что вам хочется тут же его высказать, я это и сделал. И то же самое было бы и в противном случае, – будь вы уродливой старухой, – наверно, у меня также вырвалось бы невольное восклицание.
– И давно вы страдаете такой чрезмерной впечатлительностью?
– О, с раннего детства, как только научился отличать красоту от уродства.
– Надо полагать, что это чувство различия, о котором вы говорите, не ограничивается только внешностью, а распространяется и на душевные качества?
– Ну, о душе или религии, своей или чьей бы то ни было, я не берусь говорить. Хотя я, пожалуй, был бы неплохим христианином, если бы вы, красивые женщины, не сделали меня идолопоклонником.
Батшеба прошла вперед, чтобы скрыть невольную улыбку и предательские ямочки на щеках. Трой, помахивая стеком, двинулся за ней.
– Мисс Эвердин, вы прощаете меня?
– Не совсем.
– Почему?
– Вы говорите такие вещи…
– Я сказал, что вы красивы, и повторю это и сейчас, потому что… ну, боже ты мой, ведь это же правда. Провалиться мне на этом месте, клянусь вам чем хотите, я в жизни своей не видывал женщины красивей.
– Перестаньте, перестаньте. Я не желаю этого слушать, что это еще за клятвы! – вскричала Батшеба в полном смятении чувств.
Возмущение тем, что она слышит, боролось в ней с неудержимым желанием слушать еще и еще.
– А я опять повторяю, что вы самая обворожительная женщина. И что удивительного в том, что я так говорю? Ведь это же само собой очевидная истина. Вам просто не нравится, что я так бурно выразил свое мнение, мисс Эвердин, и, конечно, оно малоубедительно для вас, потому что ничего не значит в ваших глазах, но оно совершенно искренне, почему же вы не можете меня простить?
– Потому что… это… это неверно, – как-то очень по-женски прошептала она.
– Ну-ну, не знаю уж, что хуже – грешить против третьей заповеди или против страшной девятой, как это делаете вы?
– Но мне кажется, это не совсем правильно, не такая уж я обворожительная, – уклончиво ответила она.
– Это вам кажется. Ну так позвольте мне, со всем уважением к вам, мисс Эвердин, сказать вам, что виной этому ваша излишняя скромность. Да не может быть, чтобы вам все этого не говорили, потому что все же это видят, другим-то вы можете поверить?
– Они так не говорят.
– Не могут не говорить.
– Во всяком случае, не говорят мне в лицо, как вы, – продолжала она, постепенно втягиваясь в разговор, который она сначала твердо намеревалась пресечь.
– Но вы знаете, что они так думают?
– Нет, то есть я слыхала, конечно, от Лидди, что обо мне говорят, но… – Она запнулась.
Сдалась… Вот что означал, в сущности, несмотря на всю его осторожность, этот наивный ответ, сдалась, сама того не подозревая, признала себя побежденной. И ничто не могло выразить это более красноречиво, чем ее беспомощная, неоконченная фраза. Легкомысленный сержант усмехнулся про себя, и, должно быть, дьявол тоже усмехнулся, высунувшись из преисподней, ибо в эту минуту решилась чья-то судьба. По лицу, по тону Батшебы можно было безошибочно сказать, что росток, который должен взломать фундамент, уже пустил корни в трещине: остальное было делом времени и естественного хода вещей.
– Вот когда правда вышла наружу! – воскликнул сержант. – Ну как может быть, чтобы молодая леди, которой все кругом восхищаются, так-таки ничего об этом не знала? Ах, мисс Эвердин, уж вы простите мою откровенность, но ведь вы, в сущности, несчастье рода человеческого!
– Как, почему? – спросила она, широко раскрывая глаза.
– Да вот так выходит. Знаете, есть такая старая народная поговорка, не бог весть какая мудрая, но для грубого солдата годится: «Коль петли не миновать – правду нечего скрывать»; вот я вам сейчас правду и выложу, не заботясь о том, понравится она вам или нет, и не надеясь получить ваше прощение. И вы сами поймете, мисс Эвердин, каким образом ваша красота может наделать больше бед на земле, чем принести добра. – Сержант задумчиво уставился вдаль глубокомысленно-критическим взором. – Ну вот, скажем, какой-нибудь мужчина влюбляется в обыкновенную женщину, женится на ней; он доволен, ведет полезную жизнь. А вот такую женщину, как вы, жаждут заполучить сотни мужчин, глаза ваши будут пленять все новых и новых, и сколько несчастных будет терзаться неутоленной любовью, – ведь вы можете выйти замуж только за одного. Ну, скажем, человек двадцать из этого множества будут пытаться заглушить вином горечь отвергнутой любви, другие двадцать будут влачить жизнь без всяких целей, не делая попыток добиться чего-либо, потому что, кроме привязанности к вам, у них нет ничего, никаких иных стремлений; и еще двадцать, и среди них, пожалуй, и моя уязвимая персона, вечно будут ходить за вами следом, вечно стараться быть там, где можно хотя бы поглядеть на вас, и ради этого совершать любые безумства. Мужчины ведь такие неисправимые глупцы! Ну а остальные, скажем, будут пытаться преодолеть свою страсть, кто с большим, кто с меньшим успехом. Но все это будут пришибленные люди. И не только эти девяносто девять мужчин, но и девяносто девять женщин, на которых они, может быть, женятся, тоже будут несчастны с ними. Вот вам моя притча. И вот почему я говорю, что такая очаровательная женщина, как вы, мисс Эвердин, вряд ли создана на благо рода человеческого.
Лицо красивого сержанта в то время, как он говорил, было сурово и непреклонно; он был похож на Джона Нокса, поучающего свою веселую молодую королеву. Видя, что она не отвечает, он спросил:
– Вы по-французски читаете?
– Нет. Я только начала заниматься, дошла до глаголов, и папа умер, – простодушно ответила Батшеба.
– А я почитываю, когда предоставляется возможность, что в последнее время бывает не так-то часто (у меня мать была парижанка). Так вот, есть у французов такая пословица: «Qui aime bien, châtie bien». Кто крепко любит, тот строго карает. Вы понимаете меня?
– Ах! – вырвалось у нее, и ее обычно спокойный голос чуть-чуть дрогнул. – Если вы умеете сражаться хотя бы наполовину так же увлекательно, как говорите, то вы способны доставить удовольствие штыковой раной. – И, тут же заметив, какую ошибку она допустила, сделав такое признание, бедняжка Батшеба поспешила исправить ее и только еще больше запуталась. – Не думайте, впрочем, что мне доставляет удовольствие то, что вы говорите.