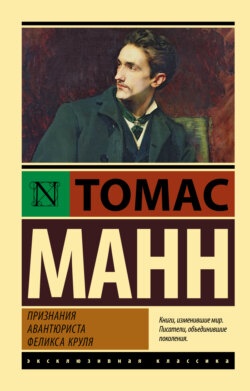Читать книгу Признания авантюриста Феликса Круля - Томас Манн, Thomas Mann - Страница 7
Книга первая
Глава шестая
ОглавлениеНа последнем листке в общих чертах воспроизведен ход мыслей, проносившихся в моем разгоряченном пытливом мозгу, когда я стоял в уборной Мюллера-Розе. В последующие дни, даже недели, я много-много раз, волнуясь и любопытствуя, возвращался к ним. Эти внутренние поиски всякий раз исполняли меня тревогой, нетерпеливым желанием и надеждой, пьянили и радовали так, что даже теперь, несмотря на всю мою огромную усталость, одно воспоминание о них заставляет быстрее биться мое сердце. Но в то время эти чувства были так сильны, что, казалось, грудь у меня разорвется под их напором. Бывали дни, когда я просто ощущал себя больным и пользовался этим своим состоянием как предлогом не идти в школу.
Распространяться о моем все возраставшем отвращении к этой враждебной институции я считаю излишним. Для меня необходимейшее условие жизни – свобода мысли и воображения. Потому-то я и вспоминаю о своем долголетнем тюремном заключении с меньшей неприязнью, чем об оковах раболепства и страха, которые накладывала на чувствительную душу мальчика, казалось бы, столь почтенная дисциплина, царившая в белом, похожем на коробку доме, что стоял в нижней части нашего городка. А если принять во внимание еще и мое внутреннее одиночество – о причинах его я говорил выше, – то, конечно, нет ничего удивительного, что я и в будние дни стремился уклониться от несения школьной службы.
Тут мне оказало бесценную услугу умение подражать почерку отца, которое я в себе выработал во время своих одиноких игр. Отец, естественно, является образцом для подрастающего мальчика, жаждущего приобщиться к миру взрослых. Бессознательно основываясь на таинственном сродстве и сходстве телосложения, подросток-сын старается перенять повадки родителя, которые рядом с собственной неловкостью представляются ему достойными восхищения; восхищаясь ими, он развивает наследственно заложенные в нем свойства. Водить пером легко и деловито, как отец, было моей мечтой, когда я еще едва-едва выписывал каракули на разлинованной грифельной доске, а сколько бумаги я извел позднее, стараясь держать ручку с такой же грацией, как отец, и по памяти воспроизводя его почерк. Собственно говоря, это было нетрудно, ибо почерк у отца был почти что детский, каллиграфически безупречный и невыписанный; правда, буквы у него получались крохотные, но из-за невиданно длинных соединительных штрихов письмо казалось размашистым – манера, которой я быстро и превосходно научился подражать. Что касается подписи «Э. Круль», в противоположность готически заостренным буквам текста носившей скорее латинский характер, то ее окружала целая туча росчерков, на первый взгляд словно бы неподражаемых, но, в сущности, до того простых, что именно подпись удавалась мне почти безупречно. Нижняя половина первой буквы имени красиво летящей линией сбегала вниз, а в открытое ее лоно был аккуратно вписан первый слог фамилии. Эта линия дважды пересекалась другой, берущей свое начало от хвостика «у», обнимающей всю подпись в целом и протяженным завитком спускающейся вниз. Все же вместе устремлялось скорее в вышину, чем в ширину, и при всей своей причудливости было придумано по-ребячески наивно, отчего я и воспроизводил эту подпись так, что сам отец не сумел бы отличить ее от собственноручной. А потому разве не сама собой напрашивалась мысль использовать сноровку, приобретенную так, скуки ради, для своего духовного раскрепощения?
«Сын мой, Феликс, – писал я, – 7-го с. м. из-за мучительных желудочных колик пропустил занятия, что я и вынужден с сожалением подтвердить. Э. Круль». Или же: «Гнойное воспаление надкостницы, а также вывих правого плеча заставили Феликса с 10-го по 14-е с. м. пролежать в постели и, к большому нашему сожалению, воздержаться от посещения школы. С совершенным уважением Э. Круль». Поскольку этот трюк удавался, ничто уже не мешало мне несколько дней подряд бродить в окрестностях городка, или, лежа на зеленой лужайке, в тени шепчущей листвы, предаваться юным мечтам, или целыми часами дремать среди живописных развалин блаженной памяти епископского замка над Рейном, или, наконец, в суровую зимнюю пору находить приют в мастерской крестного Шиммельпристера; он хоть и ругал меня на все лады за такие штуки, но в тоне его чувствовалось, что причины, меня к сему побудившие, и ему кажутся уважительными.
Нередко случалось и так, что я, сказавшись больным, оставался дома и не вставал с постели, считая, как я уже говорил, что у меня есть на это известное внутреннее право. Согласно моей теории любой обман, в основе которого не заложена хоть крупица высшей правды, иными словами, ложь неприкрытая, несовершенная и неуклюжая может быть разоблачена первым встречным. Действительным и успешным будет лишь обман, не безусловно заслуживающий названия такового, обман, который сводится к тому, чтобы наделить живую, но не окончательно утвердившуюся в реальном мире правду теми материальными признаками, без которых человечество не соглашается считать ее правдой. Здоровый мальчик, за исключением легко протекавших детских болезней не знавший серьезных недомоганий, я отнюдь не затевал грубого притворства, когда однажды утром решил сказаться больным и тем самым избегнуть страха и неприятностей, ожидавших меня в школе. Да и зачем бы я стал затрачивать столько ненужных усилий, если в моем распоряжении всегда имелись средства утихомирить моих духовных поработителей? Нет, напряжение всех внутренних сил как следствие размышлений, о которых я говорил выше, в то время очень меня изнурявших, вкупе с отвращением к школьному ярму сообщило бесспорную правдивость моему притворству и вооружило меня всеми средствами, нужными для того, чтобы вызвать тревожную озабоченность врача и домочадцев.
Разыгрывать больного я начинал без всяких зрителей, как бы для себя самого, лишь только мое решение насладиться в этот день свободой вместе с неумолимым ходом часовых стрелок вырастало в насущную необходимость. Я уже прозевал последнюю минуту, в которую можно было встать, не боясь опоздания, в столовой остывал приготовленный мне завтрак, тупоголовые юнцы уже шагали в школу, будний день начался, и мне предстояло собственными силами, на свой страх и риск вырваться из деспотического его распорядка. От смелости такого предприятия у меня захолонуло сердце и засосало под ложечкой. Тут я обнаружил, что мои ногти приобрели синеватый оттенок. Утро, как видно, выдалось холодное, и было достаточно пролежать несколько минут без одеяла или, еще того лучше, пройтись по комнате и слегка утомить себя, чтобы вызвать внушительный приступ озноба. То, что я сейчас говорю, весьма для меня характерно; мой организм всегда был легко уязвим и требовал бережного ухода, так что всю мою последующую бурную деятельность я рассматривал как мужественное самопреодоление, более того – как немалый нравственный подвиг. Будь это не так, мне бы не удалось ни тогда, ни впредь при помощи нарочитого легкого утомления тела и мозга придавать себе вид серьезно больного и по мере надобности настраивать окружающих на мягкий, жалостливый лад. Дюжий малый запросто из себя больного не разыграет. Только человек (да будет мне позволено вновь прибегнуть к этому обороту), только человек, созданный из благородного материала, может, не будучи больным в обыденном смысле слова, так сродниться со страданием, чтобы, внутренним взором подметив его симптомы, произвольно воссоздавать их. Я закрыл глаза и тотчас же снова широко открыл, сообщив им вопрошающее, жалобное выражение. Я и без зеркала знал, что мои волосы, спутавшиеся от сна, длинными прядями падают на лоб и что мое лицо бледно от волнения и страха. Для того чтобы оно выглядело еще и осунувшимся, я прибег к способу собственного изобретения: чуть-чуть закусил зубами внутреннюю сторону щек, отчего подбородок вытянулся, а щеки сделались впалыми, что явно свидетельствовало о мучительно проведенной ночи. Вибрирующие ноздри и как бы болезненное подергивание мускулов во внешних уголках глаз дополняли картину. Руки с посиневшими ногтями я сложил на груди, на стул около кровати водрузил снятый с умывальника таз и, время от времени стуча зубами, стал ждать, пока меня хватятся.
Случилось это не скоро, так как мои родители любили поздно спать, и пока обнаружилось, что я утром не ушел из дому, в школе прошло уже два или три урока. Но вот моя мать поднялась наверх и вошла ко мне в комнату, еще с порога спрашивая, уж не захворал ли я. Я посмотрел на нее широко открытыми, остановившимися глазами, словно с трудом приходя в себя и еще не понимая, где я и что со мной, и отвечал, что, видимо, и вправду болен.
– Что ж ты чувствуешь? – осведомилась она.
– … Голова… все тело ломит… Почему мне так холодно? – сказал я, как бы с трудом ворочая языком, и заметался на постели.
Мать прониклась ко мне состраданием. Не думаю, чтобы она приняла мою болезнь всерьез, но так как чувствительность в ней всегда одерживала верх над разумом, то у нее недостало духу выйти из игры, напротив, она, как в театре, начала мне «подыгрывать».
– Бедное дитя, – воскликнула она, подпирая щеку указательным пальцем и горестно покачивая головой. – И кушать ты ничего не хочешь?
Я вздрогнул, судорожно прижал подбородок к груди и сделал отрицательный жест. Железная последовательность моего поведения отрезвила мать, поколебала ее уверенность, лишила удовольствия, которое она заодно со мной получала от этой иллюзии, ибо то, что человек может зайти в своей игре так далеко, чтобы отказаться от еды и питья, в ее голове не укладывалось. Она посмотрела на меня недоверчивым, испытующим взглядом. Но я, заметив это и желая подтолкнуть ее на нужное мне решение, немедленно разыграл самую трудную и эффектную из всех заготовленных мною сцен. А именно: подскочил на кровати, дрожащими, неверными руками пододвинул к себе таз и буквально распростерся над ним, несмотря на страшные судороги и корчи, сводившие мое тело, – надо было иметь каменное сердце, чтобы не тронуться видом таких страданий.
– Ничего больше нет, – давясь и задыхаясь, проговорил я, поднимая от таза измученное лицо. – Ночью я все, все отдал…
Тут я счел за благо изобразить приступ удушья, почти уже жизнеопасный. Мать держала мою голову и испуганным голосом настойчиво повторяла мое имя, надеясь привести меня в чувство.
– Я сейчас пошлю за Дюзингом, – крикнула она, когда судороги слегка отпустили меня, окончательно убежденная в моей болезни, и выбежала из комнаты.
Совершенно измученный, но неописуемо довольный и удовлетворенный, я откинулся на подушки.
Как часто я мысленно рисовал себе эту сцену, как часто про себя ее репетировал, прежде чем набраться храбрости разыграть ее «на публике»! Не знаю, поймут ли меня, но когда я впервые практически воспроизвел ее и добился всего, чего хотел, я был сам не свой от счастья. Не всякий способен такое сотворить! Многие об этом мечтают, но не могут осуществить свои мечты. А ведь когда ты падаешь без сознания, когда струйка крови течет у тебя изо рта и судороги сводят твое тело, – как быстро тогда жестокость и равнодушие мира оборачиваются вниманием, испугом, запоздалым раскаянием. Но тело своенравно и тупо-выносливо. Когда душа давно уже жаждет сострадания и ласковой заботы, оно все еще не подает тревожных сигналов, которые каждому говорят, что и с тобой может стрястись беда, и громким голосом взывают к совести человечества. И вот я не только сумел воспроизвести эти симптомы, но и добился результатов не меньших, чем если бы они проявились без сознательного моего участия. Я исправил природу, осуществил мечту. И только тот, кому удавалось из ничего, на основе одного лишь внутреннего знания и наблюдения над вещами, иными словами – на основе фантазии и, конечно, при наличии большой смелости, создать насильственную и жизнеспособную действительность, только тот поймет, в какой счастливой истоме пребывал я, успешно закончив спектакль.
Через час явился санитарный советник Дюзинг. Он стал нашим домашним врачом после смерти старого доктора Мекума, содействовавшего моему рождению. Дюзинг был долговязый, вечно сутулившийся мужчина со стоящими дыбом волосами, который то и дело защемлял свой нос между большим и указательным пальцами и потирал одна о другую широкие костлявые руки. Этот человек был мне опасен: не своим врачебным талантом – на этот счет дело у него обстояло неважно (впрочем, легче всего обмануть как раз хорошего врача, самоотверженно служащего науке ради нее самой), – но из-за грубой житейской смекалки, так часто свойственной заурядным натурам и составлявшей основу его карьеры. Ограниченный и честолюбивый, этот ученик Эскулапа раздобыл себе звание санитарного советника благодаря личным связям, знакомству с крупными виноторговцами – словом, по протекции – и часто ездил в Висбаден, где продолжал энергично продвигаться по служебной линии. Характерно для него было, что дома он принимал пациентов – я в этом убедился собственными глазами – не по порядку и очереди, а, ни капельки не стесняясь, пропускал вперед людей богатых и с положением в обществе, оставляя сидеть пришедших много раньше пациентов «из простых». Высокопоставленных больных он окружал чрезмерной заботой и попечением, с бедняками же обращался грубо, недоверчиво и в большинстве случаев старался объявить их жалобы необоснованными. По моему убеждению, он был способен на любую пакость, плутню, лжесвидетельство, если мог этим угодить «верхам», или зарекомендовать себя преданным слугой власть имущих. Низкопробный здравый смысл подсказывал ему, что именно так должен действовать человек бездарный, но желающий преуспеть в жизни. Дело в том, что мой бедный отец, несмотря на свое сомнительное положение, как фабрикант и налогоплательщик, принадлежал к видным горожанам, санитарный же советник в качестве домашнего врача от него зависел, а может быть, просто с жадностью хватался за любую возможность неблаговидного поступка. Так или иначе, но этот тип решил, что должен действовать со мною заодно.
Всякий раз, когда он обращался ко мне с наигранным докторским добродушием: «Ай-ай-ай, что же это с нами такое приключилось?» или: «Это что еще за фокусы, молодой человек?» – и садился возле моей кровати, чтобы выслушать и порасспросить меня, – повторяю, всякий раз неожиданное молчание, улыбка или даже подмигивание с его стороны должны были побудить меня ответить ему тем же и, значит, признать, что я просто праздную «святого лентяя», как он, надо думать, называл это про себя. Но я никогда, никогда не перебросил ему мостика. И удерживала меня от этого не осторожность (по всей вероятности, ему можно было довериться), а скорее гордость и презрение. Все его старанья вовлечь меня в заговор ни к чему не приводили, только глаза у меня делались все печальнее и растеряннее, щеки вваливались еще больше, губы бессильно опускались, дыхание становилось отрывистее; я всегда был готов, если это окажется нужным, и перед ним разыграть приступ неукротимой рвоты и с такой невозмутимой последовательностью продолжал свое притворство, что ему в конце концов пришлось признать себя побежденным, позабыть о своем здравомыслии и прибегнуть к помощи науки.
Это давалось ему нелегко, во‐первых, потому что он был глуп, а во‐вторых, потому что картина болезни, воссоздаваемая мною, грешила очень уж большой неопределенностью. Он выслушивал и выстукивал меня со всех сторон, засовывая мне в горло ручку чайной ложечки, докучал частым измерением температуры и затем изрекал:
– Мигрень. Никаких оснований для беспокойства нет. Склонность этого молодого человека к головным болям нам давно известна. К сожалению, на сей раз затронут и кишечник. Я рекомендую покой, никаких посетителей, поменьше разговаривать и побольше лежать в затемненной комнате. Очень хорошо в таких случаях попринимать кофеин с лимонной кислотой. Сейчас я выпишу рецепт.
Если же в нашем городке отмечалось два-три случая гриппа, то он говорил:
– Грипп, уважаемая госпожа Круль, грипп, осложнившийся гастритом. Кроме того, воспаление дыхательных путей, хотя и очень незначительное. У вас появился кашель, мой друг, не так ли? Температура немного поднялась, а в течение дня, несомненно, подымется еще на несколько десятых. Пульс учащенный и неровный.
Со свойственным ему отсутствием фантазии он прописывал кисло-сладкое укрепляющее вино; я его пил с удовольствием, и после выдержанной баталии оно приводило меня в умиротворенное, довольное настроение.
Конечно, профессия врача не составляет исключения в ряду других профессий, и многие ее представители – обыкновеннейшие дураки, готовые видеть то, чего нет, и отрицать то, что совершенно очевидно. Любой неученый знаток человеческого организма превосходит их в знании тончайших секретов такового, и ему ничего не стоит обвести вокруг пальца ученого медика. Катар дыхательных путей, который он у меня обнаружил, не был мною предусмотрен; я не сделал ни малейшего намека на него в придуманной мною клинической картине. Но так как мне все-таки удалось заставить санитарного советника отказаться от его пошлого диагноза: «празднует святого лентяя» – то ничего более остроумного, чем грипп, он придумать не сумел, и вот, боясь осрамиться, требовал, чтобы я страдал от приступов кашля, и утверждал, что у меня распухли миндалины, чего тоже не было. Что же касается повышения температуры, то здесь он не ошибался, хотя это и не служило к чести его школьной премудрости. Врачебная наука почему-то хочет, чтобы жар всегда был только следствием отравления крови возбудителями болезни, и утверждает, что повышение температуры связано лишь с физическими явлениями. Но это смешно! Читатель давно уже понял, в чем я его к тому же заверяю честным словом, что физически я не был болен, когда санитарный советник Дюзинг меня выслушивал; но возбуждение минуты, отважное предприятие, мной задуманное, своего рода опьянение, которое я испытывал, выгравшись в роль больного, роль, требовавшую участия всего моего организма и предельного совершенства исполнения, чтобы не стать комической, более того, известное вдохновение, которое требовало одновременно и напряжения и ослабления всех сил, для того чтобы нечто мнимое стало действительным для меня и других, – все это, вместе взятое, привело в состояние такого подъема деятельность моего организма, что санитарный советник черным по белому прочитал это на термометре. Учащение пульса, конечно, объяснялось теми же причинами; когда же голова советника легла ко мне на грудь и я почуял животный запах его сухих бурых волос, то под этим живым впечатлением мне удалось даже придать своему сердцу неровный – то замирающий, то убыстренный – ритм. Наконец, если доктор Дюзинг независимо от диагноза всякий раз объявлял затронутым желудок, то должен заметить, что этот орган всегда у меня отличался столь болезненной чувствительностью, что при любом душевном потрясении начинал биться и пульсировать, так что в иных жизненных случаях я, можно сказать, страдал не сердцебиением, как другие люди, а биением желудка. Санитарный советник только диву давался, наблюдая этот феномен.
Итак, прописав мне горькие пилюли или кисло-сладкое укрепляющее вино, он еще некоторое время сидел у постели больного, оживленно болтая с моей матерью, я же, прерывисто дыша полуоткрытым ртом, вперял в потолок усталый, потухший взор. Иногда к ним присоединялся и отец. Вид у него бывал смущенный, он старался не встречаться со мной глазами и пользовался случаем поговорить с санитарным советником о своей подагре. Оставшись наконец один, я проводил день, а иногда и два-три дня в мирном отдохновении и в сладких мечтах о жизни, о будущем, правда, получая лишь скудную диетическую пищу, но тем вкуснее она мне казалась. Если же протертый суп и сухарики не удовлетворяли моего юношеского аппетита, я осторожно вылезал из кровати, тихонько поднимал крышку своего маленького бюро и принимался поглощать шоколад, запасы которого у меня почти никогда не переводились.