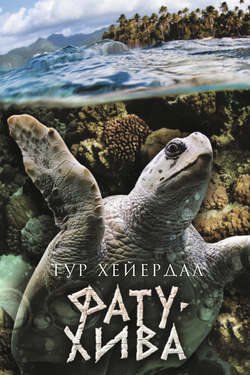Читать книгу Фату-Хива: Возврат к природе - Тур Хейердал - Страница 2
Прощай, цивилизация
ОглавлениеВозврат к природе? Прощай, цивилизация? Одно дело – мечтать об этом, совсем другое – осуществить мечту. Я сделал попытку вернуться к природе. Разбил часы о камень, перестал стричься и бриться. Лазил за пищей на пальмы. Оборвал все нити, которые связывали меня с современным миром. Решил босиком и с пустыми руками обосноваться в дебрях, слиться воедино с природой.
Сегодня меня прозвали бы «хиппи» – волосы ниже плеч, усы видно со спины. Я бежал от бюрократии, техники, от железной хватки двадцатого столетия. Единственная одежда, когда я вообще был одет, – цветастая набедренная повязка; жилище – сплетенная из золотистого бамбука хижина. Деньги не нужны, ведь у меня не было расходов: я возвратился в мир, где звери и босоногие люди могли сами добывать себе все необходимое, не задумываясь о завтрашнем дне.
Чем не мечта хиппи? Путешествие в другой, совсем другой мир… Но путешествие без наркотиков. Реальное, настоящее, тщательно продуманное и подготовленное.
И начал я готовиться к этому отчаянному предприятию еще в школе. Тогда я жил в увитом плющом беленьком доме, в маленьком городке у выхода из Ослофьорда. Ни тебе смога, ни загрязнения. Никакого стресса – ничего такого, что побуждало бы человека к бегству. Никаких хиппи. Самые большие здания в городе – деревянная церковь да принадлежащая отцу кирпичная пивоварня. Воздух чистый, речка прозрачная. В лесу спокойно можно пить из любого ручья.
В гавани тоже вода как стеклышко. Мальчишки любили посидеть с удочками на пристани, глядя на стайки рыбешек, которые подходили понюхать насадку. Видны камни и водоросли на дне. А поодаль стояли суда китобойной флотилии. Они привозили домой тысячи тонн жира, добытого далеко на юге, где в морях еще ходило несметное множество китов-великанов. Китобойный промысел, вывоз леса – маленький Ларвик процветал.
Между тем назревали перемены. Современная техника настолько облегчила бой китов, что промысловики загребали большие деньги. Пришло время подумать об осторожности. Океан казался безбрежным, ни начала у него, ни конца, оба полюса окружил… Но ведь и люди всюду проникли. Не выйдет ли так, что человек с его техникой истребит всех китов? Нет, не может быть. Ведь мир кита безбрежен. Голубой океан так же бесконечен, как голубое небо, они сливаются и вместе составляют частицу безграничного мироздания.
Взрослые как раз начали всерьез осваивать необозримый воздушный океан. На глазах мальчишек сказка становилась былью. Люди взмывали в небо с земли, будто ведьма на помеле или волшебник на ковре-самолете. Вместе с другими ребятишками я карабкался по черепице на самый конец крыши, чтобы покричать и помахать руками, когда ветер доносил рокот самолета, крохотной точкой парившего на краю неба. И мы дружно бросались к забору, чтобы посмотреть на первого шофера, который отважился подняться на своей машине по крутой улочке до самого нашего дома. Вот здорово! Только запах противный, совсем не такой, как от лошади.
На мощеных улицах Ларвика по-прежнему мерно цокали копыта, гремели железные ободья. А зимой и вовсе кругом бело и тихо; правда, к перезвону бубенцов иногда примешивались автомобильные гудки. Утром отец с удовольствием шел пешком в контору, после работы с наслаждением шагал домой, где его ждал мирный обед в кругу семьи и долгий послеобеденный сон. Никакой гонки, люди носили большие карманные часы, на них цифру от цифры отделяли широкие просветы.
Вечерами мы с отцом часто ходили на пристань посмотреть, какой улов взяли рыбаки. Полные ящики омаров, крабов, креветок, всевозможной рыбы живность ползала, корчилась, билась, распространяя запах водорослей и соленого моря. Доставят тебе на дом свежий улов – язык проглотишь. Замороженную рыбу гурманы не признавали.
Из двух высоких окон моей спальни на втором этаже открывался великолепный вид на фьорд и спускающийся уступами город. Между деревьев просвечивали белые стены и красные крыши, на задних дворах горланили петухи. В противоположной стороне – невысокие лесистые пригорки, зеленые дали, ель и сосна, дуб и береза и даже единственная в стране большая буковая роща. Соскочил с кровати – и к окну. Зимой одно окно на ночь оставалось приоткрытым, и я спешил юркнуть под теплую перину, ограничившись одним взглядом на мерцающие фонари и летучие снежинки. Летом оба окна были распахнуты, и, когда взрослые думали, что я давно сплю, на самом деле я сидел и грезил на подоконнике. Услышу далекий звук рынды на отчаливающем судне – и стремглав к окну! Мысли уносили меня вслед за пароходом к выходу из фьорда, дальше, дальше, в сказочные тропические края где-то там за скалами, которые были словно ворота в открытое море. За этими воротами простирался огромный, необозримый мир, еще не до конца изведанный людьми.
Да, многое еще оставалось неизвестным. Амундсен дошел до Южного полюса незадолго до моего рождения; теперь он участвовал в соревновании – кто первым достигнет Северного полюса на самолете: ведь плавание Нансена на «Фраме» через Северный Ледовитый океан показало, что макушка нашей планеты покрыта дрейфующими льдами. Другие экспедиции, в более теплых широтах, передвигались пешком, как во времена Кортеса и Писарро, стирая белые пятна с карты мира.
Спасательные отряды пробивались в таинственные области Бразилии, где исчез полковник Фосетт, где бродили племена охотников за черепами. Африка и Азия были для меня не просто другими континентами, а чужими мирами, там жили странные люди, они вели себя иначе и думали не так, как мы…
Какой огромный мир окружал тогда человека! Ребятишки из соседнего дома вместе с родителями уехали в США. Америка – не одна неделя пути за далекий горизонт. Их провожали так, как теперь провожают астронавтов. Мы были уверены, что никогда больше о них не услышим.
Путешественником, исследователем – вот кем я буду! Проникну в неизведанные области нашего неохватного мира пешком, на коне, на верблюде.
Планета Земля еще не успела заметно убавиться в объеме. Правда, Америка стала в четыре раза ближе, чем была во времена Колумба, но и то путь немалый. Три дня уходило у нас с родителями на то, чтобы из Ларвика по узкоколейке и на подводе добраться до нашей горной хижины за Лиллехаммером. И я был потрясен, когда друзья показали мне какую-то штуку под названием «радио» – квадратный ящик с дырочками; в эти дырочки мы втыкали провод от наушников и долго спорили, кто из нас на самом деле слышал что-то вроде далекой музыки.
Мир вступал в новую эпоху. Мои родители приветствовали ее с гордостью и радостным предвкушением. Отец уповал на разум, дарованный нам Всевышним. Мать верила Дарвину и не сомневалась, что человек все время совершенствуется и сумеет сделать свою планету еще лучше. Мировая война – она разразилась в тот год, когда я родился, – больше никогда не повторится. Наука и техника помогут людям добиться прочного мира, и жизнь станет идеальной.
Я разделял пламенную любовь отца к природе и страстное увлечение матери зоологией и «примитивными» племенами, однако не понимал, почему родители так восхищаются стремлением современного человека порвать все узы, связывающие его с природой. От чего бежать? Или люди испугались обезьяньего предка, которого нарисовал им Дарвин? Всякое изменение мира вчерашнего, в чем бы оно ни заключалось, взрослые приветствовали и называли «прогрессом». Но «прогресс» означал отрыв от природы. Взрослые настолько увлеклись изобретениями и преобразованиями, что жали на всю катушку, не задумываясь, к чему это может привести. Видимая цель – мир, преобразованный человеком. Но кто главный архитектор? В моей стране я его не видел. Король английский и президент американский тоже не подходили для этой роли. Каждый изобретатель, каждый промышленник, кому только хотелось участвовать в строительстве будущего мира, совал кирпич или шестеренку куда и как попало, предоставляя следующему поколению судить о результатах.
В школе нам рассказывали про человеческий мозг. Дескать, к двенадцати годам заканчивается его формирование. А с нами и в шестнадцать лет обращались так, словно у нас только половина мозга. Как будто рассчитывали, что шестнадцатилетние станут лучше думать после того, как их свежие мозговые извилины пропустят через образовательную машину и напичкают до краев старыми догмами. Но ведь мы должны думать теперь. Должны уже теперь составить себе представление о том, что происходит на свете, не то придется нам слепо подчиняться и занимать отведенные нам места в поезде взрослых, поезде без машиниста.
Школа заведомо мошенничала, толкуя о развитии и прогрессе. Нам внушали, что после Эдема шел сплошной, непрерывный прогресс. В моем представлении учителя балансировали на канате, держа в одной руке Библию, в другой Науку. И ухитрялись уйти так далеко, что не видно, – и не поймешь, добрались они до конца каната или нет. Нам говорили, что Бог сотворил человека. Дескать, Дарвин уточнил, как это происходило. Сперва были созданы обезьяны. Еще нам говорили, что Бог сотворил мир со всеми живущими в нем тварями за шесть дней. Дарвин считал, что на это ушло гораздо больше времени, но разве не сказано в Библии, что для Бога один день равен тысяче лет и тысяча лет что один день. И ведь Эйнштейн установил, что время – вещь относительная. Так что тут у взрослых не было расхождения. К тому же естествоиспытатели соглашались с тем, что более двух тысяч лет назад писал автор Первой книги Моисея: жизнь зародилась не на суше, а в море. Лишь после того, как в соленом океане развелись полчища рыб и гигантских зверей, после того, как воздух наполнился летающими тварями, на суше закопошились всякие ползучие и иные животные. Современные исследователи подтверждали вывод неизвестных древних мудрецов о такой именно последовательности, подтверждали и то, что человек последним явился в мир, где уже были сотворены все растения и животные. Конструкция действовала полным ходом еще до того, как человек получил готовенькие легкие, сердце, органы чувств и мозг и начал размножаться.
В сложной структуре Эдема все было совершенно. В этом наука и Библия тоже сходились. Бог был вполне доволен своим творением. Настолько доволен, что перестал творить и предался отдыху на седьмой день, между тем как люди бродили нагишом в райском саду. Нагишом, но всем обеспеченные, подобно всяким растениям и тварям.
Библия говорила, что Бог был милостив и не хотел, чтобы сотворенный им род человеческий голодал. Наука утверждала, что человек не выделился бы из животного царства, если бы природа не благоволила ему, не наделила его щедро всем необходимым.
Но на этом единогласие взрослых кончалось. Дальше учителя как бы пропадали вдали. Дальше начинался конфликт. Конфликт между Творцом и творением, между правой и левой рукой балансирующих на канате преподавателей. Бог-то был доволен своим произведением, а вот человек – нет. Бог не сомневался, что даровал человеку совершенную среду, земной рай. Человек не соглашался с этим. Бог предался отдыху – человек принялся за работу. Человек стремился к прогрессу. Эдем его не устраивал.
Люди тоже трудились шесть дней, а на седьмой отдыхали, чтобы угодить Богу. Правда, они спорили между собой, какой день отводить отдыху: воскресенье, субботу или пятницу. Но и христиане, и иудеи, и мусульмане на восьмой день снова принимались за дело, усердно продолжали совершенствовать мир. Так шло сотни, тысячи лет. Пока Бог отдыхал, люди изобрели тачку и автомобиль. До динамита Бог тоже сам не додумался. Уразумел ли Творец, глядя на нас, что не так уж он и всесилен? Не раздражало ли его, что все сотворенное им мы переделываем на свой лад? Верующие взрослые явно считали, что Бог возложил на нас ответственность за судьбы планеты, с тем чтобы мы строили и рушили, торжествовали и ошибались, радовались и страдали, всецело руководствуясь дарованным нам разумом и совестью. Если верно сказано, что Творец вознаградит нас или покарает в последующей жизни, смотря по нашему поведению, значит, мы и впрямь не застрахованы от ошибок. Но вот что меня озадачивало: взрослые твердят, что Бог создал природу, а сами ведут себя так, словно им грозит ад, если они не обрубят все узы, связывающие человека с природой. И даже безбожники, заявляющие, что человек создан самой природой, вели себя так, будто видели в природе кровного врага людей.
К шестнадцати годам мной овладело смятение. Вера во взрослых начала колебаться. Выходит, они вовсе не умнее нас, детей… Цепляются за окостеневшие идеи и ни в чем не согласны друг с другом. Волокут нас за собой неведомо куда, без ясной цели, лишь бы уйти подальше от природы. Давно ли бушевала ужасающая война? А они уже изобретают новое оружие, страшнее прежнего. Политика, мораль, философия, религия – кругом разногласия. Разве можно спокойно следовать по дорогам жизни за такими проводниками? Не лучше ли поискать более надежную тропу? Я чувствовал себя, будто узник в тюремном вагоне – узник, который исподволь готовится соскочить с поезда, идущего по неверному пути.
…Начинались тридцатые годы. В то время не было никаких хиппи. Ни один уважающий себя подросток не вздумал бы бунтовать против родителей, против школы. И каждый парень считал предельным унижением для себя в чем-то походить на девочку. Мой интерес к естествознанию непрерывно рос. Мне открывалась не только красота, но и замечательная мудрость в конструкции мира, унаследованного человеком. При каждой возможности я отправлялся в поход – в лес, в горы, вдоль фьорда. Стремление цивилизации оторвать человека от его исконной среды озадачивало меня. Нет, взрослые определенно затеяли что-то безумное…
Захотелось поделиться со сверстниками своими растущими подозрениями. Однажды, после урока физкультуры, задумавшись в раздевалке над этими вопросами, я брякнул своему товарищу, который натягивал рубашку:
– Эти машины… Не по душе они мне!
– В самом деле? – ухмыльнулся он, просунув голову в воротник.
В его голосе звучала такая издевка, что я был готов провалиться сквозь землю. Мои слова только смешили других… И я решил: больше об этом никому.
Однако нашелся в классе парнишка, с которым явно можно было поделиться своими сокровенными мыслями. Рослый, плечистый, такой же любитель бродить по лесу, как и я. И спорт не был для него всем на свете, он много читал, писал стихи, любил погрезить, пофилософствовать. Звали его Арнольд. Мало-помалу я открыл ему свои замыслы. Он слушал с великим вниманием. Я говорил, что задумал порвать с этой средой. Порвать начисто. Хочу вернуться к природе. Поселюсь где-нибудь в тропиках, где можно питаться тем, что растет на деревьях. Не желаю, став взрослым, жить в Европе, где за каждым углом нас подстерегает катастрофа. Вавилонская башня двадцатого века либо рухнет, либо родит новую ужасную мировую войну. Лучше убраться отсюда подальше.
С Арнольдом можно было отвести душу.
Но как провести мечту в жизнь? Нужна тщательная подготовка. Прежде всего физическая тренировка и закалка, ведь я никак не мог назвать себя крепышом, а впереди – трудные испытания. Один из моих друзей, Эрик, отчаянный сорвиголова, после средней школы ушел в море. И за два года развил как раз такую мускулатуру, какая была мне нужна. Эрик тоже не очень-то верил в современный прогресс. Он грезил об идеальном обществе в дебрях Африки или Мату-Гросу в Бразилии. Я так далеко не замахивался. Мне бы только найти девушку, которая согласилась бы вместе со мной осуществить задуманное.
Вместе с Эриком и его друзьями я впервые занялся спортом. Мы бегали в лесу, зимой становились на лыжи. В зимние каникулы устраивали походы, какими тогда в Норвегии мало кто увлекался: запряжемся в сани с палаткой и продуктами, уйдем на лыжах в горы и неделями ночуем там, вдалеке от людей. Потом мы отказались от палаток, брали с собой только теплые спальные мешки из оленьих шкур и либо зарывались в снег, либо сооружали иглу на эскимосский лад. Иллюстрированные репортажи о наших приключениях покрывали все расходы. Когда я получил здоровенную эскимосскую собаку в подарок от Мартина Мерена, который только что пересек на лыжах неизведанный еще массив Гренландии, мы стали забираться в горы дальше прежнего. Казан – так звали пса – тащил наш провиант, и мы с Эриком строили свои иглу на вершинах и ледниках нагорий Рондане и Ютюнхеймен. Сидя на «крыше мира», мы любовались упоительными видами, когда заходило солнце или всходила луна.
Наряду с книгами по естествознанию и истории первобытных культур из обширной библиотеки моей матери такое общение с природой давало мне больше, чем школьные учебники. Отметки у меня были средние, но я от этого не страдал. Меня занимало одно: как найти общий язык с природой? Как люди и звери в прошлом ладили с породившей нас средой?
Девушки… Они меня очень интересовали, но знакомиться я стеснялся. Под давлением родителей я учился в школе танцев, но все равно воспринимал девочек как людей другого вида, не представлял себе, что с ними можно разговаривать о чем-нибудь серьезном. Тем не менее возврат к природе я представлял себе только в обществе одного из этих заманчивых созданий.
По-настоящему жил я лишь во время каникул, когда забирался куда-нибудь в дебри. Под голубым небосводом выше границы леса я чувствовал себя куда увереннее, здесь-то я и решился преступить рубеж между полами – познакомился с очаровательной загорелой обольстительницей, которая тоже любила лыжные походы. Золотоволосая деревенская девушка, дочь местного пристава. Мы целую ночь проговорили у камина в горной избушке. Она была вовсе не против того, чтобы, окончив школу, вместе со мной возвратиться к природе.
И вот окончена школа, она отправилась в столицу, чтобы учиться дальше. И тотчас пала жертвой нравов большого города: губная помада, магазины, развлечения… Сам виноват, разве можно было делать ставку на деревенскую жительницу! Надо искать среди городских, которым уже надоела цивилизация. Летним вечером на горной тропе я встретил молодую цыганистую танцовщицу из Национального театра. Общие друзья познакомили нас. Ловля форели… Танцы у костра… Как она смотрит на то, чтобы покинуть город и вместе со мной возвратиться к природе? Согласна! Бурный восторг. Я нашел спутницу! А через несколько недель она начала поторапливать меня – надо скорее покупать билеты, ей не терпится стать королевой на каком-нибудь полинезийском острове! Как по мановению волшебного жезла, она перестала существовать для меня. Нет, девушки решительно не способны меня понять.
И тут, на вечере по случаю окончания школы, я встретил Лив. Все шутили, веселились. Прощай, школа! Все танцевали. Кроме меня. Я сидел один у открытого окна и глядел на фьорд, где за лодками переливался лунный след. Неожиданно я обнаружил, что рядом стоят мой товарищ и незнакомая девушка из другого города. Густые светлые волосы, улыбчивые голубые глаза. «К сожалению, я не танцую». Может быть, прогуляемся? Нет? Ну, тогда просто поговорим. Мы разговорились. Начали с анекдотов, перешли к философии. До чего же умные у нее глаза! Стоит рискнуть…
– А как ты смотришь на возврат к природе? – спросил я вдруг.
– Только чтобы по-настоящему, – ответила она твердо, не раздумывая.
Ее слова меня убедили. Она меня поняла.
Она достойна того, чтобы участвовать в эксперименте. Мы условились встретиться после летних каникул. На самом деле нам удалось увидеться вновь лишь после того, как Лив приехала в Осло, чтобы начать занятия в университете. Я выбрал зоологию и географию, за нее выбрал отец, выбрал, к моему ужасу, политическую экономию.
В моем выборе зоологии как главного предмета отразилось детское увлечение природой. А география должна была помочь мне подготовиться к эксперименту, найти место, где будет лучше всего проводить его в жизнь. Мой интерес к первобытным народам и другим культурам не ослабевал. Теперь внимание сосредоточилось на Полинезии. На неолитическом народе, заселившем далекие острова на востоке Тихого океана. Но какой университет ни возьми, на этнологию Полинезии отводилось всего несколько часов. Мне фантастически повезло. Лучшее в мире частное собрание книг и ученых трудов о Полинезии принадлежало одному состоятельному виноторговцу в Осло. Бьярне Крэпелиен провел счастливейшие годы своей жизни в семье полинезийского вождя Терииероо на Таити. Возвратившись в Европу, он принялся собирать все издания о Полинезии и полинезийцах, где бы и когда они ни печатались. Мои сокровенные планы заинтересовали Крэпелиена. Он разрешил мне пользоваться своей богатой библиотекой, принимал меня в своем доме, как сына. И хотя я формально занимался зоологией, все свободные часы я рылся в книгах удивительной его библиотеки, читал про Полинезию и ее обитателей.
Занятия по зоологии не оправдали моих надежд. Нам очень мало говорили о диких животных, об их взаимоотношениях с природой. Мы разрезали внутренности и разглядывали их в микроскоп. Отсекали ножки саламандрам и пересаживали на спину. Проверяли закон Менделя, выращивая в банках тысячи банановых мушек и подсчитывая число волосков у них на спине. Выходили на лодках в залив и ловили тралом всевозможных морских животных, но не затем, чтобы изучать их взаимоотношения со средой, а затем, чтобы определять и зубрить латинские наименования. Средой занимались в самом узком смысле, схематически, микроскопически. Кто же в конечном счете лучше познавал природу – мы или зоркие, пытливые полинезийцы? Они делали упор на то, что приносило больше пользы человеку. Мне же полагалось подходить к природе так, как подходят ученые, а не полинезийцы. Добывать знания, не задумываясь над их пользой и целью.
Лив годом позже меня приехала в Осло. Она по-прежнему была готова участвовать в моей попытке осуществить возврат к природе. Но перед нами стояли немалые трудности. Минул год, минул другой, а мы все ходили каждый по своим университетским лестницам, нагруженные учебниками по совершенно различным темам.
Только отец мог дать мне денег на поездку в тропики. Только мать могла уговорить его сделать это. Только мои профессора могли убедить ее, что это толковая идея. Только продуманная программа исследований могла побудить моих профессоров одобрить план, подразумевающий далекое путешествие поездом и пароходом на противоположный конец земного шара. Я должен был получить теоретическую подготовку, чтобы потом написать дипломную работу на какую-нибудь специальную тему, связанную с облюбованным мной далеким краем. Подготовка требовалась не только для того, чтобы попасть в желанные широты, но и чтобы по возвращении я мог содержать жену и детей, если против всех ожиданий нам все-таки придется вернуться в цивилизованный мир.
После семи семестров и после консультаций со специалистами в Берлине я составил проект, который получил поддержку моих профессоров – зоологов Кристины Бонневи и Ялмара Броха. Отправлюсь на изолированный остров в Тихом океане и попытаюсь выяснить происхождение его животного мира. Как развивалась фауна настоящего океанического острова, не связанного ни с какими материками, выросшего, так сказать, из морской пучины. Сперва над водой поднялись стерильные потоки раскаленной лавы. Лишь после того, как лава остыла, на нее могли попасть разные живые твари – кто вплавь, кто по воздуху, кто с помощью ветров и течений, а кто и на лодках вместе с человеком. Преобладающие ветры и течения, несомненно, играли важную роль; здесь очень кстати пришлись мои занятия географией.
Вот как получилось, что на четвертый год занятий мои профессора убедили мою мать, а мать убедила моего отца ссудить меня деньгами на долгое путешествие. Расходы на месте в счет не шли, ведь главная идея как раз в том и заключалась, чтобы вести такой же образ жизни, какой вели первобытные племена.
Итак, препятствия на моем пути стали исчезать. Настал черед Лив, а она была сильно привязана к своим родителям в Бревике. До сих пор ее терзания ограничивались стертыми ногами – я уговорил Лив ради нашего общего дела летом ходить в лесу босиком, чтобы подготовить кожу к предстоящим испытаниям в дебрях. Я добился разрешения родителей уехать, теперь дело было за ней. Но легко ли махнуть рукой на политэкономию, на которую потрачено столько собственного времени и отцовских денег. И без согласия родителей она никак не могла уезжать, так как еще не достигла совершеннолетия.
Моя мама только обрадовалась, когда я сказал, что собираюсь взять с собой Лив. В самом деле, со мной будет девушка, которую она хорошо знает, которая ей нравится. Это совсем не то, что отпускать сына в одиночку на другой конец света, на острова, прославившиеся легкомысленными представительницами женского пола. Не столь романтично настроенный отец смотрел на дело иначе, опять-таки из-за полинезийских прелестниц. Но и он в конце концов не устоял против красноречия мамы и обаяния Лив.
Самое трудное наступило, когда Лив села писать письмо своим респектабельным родителям. В обертке из красивых фраз жестокие слова: прощай, политэкономия, прощай, цивилизация. Выхожу замуж и уезжаю на Маркизские острова. Мама Лив с ужасом прочитала письмо вслух. Отец тяжело оторвался от кресла и проследовал к книжной полке. Энциклопедия… «М». Маркизские острова… Господи! Чуть ли не в центре Тихого океана. К тому же старая энциклопедия сообщала, что жители Маркизских островов известны людоедством и безнравственным поведением.
Гром и молния. Понадобилось немало времени, понадобились новые письма плюс посредничество моих родителей, прежде чем возмущенный будущий тесть смирился и дал согласие на то, чтобы какой-то неизвестный студентишка умыкнул его единственное чадо.
Лив было только двадцать лет, мне двадцать два, когда мы вдруг ощутили себя вольными птицами. Кругом зеленый свет. Ничто не мешает нам осуществить свою мечту. Прощай, цивилизация. Здравствуй, природа.
Об окончательном выборе места назначения рассказано в книге о наших приключениях, которая вышла два года спустя. Вышла в Норвегии незадолго перед тем, как Европа была ввергнута во Вторую мировую войну. Войну, которую мы предвидели, которой мы опасались…
В тысячный раз склонились мы над пятнистой картой Южных морей. В тысячный раз пристально вглядывались в океанские просторы, надеясь высмотреть точку, которая нас устроит. Одну нетронутую точку среди тысячи рифов и островков! Точку, которую мир еще не заметил, крохотное пристанище, где можно укрыться от железной хватки цивилизации.
Но заманчивые точки одну за другой, одну за другой перечеркивали маленькие крестики. Долой, не годится! Об этом говорили и объемистые труды, и краткие очерки.
Раротонга – крестик: вдоль всего побережья проходит шоссе.
Моореа – крестик: отели, туристы.
Мотдне – крестик: нет питьевой воды.
Хутуту – крестик: нет плодовых деревьев.
Крестик тут (военно-морская база), крестик там (остров мал и густо населен). И вот уже весь лист испещрен крестиками, словно карта звездного неба. И такой же бесполезный для нас.
Чтобы жить, как наши предки, добывая себе пищу голыми руками, требовались совсем особые условия: цветущий край и полное безлюдье. Но все плодородные земли заняты людьми. А там, где нет населения, без помощи цивилизации не обойдешься. Вот почему материки – страна за страной, область за областью – сплошь покрылись крестиками. И теперь настала очередь островного мира Южных морей. Со всех сторон в него вторгались крестики, и кольцо смыкалось все у́же.
У самого экватора, где красными стрелками мчится по карте пассат, раскинулось тринадцать островов Маркизского архипелага. Тринадцать крестиков… И когда на карте не осталось ни одной не зачеркнутой точки, сюда, к этим удивительным островам, потянулся ластик.
Нуку-Хива, Хива-Оа, Фату-Хива. Это главные, самые большие. Фату-Хива живописнейший, благодатнейший остров Южных морей! Мы готовы были без конца читать о нем, разглядывать заманчивые картинки.
Некогда на Маркизских островах было сто тысяч жителей. Теперь осталось две тысячи, да и то часть из них – белые пришельцы. Полинезийцы вымирают с ужасающей быстротой.
А Фату-Хива – благодатнейший остров Южных морей!
Девяносто восемь тысяч исчезли – значит, место есть… Неужели среди древних развалин не найдется уединенного уголка, неужели нет клочка земли, куда не проникли болезни, где не привилась цивилизация и в заброшенных, одичавших садах зреет множество плодов?
Хорошо бы найти необитаемую долину, или маленькое горное плато, или живописный уголок на берегу. Соорудить себе жилье из ветвей и листьев. Добывать пропитание в лесу. Питаться плодами, яйцами, рыбой. Кругом природа. Пальмы и кустарники. Птицы и звери. Солнце и дождь.
Там мы могли бы осуществить эксперимент – вернуться в дебри. Расстаться с современностью, с цивилизацией, с культурой. Сделать прыжок на тысячи лет назад. Познать образ жизни первобытного человека. Познать истинную жизнь во всей ее простоте и полноте.
Возможно ли это? Теоретически – да. Но что нам теория, мы хотим проверить это на деле! Попробовать, сможем ли мы двое, мужчина и женщина, жить так, как жили наши далекие предки. Сможем ли мы совершенно отречься от своей нынешней искусственной жизни и во всем – да, во всем – обходиться собственными силами, совершенно не пользуясь достижениями цивилизации, всецело уповая на природу.
Заманчивый Фату-Хива… Уединенный гористый островок. Богатый солнцем, фруктами, пресной водой. Почти безлюдный. А белых и вовсе нет. Мы обвели Фату-Хиву жирным кружком.
С моря на город полз зимний туман…
Вот как получилось, что мы в морозное рождественское утро, провожаемые леденящим ветром, отбыли в свадебное путешествие на остров Фату-Хива.
Над морем вырастал Таити. Мы обоняли аромат тропического края. Теплое, благоухающее, пряное веяние дошло до нас еще до того, как над горизонтом на западе поднялись окутанные дымкой вершины. Пассажиры из девятнадцати стран, которым за полтора месяца изрядно приелся запах судовой машины и соленого океана, толпились вдоль борта, вдыхая ласковый воздух и пытаясь рассмотреть берег у подножия голубеющих гор. Полтора месяца на огромном пароходе, отчалившем из Марселя. Тогда это был единственный способ попасть на Таити, если не считать маленького норвежского сухогруза, который изредка заходил на остров из Сан-Франциско. Таити – далекие дали, край света. А Маркизские острова – еще дальше, неведомая земля для всех бюро путешествий.
Когда мы в бюро Кука показали на карандашный кружочек, обрамлявший Фату-Хиву, соединенными усилиями удалось выяснить, что ближайшее от острова место, куда можно купить билет, – Таити. А уж дальше остается только надеяться на какую-нибудь местную шхуну торговцев копрой.
И вот из моря поднимается Таити, окропленный соленой влагой, каскады прибоя так и пенятся на коралловом рифе. Зазубренные пики акульими зубами впиваются в бегущие через небо пассатные облака. Знаменитые вершины Диадема и Онохона (первыми на них поднялись Бьярне Крэпелиен и вождь Терииероо) вздымались на две тысячи метров над зелеными холмами и отороченным пальмами пляжем. Гоген, Мелвилл и Голливуд нисколько не преувеличивали. Здесь сама природа ударилась в гиперболы. Глаза не верили, что возможна такая восхитительная красота.
И мы запели мелодичный и плавный гимн Таити, сочиненный кем-то из местных королей: «Э мауруру а вау» – «Я счастлив». Поэты и живописцы, дельцы и чиновники, туристы и искатели приключений – всех нас объединяло чувство, что мы приближаемся к утерянному раю, вновь обретенному среди океанских просторов. Навстречу нам плыли райские кущи, свежие, прохладные, ярко-зеленые, точно корзина цветов качалась на волнах.
Мы услышали рев прибоя во всей его мощи. Увидели красный церковный шпиль, пронзивший плотный полог тропической листвы. Дома, дома… Папеэте, столица Французской Океании. Пароход убавил скорость. Мы проскользнули через просвет в коралловом рифе, между стенами ревущего прибоя. Маленькая спокойная гавань. Огромный пакгауз с железной крышей, полная пристань людей. И хотя бы один человек в набедренной повязке… Все были одеты, как мы. Многонациональный отряд пассажиров пел и ликовал. Пусть знают, что мы люди дружелюбные, такие же простые и свободные, как они! В невозмутимой толпе на пристани кто-то поднял шляпу в знак приветствия, кто-то помахал рукой; на трапе таможенники и одетые в белые мундиры представители эмиграционных органов взяли под козырек. Сладкий, чересчур сладкий запах копры из пакгауза наполнял теплый воздух. Тысячи мешков с копрой ждали отправки, это за ними пришел наш пароход.
В то время на Таити насчитывалось около двадцати тысяч жителей, большинство – полинезийцы, чистокровные или с какой-нибудь примесью. Маленькую столицу Папеэте заполонили китайские торговцы, им принадлежали все мелкие лавки и несколько ресторанчиков, не считая множества тележек на улицах, в которых продавались сладости и другие товары. Остальную часть города составляли губернаторский дворец, почтовая контора, горсточка французских магазинов и колониальных учреждений, кинотеатр из бамбука, церкви, две простенькие гостиницы и несколько улиц, застроенных деревянными домами. Дальше лес и покрытые папоротником крутые склоны предгорий Диадемы, господствующей со своими пиками над центром острова. А влево и вправо от города тянулась окаймляющая весь остров узкая полоса плоской низменности с цитрусовыми, кокосовыми пальмами, банановыми плантациями, могучими хлебными деревьями, манго, папайей. Тут и там между деревьями приютились домики коренных таитян. Мы не собирались задерживаться в маленькой столице, нас манил мир экзотики…
После нескольких ночей в гостинице, где соседи, встав на кровать, могли заглянуть к нам через перегородку, мы решили совершить вылазку за город. К тому же выяснилось, что шхуна с далеких Маркизских островов ожидается не скоро.
Открытый автобус – на подножке и на крыше людей, поросят, кур и бананов больше, чем на деревянных сиденьях, – затрясся по узкой грунтовой дороге, протянувшейся в обе стороны от города вдоль тихой лагуны, обрамляющей часть острова. Дорога обрывалась в густом лесу, кольцо вокруг Таити еще не сомкнулось. На северном берегу, в пятнадцати километрах на восток от Папеэте, раскинулась долина Папеноо. Она довольно круто спадала от одетых папоротником гор до береговой равнины, где вливалась в море одноименная речушка. Защитный барьер кораллового рифа в этом месте расступался, и прибой с грохотом обрушивался на рокочущую гальку. Великолепный дикий сад, Гаити в полном блеске… Здесь жил повелитель семнадцати таитянских вождей Терииероо а Терииерооитераи, друг Бьярне Крэпелиена. Здесь было посеяно зерно, из которого выросла столь хорошо известная мне библиотека. Здесь Крэпелиен познакомился с дочерью Терииероо, Туиматой. И сам же похоронил ее, когда тысячи таитян-крепышей скосила испанка, разразившаяся на острове вскоре после Первой мировой войны. Крэпелиен вместе с другими вывозил полные телеги покойников. Его собственная книга о Таити заканчивается у могилы Туиматы. Тут, писал он, похоронено мое сердце. Сам он решил больше никогда не возвращаться в Полинезию, но послал с нами подарки своему старому другу Терииероо.
Вождь Терииероо встретил нас перед хижиной – огромный и благодушный, сильный и тучный. Его супруга, по всему видно, хорошая хозяйка, держалась в двух шагах позади и улыбалась так же добродушно. Оба босые, на обоих пестрая пареу, у мужа от пояса вниз, у жены от плеч. Нас еще не представили, а мы уже ощутили излучаемое ими расположение.
Бьярне Крэпелиен! Бьярне! Мы друзья Бьярне? Полный восторг. Нас чуть не на руках внесли в дом, никто и слышать не хотел, когда мы заговорили о том, что автобус ждет, мы думали на нем вернуться в Папеэте… Нас буквально похитили в долине Папеноо, и мы с Лив почувствовали себя как дома. И ведь у нас с ней до сих пор не было своего дома. Терииероо обещал, что его друзья в Папеэте дадут нам знать, когда какой-нибудь капитан соберется идти на Маркизы. Возможно, это будет в следующем месяце. Возможно, позднее. На эти отсталые Маркизские острова отправляются только тогда, когда капитан посчитает выгодным для себя совершить рейс за копрой. Тамошние жители не ахти какие работяги, а что за резон капитану отправляться в долгий путь, если нет уверенности, что он привезет груз высушенной на солнце мякоти кокосовых орехов.
Терииероо был в наших глазах могущественным островным королем, благородным и справедливым человеком. Так смотрели на него, в общем, и все островитяне, хотя подлинная власть была сосредоточена в руках французского губернатора в Папеэте. Терииероо получил орден Почетного легиона за лояльность к Франции. Однако он не страдал честолюбием, хотя считал делом чести утверждать радость и справедливость в своем непосредственном окружении и среди друзей своих друзей. И ему доставило большое удовольствие пригласить друзей и попотчевать их роскошным полинезийским обедом, который радовал и глаза, и желудок. Все, что подавалось на стол, было собрано или поймано самолично Терииероо и его сыновьями, а превращено в украшенные цветами лакомые блюда его супругой Фауфау Таахитуэ.
В Папеноо мы вплотную познакомились с полинезийским образом жизни. Здесь не знали таких явлений, как безработица, скука, стресс или расточительство. Земля, океан и река снабжали маленькую общину всем необходимым, и никому не приходило в голову ради быстрой наживы усилить использование природных ресурсов. Благосостояние в долине Папеноо измерялось иначе, чем у нас, не наличным имуществом, а душевным комфортом. У моих новых друзей я увидел то, о чем читал раньше: в Полинезии, если хочешь доставить радость себе и завоевать уважение других, делись, не скупясь, материальными благами, которыми ты располагаешь. Просто удивительно, как мало полинезийцы дорожили личной собственностью.
Терииероо был не только чудесным человеком, но и превосходным оратором. Во время празднеств он вставал во весь свой могучий рост и произносил великолепные речи на французском и полинезийском языках. А для меня он, знаток практических сторон зоологии и этнографии, о которых я не мог узнать из книг, стал к тому же новым учителем. Настоящий полинезиец, каких уже тогда оставалось совсем мало, Терииероо в отличие от многих своих соотечественников гордился древней культурой предков. Он вовсе не был склонен считать, что новый, европейский образ жизни принес островам только благо. И наш замысел пожить так, как жили первобытные люди, тотчас увлек вождя. Ударив по столу ладонью, он объявил жене, что, честное слово, отправился бы с нами на Маркизы, будь он помоложе. Эти острова под экватором – совершенно особенный мир. Один его друг побывал там. До ста орехов на одной кокосовой пальме! В долинах – обилие диких плодов, особенно на самом южном острове, Фату-Хиве. В лесах сколько угодно апельсинов, не то что на Таити, где за ними надо лезть в горы. Даже феи – любимые красные бананы Терииероо – там растут внизу, в долинах. На Таити только опытные скалолазы, у которых пальцы ног цепкие, как у обезьян, собирают феи на крутых горных склонах и продают на базаре в Папеэте. И европейская бурая крыса еще не добралась до Маркизских островов, там нет надобности обивать пальмовые стволы жестью, чтобы уберечь орехи от этой новой нечисти. Вождь не сомневался, что на Маркизах по-прежнему жили так, как некогда на Таити. Ведь и здесь в прошлом феи и другие, ставшие редкостью, разновидности бананов росли в долинах. Теперь бесполезно даже пробовать их сажать – тотчас гибнут от болезни.
За едой Терииероо и Фауфау молчали. Как и дети, участвовавшие в трапезах. Приличия требовали наслаждаться пищей и не мешать другим болтовней. Рыгнуть раз-другой после еды не только полезно, но и позволительно, чтобы выразить свое удовольствие. А потом можно и побеседовать.
В первый день все пользовались вилками и ложками. Но когда вождь услышал про наш замысел, вилки и ложки убрали, и он показал свои пальцы. Чистые. Этикет предписывал мыть руки перед едой. Тремя пальцами Терииероо отломил кусок печеного плода хлебного дерева, окунул в густой белый кокосовый соус, отправил в рот и размял языком. И объяснил, что вот так положено наслаждаться вкусом изысканного блюда. Дескать, вы, европейцы, до того привыкли металл в рот совать, что уже и не замечаете, как портите и перебиваете вкус еды. Следом за ним и мы принялись есть пальцами и начали склоняться к мнению, что совать в рот холодное железо в самом деле варварство.
Пока моя невеста, обливаясь п́отом, шуровала ветками и сучьями в открытой земляной печи Фауфау, учась делать съедобными и лакомыми невкусные, подчас даже несъедобные полинезийские плоды и корнеплоды, вождь водил меня вверх по реке и вдоль берега моря и показывал, где происходит сбор продуктов. В реке – речные раки, в лагуне – множество всякой рыбы и ракообразных, каракатицы и прочие живописные твари, которых можно было бить копьем, ловить сетью, на крючок или просто руками. Съедобные корни опознавались по торчащим над землей листьям. Не все, что манило взгляд, было полезно для желудка. Попадались ядовитые рыбы, корни, плоды. Мясо акулы невкусное, а то и вредное из-за мочевины, но нарежь его и вымочи в воде – и на другой день получится отменное блюдо. Для приготовления рыбы и прочих продуктов моря не обязательно было разводить огонь, достаточно нарезать их мелкими кубиками и залить на ночь лимонным соком. Красные горные бананы сырыми не ели. И плоды хлебного дерева тоже, разве что закопать их в землю и дать перебродить. Опасный корень – маниок, его полагалось искрошить и отфильтровать яд. Чтобы развести огонь трением, лучше всего взять два сухих сучка гибискуса, один заточить наподобие карандаша и долго тереть им по желобку второго, расщепленного вдоль.
Терииероо считал, что мы спокойно можем отказаться от всех благ цивилизации; только два предмета даже он считал необходимыми: котелок и длинный нож – мачете. Без котелка многие из продуктов леса будут несъедобными для современного человека, а без ножа мы не сможем даже заострить кол, который нужен, чтобы содрать с кокосового ореха толстую защитную кожуру.
На камнях в реке сидели улитки в колючих раковинах, напоминающие маленьких морских ежей. Нам объяснили, что на них лучше не наступать, особенно европейцам, у которых подошвы ног совсем тонкие – не то что у наших полинезийских друзей, снабженных от природы толстой кожаной подошвой. И я внимательно смотрел под ноги, когда однажды утром отправился на речку за раками. Может быть, у другого берега больше раков? Проверю… Посередине река была довольно глубокая, и течение быстрое, дно не разглядеть. Ой! Я со всего маху наступил на колючую улитку и потерял равновесие. Стремнина не давала подняться на ноги, и бурное течение увлекло меня к устью. Даже самый посредственный пловец справился бы с течением, да только я не принадлежал к их числу. К моему величайшему стыду, я вообще не умел плавать. В детстве я однажды бултыхнулся в воду с пристани и попал в водоворот под скалой; в другой раз зимой пошел ко дну, прыгнув на льдину среди широкой проруби, где рабочие отцовой пивоварни заготавливали лед для холодильника. После этих приключений я боялся глубоководья. Меня невозможно было убедить, что я буду держаться на воде, если научусь правильно двигать руками и ногами.
И вот теперь, под пальмами Таити, я снова во власти воды… Барахтаюсь, хватаю ртом воздух, размахиваю руками, а течение несет меня, словно мешок картошки, прямо к яростному прибою, который буйными каскадами обрушивается на гальку, как будто тысячи танков наступают на берег с моря. Все ближе и ближе оглушительная канонада, ревущий накат, рокот перекатываемой гальки. Там я живо превращусь в фарш… Быстрее соображай! Не позволяй панике парализовать тебя – думай! Овладел собой? Так, спокойно. Размеренно двигая руками, я поплыл. Я ведь знал, как надо плыть, просто никогда еще не пробовал. Легко выбрался из стремнины на берег, предоставив гальке скрежетать зубами в белой от пены, разинутой пасти моря. Долго стоял я на траве и смотрел на беснующиеся волны, от гнева которых сумел уйти. Тропическое солнце обжигало кожу. Я прошел вверх по реке, нашел тихую заводь, нырнул и поплыл по кругу, словно лягушка. Появился Терииероо, тоже нырнул и стал рассекать воду кролем. Здорово! Я не сказал ему, что еще никогда в жизни не плавал.
Вес Терииероо не позволял ему самолично показать мне, как полинезийцы взбираются на кокосовую пальму. Зато его внук Биарне, названный в честь старого друга вождя, уперся в ствол руками и ногами, выгнул спину дугой и пошел вверх так же легко, как я шагал бы по столбу, положенному на землю. Вспомнив, как мы, ребята, взбирались на гладкий ствол сосны, я обнял пальму и полез в лучшем скандинавском стиле, прижимаясь к дереву грудью. К моей радости, оказалось, что лезть на кокосовую пальму легче, чем на сосну – до самой кроны, напоминающей папоротник, ствол окружала частая и мелкая кольцевая насечка. Добравшись до верха, я гордо помахал рукой моим друзьям и попытался сорвать кокосовый орех. Куда там! Плодоножка тугая, словно кожаный ремень. Я быстро запыхался и почувствовал, что пора слезать. Не тут-то было, острые кромки насечек были обращены вверх. Курам на смех: вишу на макушке пальмы и не знаю, как спуститься… Я отчаянно цеплялся за голый ствол. Попробовал выгнуть спину на полинезийский лад, но едва не сорвался и поспешил обнять пальму на скандинавский лад. Что делать? Окончательно выбившись из сил, я подчинился закону тяготения и ракетой скатился вниз. Ощущение того, что часть моей кожи осталась на стволе, заглушило боль в седалище. Словно по мне сперва прошлись спереди наждаком и рашпилем, а напоследок врезали кулаком сзади. К тому же Терииероо увидел, что у меня наполовину оторван ноготь на большом пальце ноги. Взял клещи, вложил все свои сто тридцать килограммов в мощный рывок и избавил меня от ногтя.
Прошло две недели, прежде чем я научился правильно влезать на небольшие пальмы и, держась за ствол, преодолевать упорное сопротивление плодоножки, соединяющей орех с пальмой. А ведь еще надо было следить, чтобы не растревожить какое-нибудь осиное гнездо или огромных тысяченожек.
Гордостью Папеноо была автомашина Терииероо. Машины тогда вообще были редкостью на острове, и у нас подчас уходило больше времени на то, чтобы крутить ручку, копаться в моторе и толкать злосчастный экипаж, чем дойти пешком до Папеэте. Но Терииероо, который легко отмерял десятки километров по горам, предпочитал ездить в Папеэте на своем автомобиле. Понять его было нетрудно, и мы присоединялись к нему. Бродить по лесам и холмам Папеноо было сплошным удовольствием, ведь там мы обходились легким пареу, и теплый воздух только ласкал кожу. А для поездки в город полагалось одеваться на цивилизованный лад. В белом костюме Терииероо с лихо закрученными усами напоминал банкира начала века. Страшными словами поносил вождь огромные теннисные туфли, которые нещадно жали его растопыренные пальцы, а галстук он повязывал с видом висельника, который сам себе надевает петлю на шею. Я никак не мог удовлетворительно объяснить ему, в чем смысл этого давнего изобретения. Превратившись из веселых полинезийцев в серьезных граждан этого французского филиала моего собственного мира, мы крутили, и толкали, и тряслись пятнадцать километров, отделявших нас от улочек Папеэте.
У Терииероо были дела в колониальной администрации; мы с Лив бродили по улицам в толпе торопливых китайцев. На пути к живописному рыбному рынку нам однажды встретился Ларсен. Ларсен из Норвегии. Худощавый человек в соломенной шляпе и полосатых шортах подошел и сказал, что по акценту узнал в нас земляков. Мы как раз мобилизовали все наше школьное знание французского языка, пытаясь побольше выведать о представителях фауны, выставленных для продажи тем, кто пришел не просто полюбоваться красочным зрелищем. Ларсен представился: в прошлом учитель, теперь один из здешних старожилов. Мы не против встретиться сегодня вечером с его друзьями дома у него, за городом в Фаутауа?
Мы пришли и познакомились с Калле Свенссоном из Швеции и Чарли Хэллигеном из Англии. Сидя на самодельных скамейках за столом на террасе Ларсена, мы угощались пивом при свете керосиновой лампы, который озарял ближайшие растения тропического сада.
– Ну и как вам нравится Таити? – прозвучал первый вопрос.
– Природа нравится. Мы даже не представляли себе, что может быть такая красота.
– Одной красотой не проживешь. Кстати, в Швеции тоже красиво, – заметил Свенссон, вылавливая из кружки большого мотылька.
– Не так, как здесь, – возразил я, указывая кивком на огромные банановые листья, которые поглаживали темное звездное небо.
Луна освещала тяжелые зеленые гроздья. Теплый воздух был напоен густыми запахами. Плодородие. Цветение. Красота.
– Конечно, после стольких лет разлуки вам все на родине представляется краше, чем есть на самом деле, – продолжал я. – Вы уже не воспринимаете здешнюю сказочную природу. А мы только что расстались с туманами бесснежной зимы, можем сравнить свежие впечатления.
Мы с Лив принялись перечислять повседневные проблемы нашей родины. И до чего же все великолепно здесь, на Таити! Нам хотелось, чтобы они по-настоящему осознали, как им хорошо тут, в островном раю, о котором мечтает весь мир.
Но плечистый Свенссон стоял на своем. Его тянуло домой. Домой в Швецию, вместе с женой-таитянкой и детьми. Пока они еще не испорчены местной безнравственностью. Напрасно мы пытались разрушить его иллюзии.
– Вы здесь новичок, – добавил он. – Погодите с месяц, сами увидите. Вы ослеплены, как все новички. Таити – потерянный рай.
Хэллиген опустошил свою кружку. У маленького, тихого, немногословного англичанина тоже наболело.
– Рай обретает тот, – спокойно произнес он, – кто возвращается на родину.
Он уже двадцать лет жил на Таити.
– А вы откуда родом? – удивился я.
Хэллиген родился в Лондоне. В Лондоне!
– Вот-вот, – восторженно подхватил Ларсен. – Вы только подумайте – в Норвегии растет крыжовник.
Крыжовник? Я опешил. Он серьезно? Толкует о крыжовнике здесь, где деревья гнутся от тропических плодов. Я показал на его одичалый сад. На каждом дереве, на каждом кустике – экзотические фрукты или цветы. Вон лимонное дерево, а совсем рядом с моим локтем свет лампы озарял красные кофейные ягоды.
– Куда им до крыжовника. Только подумать: стоишь в саду и не сходя с места ешь крыжовник до отвала!
Бывший учитель из Мосса сдвинул шляпу на затылок, и лампа озарила его мечтательное лицо.
– Но ведь вы побывали на Таити еще до того, как приехали насовсем, – заметил я. – Почему же вы вернулись сюда, если вам здесь не нравится?
– Молодой человек, – сказал Ларсен, – тогда Таити был совсем не тот, что сегодня. Каких-нибудь четыре года назад белый еще что-то представлял собой на острове. Теперь все переменилось. Островитяне смеются над нами за нашей спиной. Я-то понимаю язык и слышу, как они прохаживаются на наш счет. Все эти восторженные туристы, эта реклама, которая расхваливает Южные моря, избаловали их, они зазнались. Каждый, кто приезжает на Таити, пишет книгу о своем путешествии. Чтобы книгу покупали, в ней непременно надо расписывать рай. А иначе кто станет ее читать? Людям нужна романтика, чтобы было, куда уноситься в мечтах. Таити – воплощение такой романтики. Полинезию положено преподносить американцам и европейцам такой, какой она была во времена капитана Кука. Мы занимаемся самообманом и снабжаем гавайскими гитарами народ, который до прихода европейцев вообще не знал струнных инструментов, привозим цветастые набедренные повязки из Франции и лубяные юбочки из США. Сочиняем чувствительные песенки для островитян, чтобы они исполняли их в бамбуковом кинотеатре Папеэте для искателей рая. Таити обязан прикидываться примитивным, чтобы привлекать туристов, чтобы книги находили сбыт, чтобы удовлетворять посетителей кино. И чтобы нас не мучила совесть при мысли о том, что сделали европейцы со здешними островами.
Наступила тишина. Я понимал, что слова трех старожилов не пустая болтовня.
Терииероо заехал за нами, и мы покатили в Папеноо, обуреваемые смешанными чувствами. Вид ночного Таити с пальмами, с огромными листьями на фоне светлой лагуны был прекрасен, как всегда, но нам казалось, что мы сидим в театре, где оперные декорации оставили на сцене, чтобы использовать для эстрадного представления…
У нас отлегло от души, когда мы вернулись в бунгало Терииероо. Папеноо резко отличался от Папеэте. Конечно, со времен капитана Кука и тут наступили перемены, однако мало что изменилось после Крэпелиена и Поля Гогена. Дом-то европейский, зато атмосфера полинезийская. Смесь, но смесь без подделок, а хорошая или дурная, это уже другой вопрос. На всем Таити мы нигде не видели старинных построек. Ни одной кровли из пальмовых листьев. Все дома, даже самые маленькие и бедные, – из дорогих привозных досок, с крышей из рифленого железа. Терииероо ворчал, считая, что старые дома из бревен или бамбука, крытые плетенкой из пальмовых листьев, куда лучше подходили к здешнему климату. Никаких расходов, надежная защита от дождя, прохладно и уютно. Деревянный дом Терииероо был таким же неприглядным, как остальные, и духотища в нем такая же. Днем тропическое солнце накаляло железную крышу так, что мы чувствовали себя вареными, а ночью нас будила барабанная дробь дождя. И что это вождю вздумалось строить себе такое жилье, если он знает, насколько лучше старые таитянские постройки? Терииероо только улыбался в ответ. Разве может он допустить, чтобы люди говорили: вот, дескать, человек живет дикарем на цивилизованном Таити.
Тогда я не подозревал, что через десять лет вернусь на Таити вместе со своими товарищами по экспедиции «Кон-Тики». К тому времени один богатый американский искатель рая выстроил себе на острове огромный, крытый пальмовыми листьями бамбуковый дворец в голливудском духе, который приводил в восторг всех туристов. Романтически настроенные иностранные поселенцы, а также некоторые владельцы ресторанов и мотелей последовали его примеру, так что желтые бамбуковые стены под косматыми лиственными крышами перестали быть уникальным зрелищем. Еще через десять лет я попал на Таити в третий раз, теперь уже вместе с археологами, которых привлек к раскопкам в Восточной Полинезии. И увидел, что сами полинезийцы тоже начали строить красивые и здоровые дома из бамбука и пальмовых листьев. Не совсем такие, какие застал капитан Кук, но намного лучше дощатых сараев с железной кровлей, которые успели выйти из моды. Современные посланцы Голливуда помогли окольными путями вернуть Таити исконную архитектуру, тесно связанную с природой.
Месяц гостили мы в доме Терииероо. Наконец стало известно, что капитан Брандер на шхуне «Тереора» собирается плыть на далекие Маркизские острова. Взяв ручку, Терииероо написал послание мсье Пакеекее, маркизскому уроженцу, который учился в протестантской миссии на Таити и здесь познакомился с вождем.
Религия всегда играла важнейшую роль в жизни полинезийцев. Храмовые сооружения и прочие культовые постройки, жрецы, ритуалы, табу – все это исстари занимало центральное место в каждой полинезийской общине, поэтому европейским миссионерам не стоило труда заменить поклонение старым незримым богам новому незримому богу, лишь бы сохранялись привычные для островитян категории: священники, ритуалы, места религиозных собраний. Многие миссионеры ликовали, видя, как легко обратить полинезийцев в свою веру. Ликовали, но и тревожились: ведь кто поручится, что представитель какой-нибудь конкурирующей веры с такой же легкостью не привлечет новообращенных на свою сторону…
По воскресеньям семейство Терииероо посещало расположенную поблизости от дома протестантскую церковь. Супруга вождя, Фауфау, проследила, чтобы Лив, идя в Божий храм, надевала надлежащую шляпу. Это была огромная плетеная конструкция, которая под тяжестью давивших на поля гирлянд из раковин упорно сползала на нос Лив. Вместе с тремя поколениями семейства Терииероо мы выходили на дорогу. Получалось целое шествие: впереди – вождь и я в белых костюмах и тапочках, за нами – наши вахины в огромных шляпах и широких таитянских платьях до земли.
Пели в церкви – как и всюду в Полинезии – великолепно. Ради одного пения стоило туда ходить. К тому же церковь была единственным местом, где собирались люди; только бамбуковый кинотеатр в Папеэте мог с ней конкурировать. У нас создалось впечатление, что наши друзья-островитяне обожают свой храм так же преданно, как норвежские болельщики – свои футбольные команды. В первый же день Терииероо спросил, какой веры мы придерживаемся. Услышав, что в Скандинавии почти все от рождения протестанты, он просиял. Свои люди! Мы узнали от него, что на Таити протестанты в большинстве.
И вот теперь он написал в таком духе рекомендательное письмо, адресованное его далекому знакомцу – Пакеекее на Фату-Хиве. Если бы мы знали, какие последствия повлечет за собой это послание!
За неделю до отплытия на террасе Терииероо состоялся небывалый праздник. Длинный ковер из плотных зеленых банановых листьев, посыпанный благоухающими цветами, играл роль скатерти-самобранки. Венки и гирлянды из папоротника и белых цветков тиаре услаждали обоняние и глаз. Когда мы с Терииероо вернулись с реки, неся полную корзину беспокойных раков, нас встретил заманчивый запах жареных поросят и цыплят, испеченных в выложенных камнем земляных печах. Женщины наловили рыбы, накопали корней; дети и внуки лазили на огромные деревья за хлебными плодами и манго, чтобы в этот особенный вечер не было недостатка ни в чем, что только может порадовать гурмана.
Самый роскошный и дорогостоящий банкет, устроенный знатоками этого дела, не сравнится с благоухающим, сочным полинезийским уму, запеченным в зеленых листьях и поданным ликующему сборищу могучих едоков под открытым тропическим небом. Кулинарное искусство всегда занимало видное место в полинезийской культуре. То, что предлагают в современных «южноморских» ресторанах, лишь жалкое подобие блюд, которые нельзя воспроизвести в мире пластика и бетона. Полинезийская кухня требует тропической земли и дымящихся поленьев борао.
В тот вечер Терииероо нарушил одно из своих правил. Мы уже погрузили пальцы в праздничное угощение, когда он взял слово и произнес речь. В любимом пареу, обвешанный цветными гирляндами, он встал во весь свой могучий рост над зеленой лиственной скатертью и показал на меня и Лив. Мы сидели в другом конце, на корточках, как принято в Полинезии. Сначала на таитянском, потом на французском языке Терииероо напомнил гостям, что его жены, включая покойных, принесли ему 29 детей. Но теперь он решил усыновить еще двоих. Следовательно, им надо дать новые имена, потому что старые, норвежские, таитянину выговорить никак невозможно. Вот попробуйте сказать «Лив» или «Тур»? Все по очереди попробовали, получалось «Риви», «Тюри». Общий восторг вызывала каждая неудачная попытка.
И вот Терииероо и Фауфау усыновили нас, наделив новыми именами, которые шутя выговаривались всеми присутствующими, кроме нас самих: Тераиматеататане и Тераиматеатавахине. Весь остаток вечера мы заучивали новые имена и при этом изрядно повеселили гостей. Наконец освоили произношение и ударение, правильно разделили слова, составляющие имя: Тераи Матеата Тане и Тераи Матеата Вахине.
Господин и госпожа Синее Небо. Теперь мы могли сойти за приличных людей в Полинезии.