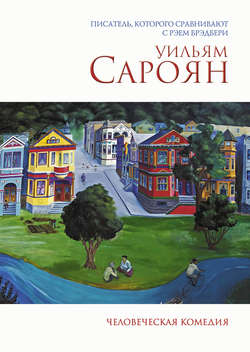Читать книгу Человеческая комедия - Уильям Сароян - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 5
Ступай своей дорогой, а я пойду своей
ОглавлениеРассыльный слез с велосипеда у крыльца миссис Розы Сэндовал. Он подошел к двери, тихонько постучал и сразу же почувствовал, что в доме кто-то есть. Было очень тихо, но Гомер знал, что в ответ на его стук кто-нибудь подойдет к двери, и ему страшно хотелось посмотреть на эту даму по имени Роза Сэндовал, которая сейчас услышит, что в мире свершается убийство, и почувствует его в своем собственном сердце. Дверь отворили сразу, но без всякой поспешности. Дверь отворялась так, словно той, кто ее отворял, нечего было бояться. А потом дверь распахнулась – и появилась она.
Мексиканка показалась Гомеру прекрасной. Она, видно, столько претерпела за свою жизнь, что теперь ее губы сами складывались в ласковую, чуть-чуть отрешенную улыбку. Но как и всем людям, которые никогда не получают телеграмм, появление рассыльного показалось ей ужасным предзнаменованием. Гомер понял, что, увидев его, миссис Роза Сэндовал испугалась. Она произнесла то, что произносит всякий, кто встречается с неожиданностью. Она вскрикнула: «Ах!», словно, открывая дверь, надеялась встретить не рассыльного, а давнишнего своего знакомого, с кем ей приятно было бы увидеться. Прежде чем заговорить, она заглянула Гомеру в глаза, и тот почувствовал, что она уже знает, какой нежеланной будет принесенная им весть.
– У вас телеграмма? – спросила она.
Чем же Гомер виноват? Ведь доставлять телеграммы – его обязанность. Но он все равно чувствовал себя одним из виновников всего этого непорядка. Он был растерян, ему казалось, что он отвечает за то, что стряслось. В то же время ему хотелось объяснить ей все начистоту: «Я всего-навсего рассыльный, миссис Сэндовал. Мне очень жаль, что я должен вручить вам такую телеграмму, но ведь это – моя работа».
– Кому же эта телеграмма? – спросила мексиканка.
– Миссис Розе Сэндовал, Джи-стрит, номер тысяча сто двадцать девять, – сказал Гомер.
Он протянул мексиканке конверт, но она боялась до него даже дотронуться.
– Вы – миссис Сэндовал? – спросил Гомер.
– Пожалуйста, – сказала женщина. – Прошу вас, войдите. Я не умею читать по-английски. Я – мексиканка. И читаю только «Prenza», которую получаю из Мехико. – Она промолчала и взглянула на мальчика, который, переступив порог, держался как можно ближе к выходу. – Прошу вас, скажите мне, – попросила она, – что написано в телеграмме?
– Дело в том, миссис Сэндовал, – начал мальчик, – что в телеграмме сказано…
Но женщина сразу же его прервала:
– Вам ведь нужно сначала распечатать телеграмму, а потом прочесть ее мне! А вы ее еще не распечатали.
– Да-да, конечно, – сказал Гомер, словно оправдываясь перед классной наставницей, которая сделала ему выговор.
Непослушными пальцами он распечатал конверт. Мексиканка нагнулась, чтобы подобрать с полу надорванный конверт, и стала его разглаживать. Она расправляла его, говоря:
– Кто же мог послать мне телеграмму – наверно, мой сын Хуан Доминго?
– Нет, – сказал Гомер, – военное министерство.
– Военное министерство? – спросила мексиканка.
– Миссис Сэндовал, – поспешно сказал Гомер, – ваш сын умер. Может, это ошибка. Всякий может ошибаться, миссис Сэндовал. Может, это совсем и не ваш сын. Может, это кто-нибудь другой. В телеграмме, правда, сказано, что это Хуан Доминго. Но может, в телеграмме ошибка.
Мексиканка сделала вид, будто не слышит.
– Не стесняйтесь, пожалуйста, – сказала она. – Войдите. Войдите же, прошу вас! Я угощу вас конфеткой. – Она взяла мальчика за руку, подвела его к столу, стоявшему посреди комнаты, и заставила сесть. – Мальчики так любят сласти, – сказала она. – Я угощу вас конфеткой. – Она сходила в соседнюю комнату и принесла оттуда старую коробку с шоколадными конфетами. Положив коробку на стол, она открыла ее, и Гомер увидел там конфеты, каких он никогда еще в жизни не ел. – Вот, – сказала она. – Ешьте конфеты. Мальчики так любят сласти.
Гомер взял из коробки конфету, положил ее в рот и стал через силу жевать.
– Вы не стали бы приносить мне дурные вести, правда? – сказала она. – Вы хороший мальчик, совсем как мой Хуанито, когда он был маленький. Съешьте еще конфетку. – И она заставила рассыльного взять еще одну конфету.
Гомер жевал сухую конфету, а мексиканка говорила без умолку:
– Это наши конфеты, мы их сами варим из кактуса. Я приготовила их для моего Хуанито к его приезду. Но вы ешьте, ешьте! Вы ведь тоже мой мальчик.
И вдруг она разрыдалась, сдерживая себя, словно в слезах было что-то постыдное. Гомеру хотелось бежать, но он знал, что должен остаться; ему, видно, придется пробыть здесь всю жизнь, он вот только не знал, как ему поступить, чтобы женщине не было так горько, и, если она попросит его остаться вместо сына, он не сможет ей отказать, у него не хватит на это сил. Он поднялся, словно стоя мог исправить то, чего уже нельзя было исправить, но тут же понял бессмысленность своей попытки и смешался еще больше. В душе он твердил себе: «Что я могу поделать? Что я, черт возьми, могу поделать? Ведь я всего-навсего рассыльный».
Женщина вдруг обняла его, приговаривая: «Мой мальчик, ах, мой мальчик!»
Не понимая почему – ведь ему было просто очень горько, – он вдруг почувствовал, что его мутит и вот-вот вырвет. И не потому, что эта женщина или кто-нибудь другой были ему противны, но то, что с ней произошло, было так несправедливо, так безобразно, что его тошнило, и он не знал, захочется ли ему еще жить.
– Поди сюда, – сказала женщина. – Сядь. – Она насильно усадила его на стул и встала рядом. – Дай я на тебя погляжу.
Она смотрела на него так странно, что рассыльный, у которого надрывалось сердце, не мог шевельнуться. Он не чувствовал ни любви, ни ненависти, им владело величайшее отвращение, но в то же время и мучительная жалость – не только к этой бедной женщине, но и ко всему живому, к нелепой привычке людей терпеть и умирать. Он представил себе эту женщину в прошлом – красивую, молодую у колыбели сына. Он видел, как она смотрит на этого удивительного человечка: безмолвно, растерянно, полная надежд. Он видел, как она качает колыбель, и слышал, как она поет. А теперь посмотрите на нее!
И вот он уже снова несется на своем велосипеде по темной улице, и из глаз у него текут слезы, и губы шепчут детские, неразумные проклятия. Когда он доехал до телеграфной конторы, слезы у него высохли, но в душе его родилось что-то новое, чего, он это знал, уже нельзя остановить. «И не надо, – сказал он себе, – не то я сам буду ничем не лучше мертвеца». Говорил он с собой громко, словно с глухим.