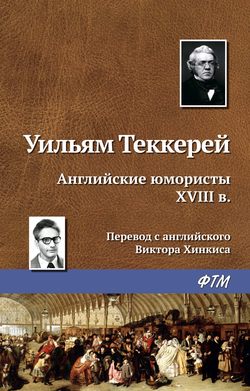Читать книгу Английские юмористы XVIII в. - Уильям Теккерей - Страница 3
Лекция третья
Стиль
ОглавлениеКакую цель ставим мы перед собой, изучая историю прошлого века? Интересуют ли нас политические события или характеры знаменитых общественных деятелей? Или же мы хотим представить себе быт и нравы того времени? Если мы ставим перед собой первую, весьма серьезную задачу, как нам определить истину и кто может быть уверен, что обладает ею во всей полноте? Разве знаем мы характер великого человека? Нет, об этом можно лишь строить более или менее удачные догадки. Разве и в повседневной жизни вам не случается ошибочно судить о всем поведении человека по какому-нибудь случайному неверному впечатлению? Тон, слово, сказанное в шутку, пустяковый поступок, прическа или галстук могут представить его перед вами в ложном свете или испортить ваше доброе мнение о нем; а иногда после многих лет тесной дружбы, может статься, ваш ближайший друг сказал или сделал что-нибудь такое, о чем вы раньше не подозревали, и это изменит ваше представление о нем, покажет, что мотивы его поступков были совсем иными, нежели вы полагали. А если так обстоит дело с вашими знакомыми, то насколько это справедливее по отношению к незнакомым? Скажем, к примеру, я желаю понять характер герцога Мальборо. Я читаю Свифтову историю того времени, в которой он был действующим лицом; автор обладал острой наблюдательностью и, надо полагать, был посвящен в политику того века, – он дает мне понять, что Мальборо был трусом и даже его способности полководца весьма сомнительны; он отзывается об Уолполе как о презренном и неотесанном человеке, лишь в издевательство упоминая о знаменитом политическом заговоре в конце царствования королевы Анны с целью возвращения Претендента. И опять-таки, я читаю биографию Мальборо, принадлежащую перу плодовитого архидьякона, написанную в высокопарном стиле человеком, который располагал обширными материалами и тем, что называется подробнейшей информацией; и я совсем или почти совсем ничего не узнаю о тех тайных пружинах, которые, мне кажется, повлияли на всю карьеру Мальборо и заставили его менять позиции, своевременно сохранить верность и столь же своевременно изменить, остановить армию почти у самых ворот Парижа и в конце концов перейти к победителям – на сторону Ганноверской династии; так вот, я не узнаю правды или узнаю не всю правду, читая сочинения обоих, и думаю, что портрет, нарисованный Коксом, и портрет, нарисованный Свифтом, оба весьма далеки от истинного Черчилля. Я привожу этот единственный пример, но готов столь же скептически отнестись ко всем прочим, и говорю музе истории: о достойная дочь Мнемозины, я сомневаюсь в каждом слове вашей милости с тех пор, как вы стали музой! Потому что при всей вашей серьезности и претензиях на возвышенность вы заслуживаете доверия ни на крупицу более, чем некоторые из ваших менее серьезных сестер, на которых ваши приверженцы смотрят сверху вниз. Вы предлагаете мне выслушать речь генерала, обращенную к солдатам. Вздор! Она не более истинна, чем последнее слово Терпина в Ньюгете. Вы превозносите героя; у меня это вызывает сомнения, и я говорю, что вы бессовестно льстите. Вы осуждаете беспринципного человека; это вызывает у меня сомнения, мне кажется, что вы пристрастны и стоите на стороне хвастунов. Вы предлагаете мне автобиографию; я сомневаюсь во всех автобиографиях, какие когда-либо читал, разве только за исключением автобиографии мистера Робинзона Крузо, мореплавателя, и других сочинителей вроде него. У этих нет оснований стараться снискать благосклонность публики или успокаивать свою совесть; у них пет причин что-либо скрывать или говорить полуправду; они не требуют больше доверия, чем я могу им дать с легкой душой, и не принуждают меня подвергать мою доверчивость испытанию или искать доказательств. Я беру книгу доктора Смоллета, или номер «Зрителя» и утверждаю, что в беллетристике растворено больше правды, нежели в книге, утверждающей, что решительно все в ней чистейшая правда. Из беллетристики я выношу впечатление о жизни того времени, о нравах, о поведении людей, об их платье, о развлечениях, остротах и забавах общества – прошлое вновь оживает и я путешествую по старой Англии. Может ли самый солидный историк дать мне больше?
Когда мы читаем чудесные номера «Болтуна» и «Зрителя», прошлый век возвращается вновь, Англия наших предков оживает. В Лондоне на Стрэнде снова стоит майское дерево; церкви, как всегда, полны молящихся; в кофейнях собираются щеголи; дворяне едут на прием во дворец; дамы толпятся у модных лавок; носильщики, толкая друг друга, проносят портшезы; лакеи с факелами бегут впереди карет или толпятся у подъездов театров. А в захолустье я вижу юного сквайра, едущего в Итон, его сопровождают слуги и Уилл Уимбл, друг семьи, который его оберегает. Чтобы совершить эту поездку от дома сквайра и обратно, Уилл неделю не слезает с седла. В карете от Лондона до Бата пять дней пути. Судьи и адвокаты отправляются на выездную сессию. Когда миледи едет в город в своей карете, ее слуги берут пистолеты, дабы приветствовать капитана Макхита, если он появится, а ее гонцы скачут вперед приготовить для нее помещение в больших придорожных караван-сараях; трактирщик принимает ее под скрипучей вывеской «Колокол» или «Баран», он и его слуги с поклонами провожают ее вверх по широкой лестнице, а ее экипаж с грохотом въезжает во двор, где «Эксетерская муха», которая проделывает свой путь за восемь дней, если будет угодно богу, стоит, закончив свой дневной пробег в двадцать миль и высадив пассажиров, которые отправились ужинать и спать. Приходский священник покуривает трубку на кухне, где слуга капитана, повесив на гвоздь шпагу своего хозяина, уплетает яичницу с ветчиной, хвастая подвигами при Рамильи и Мальплакэ перед горожанами, которые, как всегда, собрались в углу у камина. А сам капитан поглядывает на горничную на деревянной галерее или же соблазняет ее деньгами, чтобы выведать, кто эта хорошенькая молодая дама, приехавшая в карете. Вьючные лошади стоят в стойлах, кучера и конюхи гуляют в трактире. А в распивочной у самой Хозяйки, над стаканом крепкого зелья сидит джентльмен, судя по виду, военный, который путешествует с пистолетами, как все уважающие себя люди, и в конюшне стоит его серый скакун, который будет оседлан и умчит своего хозяина за полчаса до того, как «Муха» пустится в свой последний дневной перелет. А милях в пяти отсюда по дороге, когда «Эксетерская муха» подъедет, бренча и поскрипывая, ее вдруг остановит человек в черной полумаске, верхом на серой лошади, сунет в окно кареты длинный пистолет и прикажет всем отдать кошельки… Должно быть, это было немалое удовольствие хотя бы просто посидеть в кухне тех времен, глядя, как течет поток человеческой жизни. Теперь мы уже больше не ездим, а прибываем на место назначения. Аддисон шутливо говорит о различии нравов и обычаев, весьма заметном в Стейнесе, где проезжал молодой человек «во вполне сносном парике», хотя фасон его шляпы, без сомнения, давно вышел из моды, – это была треуголка времен Рамильи. Мне хотелось бы поездить в те времена (я из тех путешественников, которые непринужденно разговаривают coram latronibus[85] и увидеть молодца на серой лошади и в черной полумаске. Увы! В жизни этого рыцаря неизбежно наступал такой день, когда его по всем правилам хорошего тона препровождали – без черной маски, с букетом в руке, под охраной алебард и под надзором шерифа – в повозке без рессор, а позади него трясся священник, на известное место неподалеку от Камберленд-Гейт и Мраморной арки, где камень все еще хранит память о том, что здесь была Тайбернская застава. Как все изменилось всего за одно столетие: за такой короткий срок! В нескольких шагах от этих ворот начинались поля: поля его подвигов, где он таился за зелеными изгородями и грабил. Большой и богатый город вырос на этих полях. Если бы теперь туда привезли казнить человека, все окна захлопнулись бы и жители сидели бы по домам, терзаемые страхом. А сто лет назад люди толпились здесь, чтобы увидеть последнюю сцену из жизни разбойника и поиздеваться над ним. Свифт смеялся, мрачно советуя ему приготовить на дорогу рубаху голландского полотна и белую шляпу с алой или черной лентой, бодро влезть на повозку, пожать руку палачу и – прощай. Гэй писал восхитительные баллады и подшучивал над этим же героем. Сопоставьте все это с тем, что пишут наши нынешние юмористы! Сравните их мораль с нашей, их обычаи с нашими!
Невозможно рассказать, да вы едва ли и пожелали бы услышать всю правду об этих людях и обычаях. Вы усидели бы в английской гостиной в царствование королевы Виктории в присутствии светского джентльмена или светской леди времен королевы Анны, слыша то, что слышали и говорили они, не дольше, чем в присутствии древнего бритта. Когда читаешь о дикарях, словно бы видишь дикие обычаи, варварские пиршества, ужасные игры жуиров тех времен. У нас есть свои светские джентльмены и легкомысленные джентльмены; позвольте же мне познакомить вас с одним весьма легкомысленным аристократом времен королевы Анны, чью биографию сохранили для нас судебные репортеры.
В 1691 году, когда Стиль учился в школе, милорда Мохэна судил суд равных за убийство комического актера Уильяма Маунтфорда. В «Процессах над государственными преступниками» Хауэлла читатель найдет не только поучительные сведения об этом крайне легкомысленном аристократе, но и о тогдашних временах и нравах. Друг милорда, некий капитан Хилл, плененный чарами прекрасной миссис Брэйсгердл и жаждавший жениться на ней во что бы то ни стало, решил похитить ее и для этой цели взял наемный экипаж шестерней и шестерых солдат, дабы они помогли ему в отчаянную минуту. Карета, запряженная парой (еще четыре лошади ждали где-то в подставе), остановилась напротив дома милорда Крейвена на Друри-лейн, мимо двери которого миссис Брэйсгердл должна была пройти, возвращаясь из театра. Когда она проходила там в сопровождении своей матери и друга, мистера Пейджа, капитан схватил ее за руку, солдаты набросились на мистера Пейджа, обнажив шпаги, а капитан Хилл и его благородный друг попытались силой втащить миссис Брэйсгердл в карету. Мистер Пейдж стал звать на помощь; вся Друри-лейн всполошилась; теперь уж похищение было невозможно, и Хилл, велев солдатам уносить ноги, а карете ехать прочь, угрюмо отпустил свою добычу и стал ждать случая отомстить. Больше всего он ревновал ее к комическому актеру Уиллу Маунтфорду; он думал, что если убрать Уилла с дороги, миссис Брэйсгердл будет принадлежать ему; и вот ночью капитан и лорд засели в засаду, подкарауливая Уилла, и когда он вышел из дома на Норфолк-стрит, Мохэн завел с ним разговор, а Хилл, по словам генерального прокурора, сделал выпад и проткнул его насквозь.
Шестьдесят один судья из числа равных милорда признали его невиновным в убийстве и лишь четырнадцать – виновным, после чего этот на редкость легкомысленный аристократ был освобожден из-под стражи; а через семь лет он снова фигурировал в деле по обвинению в убийстве – он, милорд Уорик и трое военных затеяли драку, во время которой был убит капитан Кут.
Они бражничали веселой компанией у Локита, на Чаринг-Кроссе, и тут капитан Кут повздорил с капитаном Френчем; а милорд Мохэн, милорд граф Уорик[86] и Ходленд пытались их помирить. Милорд Уорик был ближайшим другом капитана Кута, он ссудил ему сто фунтов на уплату за офицерский чин в гвардии, а однажды, когда капитан был арестован, потому что задолжал портному тринадцать фунтов, милорд ссудил ему пять гиней и вообще нередко оплачивал его счета, и оказывал ему иные дружеские услуги. В тот вечер Френч и Кут, после того как их розняли наверху, к несчастью, спустившись в пивную Локита, вздумали выпить еще эля. Ссора вспыхнула снова – Кут набросился на Френча у стойки, после чего все шестеро кликнули своих носильщиков и отправились в портшезах на Лестер-Филд, где и началась битва. Лорды были на стороне капитана Кута. Милорду Уорику сильно поранили руку, мистера Френча тоже ранили, а честный капитан Кут получил несколько ран – и среди них рану «в левый бок, под нижние ребра и сквозь диафрагму», после чего капитану Куту пришел конец. Последовал суд над милордами Уориком и Мохэпом; после суда равных был опубликован отчет о деле, в котором эти ныне покойные легкомысленные люди живут и сейчас, и всякий, кто этим интересуется, может их там лицезреть. Лорда Уорика препроводил на суд помощник главного смотрителя лондонского Тауэра – этот благородный тюремщик шел впереди него и нес топор, а потом стоял с этим топором у скамьи подсудимых, по правую руку от обвиняемого, обратив лезвие в сторону от него; обвиняемый, войдя в залу суда, отдал три поклона – один лорду председателю суда и два – пэрам на обе стороны; его милость и пэры ответили на поклоны. Кроме этих знаменитостей в величественных париках, которые кивают направо и налево, из прошлого является целый сонм людей помельче и проходит перед нами – веселые капитаны, которые шумно ссорятся в таверне, смеются и ругаются над чашами с вином, трактирщик, который им прислуживает, служанка, которая подает им еду, судебный исполнитель, который ходит крадучись, носильщики портшезов, которые тяжело шагают по неосвещенным улицам и покуривают у садовой ограды, пока за ней бряцают шпаги. «Эй, помогите! Человек ранен!» Носильщики прячут свои трубки, помогают джентльмену перелезть через ограду и относят его, бледного и окровавленного, в веселый дом на Лонг-Эйкр, где поднимают с постели дюжего лекаря; но рана под ребра докапала беднягу. Доктор, лорды, капитаны, судебные исполнители, носильщики и благородный тюремщик с топором – где вы теперь? Голова благородного тюремщика давно слетела с плеч; лордам и судьям уже нечем кланяться; судебный исполнитель больше не вручает повестку; трубки добрых носильщиков вынуты изо рта, и сами они, со своими мускулистыми икрами, отправились прямо в преисподнюю – все безвозвратно сгинуло, как и Уилл Маунтфорд и капитан Кут. Человек, о котором пойдет речь в нашей сегодняшней лекции, видел всех этих людей – вполне возможно, он скакал среди гвардейцев за капитаном Кутом, писал письма и вздыхал по Брэйсгердл, не раз возвращался домой под хмельком в портшезе, распив не одну бутылку не в одной таверне и улизнув не от одного судебного исполнителя.
В 1709 году, когда начал издаваться «Болтун», наши прапрадеды, вероятно, обрадовались этому новому восхитительному журналу не меньше, чем впоследствии любители легкой литературы романам об Уэверли, на которые публика накинулась, забросив то хилое развлекательное чтение, монополия на которое принадлежала всяким мисс Портер, Аннам Суонси и достойнейшей миссис Рэдклифф с ее мрачными замками и пришедшими в негодность старыми призраками. Я просмотрел много комических книг, которыми забавлялись наши предки, от романов духовной соратницы Свифта, миссис Мэнли, прелестной авторши «Новой Атлантиды», до шутливых писаний Тома Дэрфи, Тома Брауна, Неда Уорда, автора «Лондонского шпиона», и еще нескольких пошлых книжек. Жаргон таверн и трактиров, остроумие вертепов составляют наиболее выразительную часть пестрой смеси, из которой состряпаны эти пасквили. В превосходном собрании газет, хранящихся в Британском музее, вы можете найти, кроме того, экземпляры «Мастера» и «Почтового вестника» с довольно любопытными образцами более высокой литературы времен королевы Анны. Вот экземпляр знаменитого журнала, на котором стоит дата: 13 октября 1708 года, среда, и название: «Британский Аполлон, или Забавные развлечения для остроумных людей, издание Общества джентльменов». «Британский Аполлон» брался ответить на любые вопросы, касающиеся остроумия, морали, науки и даже религии; две из его четырех страниц заполнены вопросами и ответами, весьма похожими на то, что можно найти в грошовых пророческих изданиях нашего времени.
Один из первых, обратившихся туда с вопросом, ссылаясь на закон, воспрещающий епископу жениться во второй раз, утверждает, что среди мирян многоженство оправдано. Общество джентльменов, выпускающее «Британский Аполлон», поставлено в тупик этим казуистом, но обещает дать ему ответ. Далее Селинда желает узнать у «джентльменов» насчет душ умерших – дана ли им радость общаться с теми, кого они больше всего любили и уважали в этой быстротечной жизни. Джентльмены из «Аполлона» могут дать бедной Селинде весьма слабое утешение. Они склонны думать, что нет; ибо, утверждают они, поскольку всякий обитатель тех сфер будет для них бесконечно драгоценнее, чем ближайшие родственники здесь, на что нужна ничтожная дружба в столь блаженном месте? Бедняжка Селинда! Она, верно, потеряла ребенка или возлюбленного, по которому чахнет, а оракул «Британского Аполлона» дал ей такой печальный ответ. Теперь она уже давно сама решила этот вопрос и знает не меньше, чем Общество джентльменов.
От богословия мы переходим к физике; К. спрашивает: «Почему горячая вода замерзает быстрее холодной?» «Аполлон» отвечает: «Нельзя сказать, что горячая вода замерзает быстрее холодной, но вода, нагретая, а потом остуженная, может быть подвержена замерзанию путем испарения ее спиртовых компонентов, которые делают ее менее способной противостоять силе мороза».
Следующий вопрос довольно щекотлив. «Мистер Аполлон, говорят, вы бог мудрости, прошу вас, объясните, почему поцелуи в такой моде, какую пользу человек извлекает из них, а также кто их изобрел; Коринна будет вам глубоко признательна». В ответ на этот странный вопрос уста Феба вещают с улыбкой: «Милая, невинная Коринна! Аполлон признается, что несколько удивлен вашим поцелуйным вопросом, особенно в той его части, где вы выражаете желание узнать, какова от этого польза. Ах, сударыня, будь у вас возлюбленный, вы не обратились бы за ответом к Аполлону, поскольку неоспоримо, что поцелуи, коими обмениваются влюбленные, доставляют им бесконечное удовольствие. Что же до их изобретения, не приходится сомневаться, что изобретатель – сама природа, и начались они с первого ухаживания».
Еще один столбец вопросов, за которым следует почти две страницы стихов, подписанных «Филандер, Армивия» и т. п. и посвященных главным образом нежной страсти; а завершается журнал письмом из Ливорно, сообщением о герцоге Мальборо и принце Евгении, осадивших Лилль, и обещанием опубликовать статью мистера Хилла на две страницы о современном положении в Эфиопии; все это напечатал Дж. Мэйо в типографии на Флит-стрит напротив Уотер-лейн. Как, должно быть, все переменилось, как мгновенно онемели оракулы «Аполлона», когда появился «Болтун» и ученые, аристократы, светские люди, гении обрели голос!
Незадолго перед тем, как произошла битва на Бойне и молодой Свифт начал знакомиться с английскими придворными нравами и английским раболепством в семействе сэра Уильяма Темпла, другой ирландский юноша приехал учиться гуманитарным наукам в старой школе Чартерхаус, близ Смитфилда; в это заведение его определил Джеймс, герцог Ормондский, покровитель семьи мальчика, опекавший Чартерхаус. Мальчик был сирота и через двадцать лет с нежной трогательностью и простотой описал некоторые сценки из своей жизни, в которой потом так прихотливо переплетались милости и удары судьбы.
Боюсь, что учителя и наставники не особенно жаловали этого коренастого, широколицего, черноглазого, добросердечного ирландского мальчика. Он был очень ленив. Его по заслугам пороли множество раз. Хотя у него самого были прекрасные способности, он заставлял других мальчиков делать за себя уроки, а сам утруждал себя лишь тем, что кое-как осиливал устные упражнения и счастливо избегал розог. Через сто пятьдесят лет после этого я самолично ознакомился, но лишь в качестве любителя, с орудием кары во имя добродетели, которое существует до сих пор и порой применяется где-нибудь в дальнем классе старой школы Чартерхаус; без сомнения, то была точная копия, а может быть, даже само старинное и хитроумное приспособление, на котором бедняга Дик Стиль покорялся своим мучителям.
Будучи очень добродушен, ленив и незлобив, этот мальчик в то же время без конца должал торговке пирогами, просрочивал векселя и вступал в денежные или, скорее, кредитные отношения с соседними торговцами сластями и булочками, рано проявил пристрастие и умение пить крепкое пиво и херес и брал взаймы у всех своих товарищей, у которых водились деньги. То, что я рассказал о юных годах Стиля, ничем не подтверждено, но если «мальчик – отец мужчины», то отец молодого Стиля из Мертона, который покинул Оксфорд, не получив степени бакалавра, и поступил в королевскую гвардию, отец капитана Стиля из стрелкового полка Льюкаса, который, благодаря покровительству милорда Катса был назначен командовать ротой, отец мистера Стиля, члена парламентской комиссии по почтовому ведомству, редактора «Газеты», «Болтуна» и «Зрителя», члена парламента, изгнанного оттуда, и автора «Нежного мужа» и «Совестливых влюбленных», если мужчина и мальчик похожи друг на друга, Дик Стиль-школьник, должен был быть самым щедрым, никчемным, добродушным мальчишкой, какие когда-либо спрягали глагол tupto – я бью, и tuptomai меня бьют, в школах всей Британии.
Едва ли не всякий из мужчин, которые оказали мне честь, слушая мои лекции, помнит, что величайший герой, какого он видел в жизни, человек, на которого он смотрел снизу вверх с необычайным удивлением и восхищением, был первый ученик в его школе. Сам директор школы едва ли вызывает такое благоговение. Первый ученик может соперничать с самим директором. Когда он начинает говорить, весь класс затихает и каждый внимательно слушает. Он с легкостью пишет латинские стихи, столь же благозвучные, как у самого Вергилия. Он великодушен и, сочинив шедевры для себя, пишет стихи и для других мальчиков с поразительной легкостью и свободой; лентяи дрожат только, как бы не обнаружилось, что за них делают упражнения, ведь их могут высечь за то, что стихи слишком хороши. Я в свое время видел немало великих людей, но не встречал ни одного столь великого, как первый ученик из моего детства: мы все считали, что он должен стать премьер-министром, и я был разочарован, когда, встретив его впоследствии, обнаружил, что в нем всего шесть футов росту.
Дик Стиль, воспитанник Чартерхауса, испытывал такое восхищение в годы своего детства и сохранял его всю жизнь. В школе и в свете, куда бы превратная судьба ни привела это заблудшее, своенравное, доброе существо, Джозеф Аддисон всегда был для него первым учеником. Аддисон делал за него упражнения. Аддисон написал лучшие его сочинения. Он был на побегушках у Аддисона: оказывал ему мелкие услуги, чистил ботинки; находиться в обществе Джо было для Дика величайшим удовольствием, и он принимал от своего наставника отповедь или удары палкой с бесконечнейшим почтением, покорностью и любовью[87].
Когда Стиль появился в Оксфорде, Аддисон был там важной фигурой, а сам он не слишком выделился. Он сочинил комедию, которую сжег по совету друга с присущей ему скромностью, и несколько стихов, которые, пожалуй, столь же возвышенны, как и сочинения других джентльменов в тот век; но потом, охваченный внезапной жаждой воинской славы, он бросил мантию и университетскую шапочку ради седла и уздечки и поступил рядовым в конную гвардию, под начало к герцогу Ормондскому, во второй полк, и, надо думать, был в числе гвардейцев, которые «все на вороных конях, с белыми перьями на шляпах и в алых мундирах с пышными кружевами» проехали в ноябре 1699 года парадным маршем перед королем Вильгельмом и многочисленными аристократами, не говоря уже о двадцатитысячной толпе народа и о более чем тысяче карет. «Гвардия как раз получила новые мундиры, – писала «Лондон пост». – Наши гвардейцы великолепны и славятся на весь мир». Но Стилю вряд ли пришлось служить всерьез. Он, много писавший о себе, о своей матери, жене, любовных увлечениях, долгах, друзьях, о винах, которые пил, рассказал бы нам и о битвах, если б участвовал хоть в одной. Его давний покровитель Ормонд, вероятно, исхлопотал ему чин корнета в гвардии, а позже он был произведен в капитаны стрелкового полка Льюкаса и назначен командиром роты благодаря покровительству лорда Катса, чьим секретарем он был и кому посвятил свое сочинение под заглавием «Христианский герой». Но когда Дик писал это пылкое, благочестивое произведение, он погряз в долгах, в пьянстве и во всех пороках, свойственных городским гулякам; рассказывают, что все офицеры Льюкаса и благородные гвардейцы смеялись над Диком[88]. И впрямь богослов, увлекающийся спиртным, – предмет, не слишком достойный уважения, а отшельник, хоть и ходит с продранными локтями, не вправе должать портному. Стиль говорит о себе, что всю жизнь он грешил и каялся. Он бил себя в грудь и благочестиво вопиял, когда каялся, это верно; но как только от воплей его одолевала жажда, он снова впадал в грех. В чудесном очерке, напечатанном в «Болтуне», где он вспоминает смерть отца, горе матери, свои собственные самые возвышенные и нежные чувства, он говорит, что его занятия прервало появление корзины с бутылками вина, «точно такого же, какое на той неделе должны продавать у Гэрроуэя»; получив вино, он позвал троих друзей, и они незамедлительно «распили по две бутылки на брата с большой пользой для себя и не расходились до двух часов ночи».
Такова была его жизнь. Джек-буфетчик то и дело вторгался в нее, принося ему бутылочку из «Розы» или приглашая его туда на попойку с сэром Плюмом и мистером Дайвером; и Дик, проливавший слезы над своими писаниями, вытирал глаза, брал шляпу с галунами, прицеплял к поясу шпагу, надевал парик, целовал жену и детей, врал что-то насчет неотложного дела и шел в «Розу» к веселым друзьям.
Пока мистер Аддисон был за границей, а также после его весьма печального возвращения на родину, когда он ожидал милости Провидения, живя в скверном домишке на Хэймаркете, молодой капитан Стиль имел куда более важный вид, чем его ученый друг по чартерхаусскому затворничеству. Почему какой-нибудь художник не изобразил разговор между бравым капитаном из полка Льюкаса в треуголке, галунах, с лицом, слегка помятым от пьянства, и этим поэтом, этим философом, бледным, гордым и неимущим, его другом и наставником в школе и вообще в жизни? Как, должно быть, хвастался Дик своими блестящими возможностями и планами, своими изысканными друзьями, очарованием юбиляров и знаменитых актрис, количеством бутылок, которые он с милордом и еще несколькими добрыми друзьями раздавил сегодня ночью в «Дьяволе» или в «Подвязке»! Нетрудно представить себе спокойную улыбку Джозефа Аддисона, который холодными серыми глазами провожает Дика, когда тот важно шагает по Моллу обедать с гвардейцами к Сент-Джеймсу, а потом твердым шагом возвращается в потертом костюме назад в свою квартиру да третьем этаже. Дик часто говорил, что его фамилия занесена для памяти в последнюю настольную книгу славного, благочестивого и бессмертного Вильгельма. Имя Джонатана Свифта было вписано туда той же рукой.
Наш достойный друг, автор «Христианского героя», благодаря своему остроумию[89], пользовался немалым успехом в лондонском свете. Он стал известным журналистом; он написал в 1703 году «Нежного мужа», свою вторую пьесу, в которой есть восхитительные фарсовые места и о которой он великодушно говорил впоследствии, когда Аддисона уже не было на свете, что там «много великолепных мазков», сделанных любимой рукой Аддисона[90]. Разве не приятно вспомнить такое содружество? Нетрудно вообразить, как Стиль, полный вдохновения и молодости, оставляет своих веселых друзей и идет к Аддисону, а тот сидит в своей убогой гостиной, бедный, но безмятежный и радостный. В 1704 году Стиль подарил обществу еще одну комедию, и представьте себе – она была так нравственна и благочестива, как уверял бедняга Дик, и так скучна, по мнению света, что «Лжец-любовник» не имел успеха.
Теперь настал час торжества для Аддисона, и он мог помочь нашему другу «Христианскому герою», так что если имелась какая-то возможность удержать этого бедного пьяного героя на ногах, его судьба была в надежных руках, а материальное положение обеспечено. Стиль получил место в почтовом ведомстве; он писал так много, нередко так изящно и всегда так мило, с таким приятным юмором и непринужденной откровенностью, с таким неисчерпаемым добродушием и беззлобной насмешкой, что его ранние сочинения можно сравнить с сочинениями самого Аддисона и читатель, по крайней мере, читатель-мужчина, прочтет их с неменьшим удовольствием[91].
Вслед за «Болтуном» в 1711 году начал выходить знаменитый «Зритель», а за ним, с различными промежутками, множество газет и журналов, которые издавал тот же редактор, – «Страж», «Англичанин», «Возлюбленный», – чья любовь была довольно пресной, – «Читатель», – которого, после второго номера, читатели больше не видели, «Театр», в котором Стиль выступал под псевдонимом сэр Джон Эдгар, когда возглавлял труппу королевских комических актеров, какового поста, равно как и звания королевского шталмейстера в Хэмптон-Корте, и места в коллегии мировых судей в Мидлсексе, и посвящения в рыцари Стиль был удостоен вскоре после восшествия на престол Георга Первого, чье дело честный Дик в предыдущее царствование доблестно отстаивал, невзирая на немилость и опасности, против самых ужасных врагов, против изменников и бандитов, против Болинброка и Свифта. С восшествием на престол Георга этот великолепный заговор распался, и блестящая возможность открылась перед Диком Стилем, чья рука была, увы, слишком беспечна, чтобы за нее ухватиться.
Стиль был женат дважды; он пережил все свои дома, свои планы, свою жену, свой доход, свое здоровье, почти все, кроме своего доброго сердца. Оно перестало беспокоить его в 1729 году, когда он умер, измученный и почти совершенно забытый своими современниками, в Уэльсе, где еще сохранились остатки его недвижимости.
Потомки отнеслись к этому милому человеку снисходительнее; женщины в особенности должны быть благодарны Стилю, так как он, пожалуй, первый из наших писателей действительно любил и уважал их. Великий Конгрив, который дает нам понять, что во времена Елизаветы женщины не пользовались особым уважением, почему женщина и играет столь незначительную роль в пьесах Шекспира, сам может преподносить женщинам блистательные комплименты, но все же смотрит на них лишь как на предметы для волокитства, обреченные, подобно самым неприступным крепостям, пасть через некоторое время перед искусством и храбростью мужчины, их осаждающего. У Свифта есть письмо, которое называется: «Совет молодой замужней даме», где настоятель высказывает свое мнение о женском обществе того времени, и из этого письма явствует, что если мужчин он презирал, то женщин презирал вдвойне. Ни к одной женщине в наше время никакой мужчина, даже будь он настоятелем и обладай Свифтовым талантом, не мог бы обращаться в столь оскорбительном тоне, со столь низменной снисходительностью. При этом Свифт даже не дает себе труда скрыть, что, по его мнению, женщина безнадежно глупа: он советует ей читать книги, словно книга – новейшее достижение культуры, и сообщает, что «даже одну дочь благородного человека на тысячу не удалось заставить читать или говорить на своем родном языке». Аддисон тоже посмеивается над женщинами, но, мягкий и вежливый, он глядит на них с улыбкой, словно это безобидные, глуповатые, забавные, милые существа, созданные лишь для того, чтобы служить мужчинам игрушкой. Стиль первым начал отдавать достойную мужчины дань их доброте и отзывчивости, а равно их нежности и красоте[92]. В его комедиях герои не произносят напыщенных фраз и не бредят о божественной красоте Глорианы или Статиры, как заставляют делать своих героев авторы рыцарских романов и высокопарных драм, которые сейчас выходят из моды, но Стиль восхищается добродетелью женщины, признает за ней ум и восторгается ее чистотой и красотой с пылкостью и верностью, которые должны снискать благосклонность всех женщин к этому искреннему и почтительному их поклоннику. Именно эта пылкость, это уважение, эта мужественность делают его комедии такими милыми, а их героев – такими благородными. Он сделал женщине, пожалуй, самый тонкий комплимент, какой когда-либо был высказан. Об одной женщине, которой восхищался и восторгался также Конгрив, Стиль сказал, что «любовь к ней была приобщением к поэзии и искусству». «Сколь часто, – пишет он, посвящая книгу своей жене, – сколь часто твоя нежность успокаивала боль в моей голове и облегчала страдания в моем истерзанном сердце! Если существуют ангелы-хранители, то и они бессильны сделать больше. Я уверен, что ни один из них не может сравниться с моей женой в доброте души или очаровании». Его сердце тает, а глаза ярко блестят, когда он встречает добрую и красивую женщину, и он приветствует ее, не только снимая шляпу, но и всем своим сердцем. Не менее нежно он относится к детям и ко всему, что связано с семейным очагом, и неоднократно выступает в защиту своей мягкости, как он это называет. Он был бы ничем без этой восхитительной слабости. Именно это составляет ценность его сочинений и придает очарование его слогу. Как и его жизнь, его произведения полны ошибок и легкомысленных заблуждений, что искупается его нежной и сострадательной натурой. О дурной и пестрой жизни бедняги Стиля до нас дошли самые любопытные документы, какие когда-либо содержали сведения о биографии мужчины[93]. Большинство писем мужчин, от Цицерона до Уолпола и великих людей нашего времени, да будет мне позволено так выразиться, неискренни, их авторы недоверчиво косились на потомков. Посвящение Стиля, обращенное к его жене, возможно, столь же искусственно; во всяком случае, оно написано с той степенью искусственности, к какой прибегает оратор, готовя выступление в парламенте, или поэт, намереваясь излить чувства в стихах или в драме. Но в нашем распоряжении около четырехсот писем Дика Стиля, написанных им жене, которые эта бережливая женщина тщательно сохранила и которые могли быть написаны только ей, ей одной. Они содержат подробности о делах, развлечениях, ссорах и примирениях этой четы; они искренни, как непринужденная беседа, безыскусственны, как детская болтовня, и доверительны, как супружеская отповедь. Некоторые написаны в типографии, где он ждет оттисков своей «Газеты» или «Болтуна», другие – в таверне, откуда он обещает вернуться к жене, «как только пропустит пинту вина», и где у него свидание с другом или кредитором; некоторые писались под сильным действием винных паров, когда его голова была опьянена бургундским, а сердце полно горячей любви к дорогой Пру; некоторые – наутро, в минуты ужасной головной боли и раскаяния, а некоторые, увы, в тюрьме, куда его упекли стряпчие и где он дожидается залога. Мы имеем возможность проследить многие годы жизни этого бедняги по его письмам. В сентябре 1707 года – именно с этого дня она начала сохранять его письма – он женился на очаровательной миссис Скэрлок. Сохранились его страстные излияния этой даме; почтительные обращения к ее матушке; искренняя благодарная молитва, когда столь желанный союз был наконец заключен; трогательные изъявления раскаянья и клятвы исправиться, когда сразу же после свадьбы появился повод для первого и нужда во втором.
После свадьбы капитан Стиль снял для своей супруги дом, «третий от угла Жермен-стрит, по левой стороне Бэри-стрит», а на следующий год купил ей виллу в Хэмптоне. Мы узнаем, что у нее был экипаж парой, а иногда и четверней; для себя он тоже держал лошадку, на которой ездил кататься. Он платил или обещал платить своему парикмахеру пятьдесят фунтов в год и всегда появлялся на людях в платье, отделанном кружевом, и большом черном парике с буклями, который кому-то, вероятно, обошелся в пятьдесят гиней. Он был весьма состоятельный джентльмен, этот капитан Стиль, и получал доходы со своих владений на Барбадосе (которые достались ему по наследству от первой жены), а также от сотрудничества в «Газете» и должности камергера при его высочестве принце Георге. Вторая жена тоже принесла ему состояние. Но, как это ни прискорбно, при всех своих домах, каретах и доходах, капитан постоянно испытывал нужду в деньгах, которых его возлюбленная супруга без конца требовала. На нескольких страницах мы находим упоминание, что сапожник приходил за деньгами, и намеки на то, что у капитана не оказалось свободных тридцати фунтов. Он посылает своей жене, «самому очаровательному созданию в мире», как он ее называет, – очевидно, в ответ на ее просьбу, которую постигла судьба прочей макулатуры и Дик разжигал ею трубки, выкуренные сто сорок пет назад, – он посылает своей жене гинею, потом полгинеи, потом две, потом полфунта чаю, потом не шлет ни денег, ни чаю, зато обещает, что через несколько дней его дорогая Пру получит кое-что; иногда он просит, чтобы она прислала ночную рубашку и бритвенный прибор в его временный приют, где непоседливый капитан спрятался от судебных исполнителей. Ах, этот «Христианский герой» и капитан в отставке, служивший в полку Льюкаса, должен прятаться от презренного подручного шерифа! Краса и гордость рыцарства, он должен бледнеть при виде судебной повестки! Рукой самого бедняги Дика записано, – эта странная коллекция хранится в Британском музее и поныне, что рента за дом супругов на Жермен-стрит, с невыразимой заботливостью снятый для Пру, третий от Бэри-стрит, не уплачивалась до тех пор, пока хозяин не наложил арест на мебель капитана Стиля. Аддисон продал виллу и обстановку в Хэмптоне и, удержав ту сумму, которую его неисправимый друг был ему должен, передал остаток вырученных денег бедняге Дику, который нисколько не сердился на Аддисона за его поспешный поступок и, вероятно, был очень рад всякой продаже или аресту на имущество, которые приносили ему в результате сколько-нибудь наличных денег. Имея небольшой дом на Жермен-стрит, за который он был не в состоянии платить, и виллу в Хэмптоне, на покупку которой он занял деньги, капитан Дик не успокоился до тех пор, пока в 1712 году не снял гораздо более изысканный, просторный и роскошный дом на Блумсбери-сквер, несчастный хозяин которого получил не большее возмещение, чем его собрат в Сент-Джеймсе, и нам известно, что Дик устраивал там большие приемы и держал полдюжины подозрительных молодцов в ливреях, которые прислуживали его благородным гостям, а он распускал слух, что его слуги все до одного судебные исполнители. «Я жил как принц в изгнании, – пишет этот благодушный мот, не скупясь на благодарности Аддисону, помогавшему ему издавать «Болтуна». – Я жил как принц в изгнании, который призывает на подмогу могущественного соседа. Мой союзник меня погубил; когда я уже призвал его, то не мог больше существовать, не находясь от него в зависимости». Несчастный бедствующий принц из Блумсбери! Представьте его себе во дворце, где его охраняют зловещие союзники с Чансери-лейн.
Рассказывают много историй, свидетельствующих о его безрассудстве и добродушии. Так, доктор Хоудли сообщает весьма характерный случай; этот случай показывает нам жизнь того времени и нашего бедного друга, очень слабого, но неизменно доброго, как в пьяном, так и в трезвом состоянии.
«Мой отец, – рассказывает доктор Джон Хоудли, сын епископа, – в бытность свою епископом Бэнгорским, получил приглашение на собрание вигов, происходившее в «Трубе», на Шайр-лейн, где сэр Ричард несколько переусердствовал, имея двоякую цель, – почтить бессмертную память короля Вильгельма, так как было четвертое ноября, и довести своего друга Аддисона до той степени опьянения, чтобы у него развязался язык, поскольку в силу флегматичного характера этот джентльмен в то время мало подходил для общества. Стилю это не удалось. В тот вечер произошло два достопримечательных события. Там оказался известный шутник, ныне покойный шляпный мастер Джон Слай, и этому Джону вздумалось вползти в залу на коленях с кружкой эля в руке, выпить за бессмертную память и удалиться тем же манером. Стиль, сидевший рядом с моим отцом, шепнул ему: «Смейтесь же. Человеколюбие этого требует». Так как Ричард в тот вечер сам недалеко ушел от этого шутника, его усадили в портшез и отправили домой. Но он ничего не желал слушать и требовал, чтобы его доставили к епископу Бэнгорскому, невзирая на поздний час. Однако носильщики отнесли его домой и втащили по лестнице наверх, хотя он страстно желал угостить их внизу, после чего он мирно улегся спать»[94].
Известна и другая забавная история, которую, я полагаю, включил в свое собрание знаменитый собиратель курьезов мистер Джозеф Миллер или его последователи. Сэр Ричард Стиль в ту пору, когда он был очень увлечен театром, построил очень милый собственный театр и прежде чем открыть двери своим друзьям и гостям, пожелал испробовать, достаточно ли хорошо будет слышно в зале актеров. Для этого он уселся в самом заднем ряду и попросил плотника, который строил помещение, сказать что-нибудь со сцены. Тот сперва отнекивался, ссылаясь на то, что непривычен произносить речи и не знает, что сказать его чести; но добродушный хозяин попросил его сказать, что взбредет в голову; тогда плотник заговорил, и его было прекрасно слышно. «Сэр Ричард Стиль! – сказал он. – Вот уже три месяца я со своими подручными работаю в этом театре, но мы еще и не нюхали денег вашей чести; мы будем вам весьма признательны, ежели вы заплатите нам немедля, а покуда вы этого не сделаете, мы не вобьем больше ни единого гвоздя». Сэр Ричард сказал, что ораторское искусство плотника безукоризненно, но тема ему не очень по душе.
В произведениях Стиля глубоко подкупает их непосредственность. Он писал так быстро и небрежно, что ему поневоле приходилось быть искренним с читателем, у него просто не хватало времени лгать. Он был не слишком начитан, зато хорошо знал жизнь. Он видел людей, бывал в тавернах. Он жил среди ученых, военных, придворных аристократов, светских модников и модниц, писателей и острословов, обитателей долговых тюрем и завсегдатаев всех клубов и кофеен города. Его любили во всяком обществе, потому что сам он любил всякое общество; и нам приятно видеть его радость, как приятно слышать смех детей в зале во время пантомимы. Он был не из тех отшельников, чье величие обрекло их на одиночество; напротив, он, мне кажется, был самым общительным и восторженным из писателей; и полный сердечного восхищения; и доброжелательства, он покоряет тем, что приглашает вас разделить с ним удовольствие и хорошее расположение духа. Его смех звенит по всему дому. Вероятно, он был незаменим, когда играли трагедию, и плакал не меньше, чем самая чувствительная молодая дама в ложе. У него было пристрастие к красоте и доброте, где бы он их ни встречал. Он страстно любил Шекспира, больше, чем любой из его современников; и в силу щедрости и широты своей натуры призывал всех вокруг любить то, что любил сам. Он никого не огорчал кислой похвалой; он жил в мире и был его неотъемлемой частью; и его наслаждение жизнью представляет собой поразительную противоположность яростному возмущению Свифта и одинокой безмятежности Аддисона[95]. Позвольте мне привести вам по отрывку из сочинений каждого писателя, они написаны на одну и ту же тему, очень серьезны и любопытнейшим образом раскрывают мироощущение каждого. Мы уже говорили, что юморист откликается на все человеческие поступки, от самых пустяковых до самых важных и торжественных. Все, кто читал наших старых классиков, знают ужасные строки Свифта, в которых он выявляет свою философию и описывает конец человечества:[96]
Смущен, ошеломлен и потрясен,
Явился мир перед Зевесов трон.
Бледнели грешники, и небосвод
От гласа Зевса, мнилось, упадет:
«Вы беззаконны, в ваших душах тьма,
Ничтожные по скудости ума,
Вы, в лабиринте бросившие нить,
Из гордости не ставшие грешить,
Вы, что других клянете, дабы впредь
В геенне побежденных лицезреть,
(Один народ другим укажет путь,
Не зная воли Зевсовой ничуть),
Безумье ваших дел я зрю сейчас,
Мне мерзко даже гневаться на вас,
Отныне не молите вам помочь.
Я проклинаю вас – ступайте прочь!»
Аддисон, беря эту же тему, пишет в совершенно ином тоне в своем знаменитом очерке о Вестминстерском аббатстве («Зритель», Э 26): «Я, со своей стороны, хотя всегда сохраняю серьезность, не знаю, что значит быть печальным, и поэтому могу взглянуть на самые глубокие и торжественные явления природы с таким же удовольствием, как и на самые веселые и приятные. Когда я смотрю на могилы великих людей, всякое чувство зависти исчезает во мне; когда я читаю эпитафии красавиц, всякое неумеренное желание гаснет, когда я вижу горе родителей на могиле, мое сердце трепещет от сострадания; когда я вижу могилу самих родителей, то думаю, как тщетно скорбеть о тех, за кем мы вскоре последуем».
(Я уже говорил, что, по моему мнению, сердце Аддисона едва ли очень уж трепетало и он едва ли слишком предавался «тщетной скорби»).
«И когда, – продолжает он, – я вижу королей, лежащих рядом с теми, кто их свергнул; когда я думаю о соперничавших талантах, обладатели которых покоятся бок о бок, или о святых, которые своими раздорами и спорами раскололи мир, я со скорбью и удивлением размышляю о мелкой суете, о людских кознях и препирательствах. И когда я вижу даты на могилах тех, кто умер только вчера, и тех, кто умер шестьсот лет назад, я думаю о Великом Дне, когда все мы станем современниками и вместе приблизимся к престолу вечного судии».
На эту же тему пишет третий наш юморист. Вы, конечно, обратили внимание в предыдущих цитатах на своеобразие юмора каждого писателя – как раскрывается тема и используется контраст, как рисуется факт смерти и на какие размышления этот факт наводит, – а теперь послушайте третьего, его тема здесь – тоже смерть, скорбь и могила. «Впервые я испытал чувство горя, – пишет Стиль в «Болтуне», – после смерти моего отца, когда мне еще не было пяти лет; однако я был скорее удивлен тем, что происходит со всеми в доме, и едва ли действительно понимал, почему никто не хочет с нами играть. Помню, я пошел в комнату, где он лежал в гробу, – рядом в одиночестве сидела моя мать и плакала. В руке у меня была теннисная ракетка, и я начал колотить ею по гробу и звать папу; не знаю, каким образом, но я сознавал, что он заперт там. Мама подхватила меня на руки и, не в силах более безмолвно сносить горе, ее обуревавшее, чуть не задушила меня в объятиях и сказала, захлебываясь слезами, что «папа не слышит меня и больше не будет со мной играть: его закопают в землю, и оттуда он уже к нам не выйдет». Она была красивая женщина, с благородной душой, и в ее горе было достоинство, при всем неистовстве этого порыва, который, как мне кажется, поразил меня неосознанным ощущением скорби, проникшим, прежде чем я понял, что значит скорбеть, в глубину моей души, и с тех пор сострадание стало самой слабой моей струной».
Можно ли найти три более характерных склада человеческого ума? «Болваны, что знаете вы об этой тайне? – говорит Свифт, попирая могилу и пронося свое презрение к человечеству буквально за порог смерти. – Жалкие слепые ничтожества, как смеете вы пытаться постичь непостижимое и как могут ваши тусклые глаза проникнуть в бездну бесконечных небес?» Аддисон, в гораздо более мягких выражениях и снисходительном тоне, высказывает почти те же чувства; он говорит о соперничестве талантов, о борьбе между святыми с тем же скептическим спокойствием. «Смотрите, сколь ничтожный и суетный прах являем мы собой», – говорит он, улыбаясь над могильными плитами, и глядит в небо, усматривая там, как всегда, божественное сияние, и говорит почти вдохновенно о «Великом Дне, когда все мы станем современниками и вместе приблизимся к престолу вечного судии».
Третий тоже говорит о смерти и, по-своему выражая мораль, которой учит небо, ведет вас к гробу отца, показывает свою красавицу мать в слезах и себя, несмышленого малыша, в удивлении стоящего рядом с нею. Он сам проливает искренние слезы, когда берет вас за руку и ищет сочувствия. «Смотрите, как добры, непорочны и прекрасны женщины, – говорит он, – как отзывчивы маленькие дети! Будем же любить их и друг друга, брат мой, – видит бог, как нужны нам любовь и прощение». Итак, каждый смотрит на это по-своему, говорит на свой лад и молится тоже по-своему.
Когда Стиль взывает о сочувствии к действующим лицам в этой очаровательной сцене Любви, Скорби и Смерти, кто может ему отказать? Ему уступаешь, как наивной просьбе ребенка или мольбе женщины. Мужчина чаще всего тогда и бывает по-настоящему мужчиной, когда он, так сказать, утрачивает свой мужской характер, и чувствами его движет преданность, сострадание и самопожертвование, безотчетная потребность лелеять невинных и несчастных, защищать нежных и слабых. Чем был бы Стиль, если бы он не был нашим другом? Ведь он далеко не самый блестящий юморист, не самый глубокий мыслитель: зато он наш друг; мы любим его, как дети любят свои игры, потому что он чудесен. Разве мужчину любят за то, что он самый умный или мудрый из людей, или женщину за то, что она самая добродетельная, или говорит по-французски, или играет на фортепьянах лучше всех прочих представительниц ее пола? Признаюсь, я люблю Дика Стиля-человека и Дика Стиля-писателя гораздо больше, чем многих гораздо лучших людей и гораздо лучших писателей.
К сожалению, почти все собравшиеся здесь должны верить на слово, какой Стиль был чудесный, и, разумеется, не могут с ним познакомиться. Дело не в том, что Стиль был хуже своего времени; напротив, он был гораздо лучше, правдивее и мужественнее большинства своих современников. Но в том обществе творились такие дела и звучали такие разговоры, которые заставили бы вас содрогнуться. Что почувствовал бы в наше время воспитанный юноша, если бы увидел на балу, как юная особа, предмет его нежных чувств, достает табакерку и отправляет в нос понюшку; или если бы за обедом, сидя рядом с кавалером, она нарочно сунула в рот нож? Если бы она перерезала этим ножом глотку своей матери, матушка едва ли была бы более скандализована. Я говорю об этих особенностях минувших времен в оправдание своего любимца Стиля, который был не хуже, а нередко много деликатнее своих ближних.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
85
В присутствии воров (лат.).
86
Муж леди Уорик, вышедшей замуж за Аддисона, и отец молодого графа, которого привели к постели отчима, дабы он увидел, «как умирает настоящий христианин». Он был одним из самых бесшабашных среди аристократов того времени; в любопытном собрании старых преданий в Британском музее я нашел немало историй о причудах веселого лорда. Он был популярен в Лондоне, как популярны дерзкие люди и в наше время. Современники весьма снисходительно рассказывают о его проделках. Мохэн, едва выйдя из тюрьмы, где сидел за второе убийство, отправился к курфюрсту Ганновера с посольством лорда Мэкклсфилда, которое должно было вручить его превосходительству орден Подвязки, пожалованный Анной. Летописец этого посольства отзывается о его светлости как о милейшем молодом человеке, который попал было в дурную компанию, но потом раскаялся и исправился. Впоследствии он вместе с Макартни убил герцога Гамильтона, причем лорд Мохэн тоже нашел свою смерть. Звали этого милого барона Чарльз, а не Генри, как его недавно окрестил один сочинитель.
87
«Стиль питал к Аддисону величайшее почтение и открыто выказывал это во всяком обществе весьма своеобразным образом. Аддисон время от времени над ним подшучивал; но всегда воспринимал это благосклонно». – Поп, «Примечательные случаи» Спенса.
«Сэр Ричард Стиль был человеком с самым чудесным характером в мире; даже во время тяжелой болезни он, казалось, желал только доставлять и получать удовольствие». – Д-р Янг, «Примечательные случаи» Спенса.
88
Образцом веселой комедии Стиля может служить небольшая сцена между двумя превосходно изображенными сестрами в его пьесе «Похороны, или Модная скорбь». Дик написал ее, по его словам, «ощущая необходимость оживить свою репутацию», которая благодаря «Христианскому герою», видимо, была слишком строгой, серьезной и благопристойной в глазах читателей этого благочестивого сочинения.
(Занавес поднимается, леди Шарлотта сидит sa столом и читает, леди Хэрриет вертится перед зеркалом, любуясь собой.)
Л. X. Право, сестрица, ты бы лучше поговорила со мной (глядится е зеркало), чем сидеть, уставясь в книгу, в которой ты все равно не прочла ни строчки. Милейший доктор Льюкас пускай пишет там, что ему вздумается, но у тебя из головы не выходи! Фрэнсис, лорд Харди, который теперь стал графом Брамптонским и он у тебя все время стоит перед глазами. Вот погляди на меня и попробуй сказать, что это не так.
Л. Ш. Ты с ума сошла, милочка. (Улыбается.)
Л. X. Вот видишь, я знала, что ты не сможешь это сказать и удержаться от смеха. (Заглядывает через плечо Шарлотты.) А Я читаю здесь это имя так же ясно, как ты: Ф-р-э-н, Фрэн, с-и-с-сис, Фрэнсис, оно в каждой строчке книги.
Л. Ш. (вставая). Я вижу, бесполезно спорить с такой бесстыдницей, – но даже если допустить, что ты права насчет милорд! Харди, куда простительней восхищаться другим, чем собственной особой.
Л. X. Ну, нет… Или, пожалуй, ты права, если кто в самом деле тщеславно любуется собой, но ведь я-то собой вовсе не восхищаюсь… Фу! Не может быть, чтобы у меня в глазах была эта мягкость. (Смотрится в зеркало.) Они не пронизывающие: нет, это все чепуха, мужчины будут обо мне говорить. Некоторые так ценят красивые зубки… О боже, что значат красивые зубки! (Скалит зубы.) У самого что нп на есть черного негра такие же белые зубы, как у меня… Нет, сестрица, я собой не любуюсь, но во мне сидит дух противоречия: я вовсе не влюблена в себя, а только соперничаю с мужчинами.
Л. Ш. Да, но мистер Кэмпли одолеет даже такого соперника, как ты, моя милая.
Л. X. Ну что я тебе сделала, зачем ты вспоминаешь этого нахала? Самоуверенный наглец. Нет, право, если я, как со вздохом писал о людях обоего пола один влюбленный в меня поэт, предмет любви и зависти всеобщей… то со мной не так-то просто сладить… Спасибо ему… Я хочу только быть уверена, что смогу хорошенько его помучить, отвергая, а потом решу, должен он расстаться с жизнью или нет.
Л. Ш. Право, сестрица, если говорить всерьез, это тщеславие вовсе тебе не к лицу.
Л. X. Тщеславие! Все дело в том, что мы, беспечные люди, гораздо искренней, чем вы, благоразумные: вся твоя жизнь – уловки. Говори прямо. Вот взгляни. (Увлекает ее к зеркалу.) Разве тебя не охватывает тайное удовольствие, когда ты видишь это цветение в себе, эту стройность фигуры, эту живость лица?
Л. Ш. Ну, простушка, если я сперва и буду так проста, чтобы немножко увлечься собой, я все же знаю, что это нехорошо, и стараюсь исправиться.
Л. X. Фу! Фу! Расскажи эту надоевшую историю старой миссис Фардингейл, а я не поспеваю думать с такой быстротой.
Л. Ш. Те, кто считает, что нечего спешить понять себя, вскоре убеждаются, что уже поздно. Но скажи мне по совести, тебе нравится Кэмпли?
Л. X. Он мне не противен, но боюсь, этот выскочка думает легко добиться моей благосклонности. Ах, ненавижу людей с таким сердцем, которое я не могу разбить в любой миг. В чем ценность дорогого фарфора, как не в том, что он так хрупок? Если б не это, можно было бы поставить в буфет хоть каменные кружки. – «Похороны», действие 2.
«Мы знали, чем обязана сцена его [Стиля] произведениям; во всей труппе едва ли был стоящий актер, которому его «Болтун» не помог бы стать лучше своими наставлениями». – Сиббер.
89
«Теперь уже нет рядом с ним того прекрасного человека, который волею небес, став его другом и начальником, мог бы посоветовать ему, что сказать или сделать. Добавлю еще кое-что ему в утешение. Самая прекрасная женщина, какую знал мужчина, не может теперь сетовать и пенять на него за то, что он пренебрег собой». – Стиль (о себе). «Театр», Э 12, февр. 1719–1720 гг.
90
В «Похоронах» есть великолепное и очень смешное место, которое Сидней Смит использовал как пример юмора в своих лекциях.
Владелец похоронного бюро разговаривает со своими служащими об их обязанностях.
Сейбл. Эй, вы! Побольше уныния (показывает, каким должно быть выражение лица). Вот у этого малого прекрасный вид, подобающий смерти, – поставьте его рядом с покойным; эта деревянная рожа пускай будет наверху лестницы; этот малый словно перепугай насмерть (вид у него такой, будто его постигло какое-то несчастье), пусть станет в конце залы. Так… Но я вас всех расставлю сам… А теперь ни в коем случае не смейтесь, как бы вам ни было смешно. Глядите вон туда… Эй ты, щенок, почему у тебя такой здоровый и цветущий вид? Неблагодарная скотина, разве я тебя не пожалел, не забрал тебя у хозяина, где ты был на побегушках, не дал почувствовать, как приятно получать жалованье? Разве я не платил тебе сперва десять, потом пятнадцать, потом двадцать шиллингов в неделю, чтобы у тебя была скорбная рожа? И чем больше я тебе плачу, тем ты веселее глядишь!
91
«Писано у меня на квартире, 16 ноября.
Есть люди, располагающие многими удовольствиями и развлечениями, которыми они не пользуются; поэтому благое и полезное дело – указывать им на их собственное счастье и обращать их внимание на такие примеры их счастливой судьбы, которых они склонны не замечать. Людям, состоящим в браке, часто не достает такого наставника, и они влачат свои дни, глядя с тоской и неудовольствием на то, что по мнению других является воплощением всех радостей жизни и убежищем от ее треволнений.
К этой мысли я пришел, побывав у одного своего старого друга, которого знаю еще со школы. Он приехал в город на прошлой неделе с семьей на всю зиму; а вчера утром он сообщил мне, что его жена приглашает меня к обеду. Я у них чувствую себя, так сказать, как дома, и все семейство знает меня как своего доброжелателя. Я, право, не могу выразить то удовольствие, которое испытываю, когда дети с живой радостью встречают мой приход. Мальчики и девочки стараются обогнать друг друга, заслышав мой стук в дверь; и тот, кто остался позади, бежит обратно сообщить отцу, что это мистер Бикерстаф. В тот день мне отворила хорошенькая девчушка, которая, как все мы думали, меня забыла, потому что последние два года семья была в отъезде. Когда она все же узнала меня, мы были поражены, и, едва я вошел, завязался разговор, после чего они засыпали меня сотнями рассказов, которых наслышались в деревне, насчет того, что я женился на дочери своей соседки; и тогда хозяин дома, мой друг, сказал: «Нет, если мистер Бикерстаф женится на дочери кого-нибудь из своих старых друзей, то уж, надеюсь, отдаст предпочтение моей: вот мисс Мэри уже шестнадцать, и она будет ему прекрасной вдовой, не хуже других. Но я хорошо его знаю; он так влюблен в память тех, которые блистали в пору его юности, что даже и не смотрит на нынешних красавиц. Я отлично помню, старина, как часто вы заходили домой среди дня, чтобы освежить лицо и переодеться, когда в сердце вашем царила Тераминта. По дороге сюда, в карете, я напомнил жене некоторые ваши стихи, посвященные этой женщине». В таких воспоминаниях о всяких пустяках, случившихся давным-давно, весело и приятно прошел обед. После обеда хозяйка вместе с детьми вышла из комнаты. Когда мы остались одни, он взял меня за руку. «Ну, дорогой друг, – сказал он, – я от души рад вас видеть; я уж думал, вы никогда не посетите тех, с кем снова сегодня обедали. Вам не кажется, что моя добрая хозяюшка несколько изменилась с тех пор, как вы последовали за нею из театра, чтобы узнать, как она ко мне относится?» И я заметил, как при этих словах слеза скатилась по его щеке, что меня глубоко растрогало. Чтобы переменить разговор, я сказал: «Да, это уже не то юное создание, каким она была, когда вернула мне письмо, которое я передал ей от вас, со словами: «Надеюсь, вы благородный человек и более не станете брать на себя такие поручения и преследовать ту, которая не сделала вам ничего дурного, а также, из добрых чувств к своему другу, убедите его не стремиться более к цели, которой ему никогда не достигнуть». Помните, я принял эти ее слова всерьез, и впоследствии вам пришлось пользоваться услугами вашего кузена Билла, который подучил свою сестру познакомиться с нею ради вас. Но не может же она вечно оставаться пятнадцатилетней». – «Пятнадцатилетней! – воскликнул мой друг. – Ах, ведь вы всю жизнь прожили холостяком и не понимаете, какое это великое, ни с чем не сравнимое счастье быть понастоящему любимым! Клянусь, самое красивое лицо в мире не может пробудить во мне такие сладостные мысли, какие охватывают меня, когда я вижу эту чудесную женщину. Ведь лицо ее увяло именно потому, что она неустанно ухаживала за мной, когда я лежал в лихорадке. А потом начался приступ другой болезни, которая чуть не отправила меня прошлой зимой на тот свет. Уверяю вас, я обязан ей столь многим, что не могу спокойно думать о теперешнем состоянии ее здоровья. Ну, а что касается пятнадцати лет, она каждый день приносит мне счастье, несравненно высшее, чем то, какое я когда-либо испытывал, обладая ее красотой, когда был в расцвете молодости. Каждое мгновение ее жизни дает мне новые примеры ее снисходительности к моим желаниям и благоразумного отношения к моим деньгам. Она мне кажется еще красивее, чем в тот миг, когда я впервые ее увидел; нет ни малейшей перемены в ее чертах, которую я не мог бы проследить с того самого мгновения, как перемена эта возникла под влиянием тревоги за мое благополучие и состояние. Таким образом, думается мне, любовь, которую я почувствовал к ней такой, какова она была, возросла от моей благодарности к ней, такой, какова она стала. Любовь к жене настолько же выше того праздного чувства, которое обычно обозначают этим словом, насколько громкий смех клоуна ниже изысканного веселья благородного человека. О! Это бесценное сокровище! Занимаясь домашними делами, она всегда боится найти какой-нибудь недостаток, и от этого слуги слушаются ее как дети; самый скверный из них ощущает такой искренний стыд за свой проступок, какой не часто видишь у детей в иных семьях. Я говорю с вами откровенно, мой старый друг; с тех пор как она заболела, то, что раньше приносило мне живейшую радость, теперь рождает некоторую тревогу. Когда дети играют в соседней комнате, я прислушиваюсь к топоту этих бедняжек, узнаю их шаги и думаю о том, что с ними будет, если они в столь нежном возрасте потеряют мать. Удовольствие, с которым я раньше рассказывал сыну о битвах и расспрашивал дочь, как поживает ее кукла, теперь обернулось внутренним беспокойством и печалью».
Когда он говорил все это с нежностью, вошла милая хозяйка и с ласковым выражением на лице сказала, что «обшарила всю кладовку в поисках чего-нибудь лакомого, чтобы угостить старого друга». Глаза ее мужа радостно заблестели при виде оживления на ее лице и я понял, что все его страхи мигом улетучились. Она, смекнув по нашим лицам, что мы говорили о чем-то очень серьезном, и видя, что муж под притворной бодростью скрывает сильную озабоченность, сразу догадалась, о чем у нас была речь, и, обращаясь ко мне, сказала с улыбкой: «Мистер Бикерстаф, не верьте ни одному его слову; я еще вас обоих перешиву, как не раз вам обещала, если только он будет заботиться о себе больше, чем делает это с тех пор, как мы сюда приехали. Знаете ли, он уверяет меня, что Лондон более здоровое место, чем деревня; он видит, что здесь живут некоторые из его старых друзей и школьных товарищей – молодые люди в красивых париках. Я едва уговорила его сегодня утром, выходя из дома, закутать шею». Мой друг, которого всегда необычайно радует ее милый юмор, попросил ее посидеть с нами. Она согласилась с той непринужденностью, какая свойственна умным женщинам и, чтобы поддержать хорошее настроение, которое она принесла с собою, стала надо мной подшучивать. «Мистер Бикерстаф, помните, как вы однажды вечером последовали за мной из театра; что если вы отвезете меня туда завтра и мы с вами займем самую лучшую ложу». Это навело нас на долгий разговор о матерях нынешних красавиц, которые блистали в ложах двадцать лет назад. Я сказал ей: «Я рад, что вы передали свое очарование детям, и уверен, что через какие-нибудь полгода ваша старшая дочь будет ослепительна».
Мы услаждали себя разговорами о воображаемом успехе юной леди, как вдруг послышался барабанный бой, вслед за чем появился мой маленький крестник и объявил мне войну. Мать, со смехом пожурив мальчика, хотела выставить его за дверь, но я не пожелал так быстро с ним расстаться. И хотя он слишком бурно изъявлял свою радость, я из разговора с ним выяснил, что у этого ребенка прекрасные способности и он отлично успевает по всем предметам, хотя ему пошел всего девятый год. Я обнаружил, что он отлично знает басни Эзопа, но он откровенно сказал мне, что «не любит их учить, потому что все это выдумки»; по этой причине он год назад принялся штудировать биографию Дона Беплианиса Греческого, Гэя Уорика, «Семерых поборников» и других великих людей прошлого. Отец не мог скрыть, как он гордится начитанностью сына, и я заметил, что такие увлечения весьма полезны. Я услышал от мальчика суждения, которые могут пригодиться ему на всю жизнь. Он говорил о том, как скверно справился с долом Джон Хикертрифт, о недостатках необузданного характера Бевиса Саутхемптонского, о своей любви к святому Георгу за то, что он покровитель Англии; таким образом, в его мыслях незаметно сформировались понятия благоразумия, добродетели и чести. Я превозносил его успехи, и тут его мать сказала, что «та маленькая девочка, которая открыла мне дверь, по-своему более образованна, чем он». «Бетти, сказала она, – интересуется главным образом феями и духами и иногда зимним вечером приводит в ужас горничных своими рассказами, так что они боятся ложиться спать».
Я засиделся у них допоздна, и мы говорили то о забавных, то о серьезных делах с тем особым удовольствием, которое придает всяким беседам ощущение, что все друг другу приятны. По дороге домой я раздумывал о разнице между семейной и холостяцкой жизнью; и должен признаться, меня втайне тревожила мысль, что, когда я умру, после меня ничего не останется. В таком раздумье я вернулся к своей семье, то есть к служанке, собаке и кошке, которые одни делят со мной радости и горести, что бы со мной ни случилось». – «Болтун».
92
«Если говорить о таких чувствах, как привязанность и уважение, здесь прекрасному полу повезло в том смысле, что по отношению к женщине одно гораздо теснее связано с другим, чем по отношению к мужчине. Любовь к женщине неотделима от уважения к ней; и поскольку она, естественно, предмет привязанности, то женщина, к которой вы питаете уважение, в той или иной степени пользуется и вашей любовью. Мужчина, плененный красотой женщины, шепотом говорит другу, что «у этого создания глубокий ум, это обнаруживаешь, когда поближе с ней познакомишься». И если вы хорошенько разберетесь, в чем заключается ваше уважение к женщине, то обнаружите, что восхищаетесь ее красотой больше других. Ну, а среди нашего брата, мужчин, я предпочитаю общество веселого Гарри Бикерстафа; однако душеприказчиком моим будет Уильям Бикерстаф, самый благоразумный человек в нашем семействе». – «Болтун», Э 206.
93
Переписка Стиля после его смерти перешла в собственность дочери его второй жены, мисс Элизабет Скэрлок из Кармартеншира. Она вышла замуж за достопочтенного Джона, впоследствии ставшего третьим лордом Тревором. Когда она умерла, часть писем перешла к мистеру Томасу, внуку внебрачной дочери Стиля, а часть – к ближайшему родственнику леди Тревор, мистеру Скэрлоку. Опубликовал их профессор Никольс, и мы цитируем отрывки из позднейшего переиздания 1809 г.
Вот он перед нами в период ухаживания, которое длилось не слишком долго:
«30 авг. 1707 г.
Миссис Скэрлок.
Сударыня!
Прошу прощения за плохую бумагу, но я пишу в кофейне, куда мне пришлось зайти по делу. Вокруг меня грязная толпа, деловые лица, разговоры о деньгах; а все мои мечты, все мое богатство – в любви! Любовь вдохновляет мое сердце, смягчает мои чувства, возвеличивает душу, влияет на каждый мой поступок. Моей милой очаровательнице я обязан тем, что многие благородные мысли постоянно приписываются моим словам и поступкам; таков естественный результат этого щедрого чувства, оно делает влюбленного чем-то похожим на предмет его любви. Так, моя дорогая, мне суждено с каждым днем становиться все лучше, благодаря нежной подруге. Взгляните, моя красавица, на небо, которое сделало Вас такой, и присоединитесь к моей молитве, дабы оно осенило нежные, невинные часы нашей жизни, просите творца любви благословить таинства, которые он предопределил, и присовокупить к нашему счастью благочестивое ощущение, что мы смертны, и покорность его воле, которая одна может направить наши души на твердый путь, угодный ему и нам обоим.
Остаюсь неизменно Вашим покорнейшим слугой
Рич. Стилем».
А в скором времени миссис Скэрлок получила еще одно письмо, по-видимому, написанное в тот же день!
«Суббота, вечер (30 авг. 1707)
Дорогая, милая миссис Скэрлок!
Я был в очень достойном обществе, где мы много раз пили за Ваше здоровье, называя Вас «женщиной, которую я люблю больше всего на свете»; так что я, можно сказать, напился ради Вас, а это означает куда более, чем «я умираю за Вас».
Рич. Стиль».
«Миссис Скэрлок.
1 сент. 1707 г.
Сударыня!
Нет ничего труднее на свете, чем быть влюбленным и все-таки заниматься делами. Что до меня, всякий, кто со мной разговаривает, угадывает мою тайну, и я должен обуздать себя, иначе это сделают другие.
Сегодня утром один человек спросил меня: «Каковы новости из Лиссабона?», а я ответил: «Она изумительно красива». Другой пожелал узнать, «когда я в последний раз был в Хэмптон-Корте», и я ответил: «Это будет во вторник вечером». Молю Вас, позвольте мне хоть руку Вашу поцеловать, прежде чем наступит этот день, чтобы душа моя хоть немного успокоилась. О, любовь!
Я, наверное, мог бы написать для Вас целый том; но все слова на свете бессильны выразить, как преданно и с каким самоотверженным чувством
я остаюсь всегда Вашим
Рич. Стилем».
Через два дня после этого он излагает свои обстоятельства и виды на будущее матушке этой молодой особы. Письмо помечено: «Канцелярия лорда Сандерленда, Уайтхолл»; он утверждает, что его годовой доход составляет 1025 фунтов. «Я мечтаю, – пишет он, – о радостях трудолюбивой и добродетельной жизни и постараюсь всячески Вам угождать».
Они поженились, по всей вероятности, около 7-го числа. Примерно в середине следующего месяца уже заметны следы размолвки; она была слишком щепетильна и суетна, а он – пылок и опрометчив. Общий ход событий виден из дальнейших отрывков. Уже был снят «дом на Бэри-стрит, в Сент-Джеймсе».
«Миссис Стиль.
16 окт. 1707 г.
О любимейшее существо на свете!
Прости меня, но я вернусь только в одиннадцать, потому что встретил школьного товарища, который приехал из Индии и сегодня вечером должен рассказать мне вещи, прямо касающиеся твоего преданного супруга
Рич. Стиля».
«Миссис Стиль
Таверна «Фонтан», 8 часов, 22 окт. 1707 г.
Моя дорогая!
Прошу тебя, не беспокойся; сегодня я с успехом завершил многие дела и теперь подожду часок-другой своей «Газеты».
«22 дек. 1707 г.
Моя дорогая женушка!
Сообщаю тебе, что не буду дома к обеду, так как у меня есть цела на стороне, о которых я тебе расскажу (когда мы увидимся вечером), как и подобает примерному и преданному мужу».
«Таверна «Дьявол», Темпл-бар,
3 янв. 1707–1708 г.
Дорогая Пру!
Сегодня я частично справился с делами и покамест прилагаю к письму две гинеи. Дорогая Пру, я не могу приехать к обеду. Я все время думаю о твоем благополучии и никогда не буду больше небрежен к тебе, хотя бы на миг.
Твой верный муж» и т. д.
«14 янв. 1707–1708 г.
Дорогая жена!
Мистер Эджком, Нед Аск и мистер Ламли попросили меня провести с ними часок у Джорджа на Пэл-Мэл, так что я прошу тебя поскучать до двенадцати, а потом лечь спать», и т. д.
«Грейз-Инн, 3 февр. 1708 г.
Дорогая Пру!
Если придет человек со счетом от сапожника, пускай ему скажут, что я сам к нему зайду, когда вернусь. Я остаюсь здесь, чтобы попросить Тонсона учесть мне вексель, и пообедаю с ним. Его ждут с минуты на минуту.
Твой покорнейший слуга», и проч.
«Кофейня на Теннис-Корте,
5 мая 1708 г.
Дорогая жена!
Надеюсь, то, что я сегодня сделал, будет тебе приятно; но нынешнюю ночь я проведу у одного пекаря, Лега, напротив таверны «Дьявол» на Чаринг-Кросс. Я повидаюсь с болванами, которые мне надоели, и буду иметь удовольствие увидеть тебя бодрой и веселой.
Если ученик типографа окажется дома, пришли его сюда; и пускай миссис Тодд пришлет с ним мою ночную рубашку, домашние туфли и чистое белье. Я дам тебе знать о себе рано утром», и т. п.
Далее следуют еще десятки подобных же писем, иногда с гинеями, пакетиками чая или грецких орехов, и т. п. В 1709 году начал выходить «Болтун». Вот любопытная записка, датированная 7 апреля 1710 года:
«Посылаю тебе [дорогая Пру] квитанцию на соусник и ложку, а также долговую расписку Льюиса на 23 ф., что в общей сложности составляет 50 ф., которые я обещал тебе для предстоящего случая.
Я не знаю в жизни счастья, которое могло бы сравниться с тем наслаждением, какое ты доставляешь мне своим существованием. Я прошу тебя только добавить к прочим твоим достоинствам страх огорчить и встревожить любящего тебя человека, и я буду счастливейшим из смертных. Встать пораньше и в веселом расположении духа… было бы невредно».
В другой записке он сообщает, что не приедет домой, так как его «пригласил к ужину мистер Бойл». «Дорогая Пру, – пишет он по этому случаю, не посылай за мной, иначе я буду выглядеть смешным».
94
Об этом знаменитом епископе Стиль писал:
Легка, должно быть, у него душа:
Он всем грехи прощает, не греша.
95
Вот некоторые из его более поздних писем:
«Леди Стиль.
Хэмптон-Корт, 16 марта 1716–1717 гг.
Дорогая Пру!
Если ты написала мне письмо, которое я должен был получить вчера вечером, то прошу прощения, что я не смогу ответить до следующей почты… Твой сын в настоящую минуту крайне занят, он кувыркается на полу и сметает перышком песок. Он растет очень милым ребенком, живым и веселым. Кроме того, он весьма образован: умеет читать букварь, и я дал ему своего Вергилия. Он делает весьма проницательные замечания по поводу картинок. Мы с ним большие друзья и часто играем вместе. Его вещи изорвались, и, надеюсь, ты не рассердишься, если я куплю ему кое-что из одежды, какую мы с миссис Эванс сочтем нужным».
«Леди Стиль.
(Без даты)
Ты пишешь, что хотела бы услышать от меня хоть небольшую лесть. Смею заверить, я не знаю никого, кто более тебя достоин похвалы и для кого любые комплименты отнюдь не будут лестью. Твоя жизнь сама говорит за себя, если учесть, что ты очень красивая женщина, любящая уединение, что ты не глупа, и вместе с тем очень откровенна; я мог бы перечислить все пороки, которые сопутствуют хорошим качествам у других людей и от которых ты свободна. Но право, хотя ты – воплощение всех совершенств, у тебя есть один странный недостаток, который почти затмевает для меня все хорошев в тебе; беда в том, что ты не любишь одеваться, выезжать, блистать, даже когда я прошу тебя об том, и не даешь мне возможности гордиться тобой или хотя бы с гордостью сознавать, что ты моя…
Твой любящий преданный муж
Рич. Стиль.
За обучение Молли уплачено за три месяца. Дети совершенно здоровы».
«Леди Стиль.
26 марта 1717 г.
Моя дорогая Пру!
Получил твое письмо и ужасно огорчился, узнав, что тебя все время мучают головные боли… Поверь, прошлой ночью, лежа на твоем месте и положив голову на твою подушку, я разрыдался при мысли, что моя очаровательная, капризная девочка не спит, терзаемая болью; мне казалось грехом уснуть.
Я был бы счастлив, если бы в награду за эти нежные чувства «Ваше Прудентство» пожаловали меня своим расположением…»
В то время, когда было написано вышеприведенное письмо, леди Стиль находилась в Уэльсе, где приводила в порядок свое имение. Стиль примерно в это же время был очень увлечен проектом перевозок живой рыбы, который, как он не раз уверял свою жену, по его убеждению, принесет ему немалое состояние. Однако из этого ничего не вышло.
Леди Стиль умерла в декабре следующего года. Она похоронена в Вестминстерском аббатстве.
96
Лорд Честерфилд послал эти стихи Вольтеру с любопытным письмом.